Текст книги "Среди врагов"
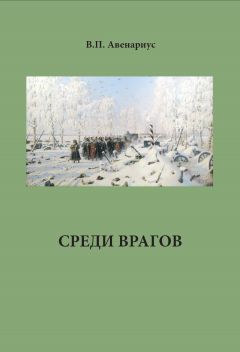
Автор книги: Василий Авенариус
Жанр: Историческая литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 6 (всего у книги 8 страниц)
Глава пятнадцатая
Новый побег. Мальчик в бочке с медом. Опять острожники. Казак Свириденко
Сентября 27. Не дано мне, знать, выбраться из вражьего стана – заколдованный круг.
Вчера господа офицеры были опять в театре; денщики тоже разбежались; остался один Фортюне ради призора не то за домом, не то за мною. Ушел я в свой угол будто бы спать. У самого же одно на уме: не удастся ли наконец улизнуть?
А Фортюне, уроженец Шампани, до родного напитка большой охотник. Приходит ко мне, зовет распить бутылочку шампанского: сэкономил-де со стола офицеров. Я отговорился нездоровьем, а сам прислушиваюсь: что-то будет? Слышу: в столовой пробка хлопнула; потом веселую песенку затянул мой шампанец. Все тише, тише. Замолк.
Подождал еще с полчаса. Та же тишина; только из столовой словно храп доносится. Тихонько приподнялся, подкрался к двери в столовую. На столе нагоревшая свеча и пустая бутылка из-под шампанского; а на стуле перед бутылкой Фортюне: руки на край стола сложил, голову на руки и храпит на всю Ивановскую.
Была не была! Не прошло и пяти минут, как я был на улице – на сей раз уже с дневником за пазухой.
Был восьмой час вечера; но в конце сентября с шести уже темнеет. В первый побег мой ночь была светла как день, от зарева пожаров. Теперь нигде уже не горело; на небе хоть и вызвездило, но луна еще не восходила, а на уличные фонари преславным Наполеоновым муниципалитетом масло еще не отпущено, да и фонарщики, пожалуй, разбежались. Не падай там и сям на улицу свет из окон, можно было бы с прохожими лбами столкнуться. Так как я был во французской солдатской форме, то остановить меня никому и на ум не приходило.
Мостом через Москву-реку перебрался я в Замоскворечье; иду себе куда глаза глядят. А кругом мерзость запустения: Замоскворечье с его деревянными домишками чуть ли не сплошь выгорело.
Вот и городу, кажись, конец; заборы, пустыри и огороды потянулись. В потемках по лужам шлепаю.
Тут кто-то навстречу плетется да как взвизгнет по-бабьи:
– Господи Иисусе Христе! Француз!
– Не бойся, матушка, – говорю, – я свой же, русский.
– Русский? А почто же на тебе амуниция как бы французская?
Объяснил.
– Так, так, – говорит. – Да куда идешь-то?
Сказал.
– Э, миленький! – говорит. – Отселе ты прямехонько в лапы к ним угодишь.
– Да где же, – говорю, – в какую сторону наше русское войско?
– Уж того, прости, сказать тебе не умею. А тебе, бедненькому, значит, негде и голову приклонить? Эка беда какая! Ну, да что ж, на одну-то ночку до утра, так и быть, у себя приютим. Живу я со стариком-дедом да сыночком; муж в ополчение ушел. Только угостить тебя, кроме картошки, прости, нечем. Сейчас вот только у соседа-огородника мешок картошки выпросила.
И пошел я с нею. А она о нуждах своих плачется, рада хоть перед чужим человеком душу отвести.
– Ономнясь, – говорит, – когда еще ряды горели, ходили мы с сынишкой за товаром: купцы бедным людям все задаром ведь отдавали. Ни хлеба, ни муки для нас уже не нашлось. Но тут Господь Бог нам на Москве-реке мокрой пшенички послал. Барка, вишь, с грузом хлебным на реке тоже загорелась и ко дну пошла. Ну, народ за пшеничкой и ныряет.
– Да неужто – говорю – и ты с другими нырять пошла?
– Куда уж мне, бабе! Но Сенька мой, даром что мальчуган, а шустрый, лихой нырок. И на хлеб-то, и на блины целый мешок нам вынырял.
– В рядах вы, стало быть, ничего съестного уже не раздобыли?
– Все, что посытнее, эти супостаты еще до нас растаскали. Заходим в бакалейную, а там, глядь, хваты в этаких шапках с длинными гривами уже орудуют. «Бонжур, – говорят, – мамзель!» – «Не мамзель, – говорю, – а мадам. Вот и парнишка мой». Поняли. «Карашо, мадам, карашо» – говорят; один в щеку его ущипнул, другой ему пригоршню каленых орехов сует. Сенька же у меня сластена, в кадку с медом всей пятерней уже залез. Как схватит его тот за ноги да вниз головою в кадку; сам, баловник, хохочет-заливается, и товарищи его тоже. А мед-то вязкий; еле-еле я мальчишку из кадки вытащила. И смех и грех: вся голова в меду, волоса в одно слиплись, и глаза-то, и нос, и уши залепило. Уж мыла я потом его в реке, отмывала…
Рассказывает баба и сама уже смеется-фыркает, и я с нею смеюсь, хоть самому и не до смеха.
Доплелись мы так до ее лачужки. Выскочил тут к нам ее Сенька, мальчишка лет этак девяти.
– Что, мамка, достала хлебушка?
– Хлебушка, родимый, нетути; а вот картошки мешок.
– Дедка! Дедка! Мамка картошки принесла и француза с собой привела.
Слез и дедка с полатей, глядит на меня грозно, бесстрашно.
– К сатане его на колена!
– Не француз он, – говорит баба, – от них же убег.
Стал старик тут меня допытывать, ратный ли я человек.
– Сам, – говорит, – тридцать пять годов в солдатах под Суворовым протрубил.
И пошел повествовать про былые времена, про великого Суворова.
– Вот и Кутузов – такой же суворовец, – говорит, – не устоять супротив него этому Бонапарту, помяни мое слово!
– А Москву-то, – говорю, – как-никак почти всю уже спалили.
– Жаль-то, жаль ее, матушки – говорит – да нет худа без добра: обстроится, небось, краше прежнего. А баре, пока что, хочешь не хочешь, в поместьях своих год-другой поживут, и крестьянам оттого польза будет.
– Какой ты, дед, умный, рассудливый.
– Мы, внучек, – говорит, – хоть и в лаптях ходим, а на три аршина в землю видим.
Тем часом хозяйка нам и картошку сварила. Воздали честь картошке, а там и спать завалились, – те на полатях, а я на лавке, да как убитый до утра проспал.
Поутру снова в путь-дорогу, но уже обратно в город. Прежние опять улицы и переулки.
Вдруг – владыко всемилостивый! – мимо меня острожников гонят, да тех же самых, у коих в логове я намедни побывал, по страшилищу-эфиопу Мирошке сразу их опознал. К забору прижался, пока минуют. Ан и Мирошка меня уже заприметил:
– Старый знакомый! – кричит мне и рукой машет. – Ну и хитер же ты, как погляжу: французом обрядился!
Тут унтер конвойный, капрал, меня к допросу:
– Какого, мол, полка? Где с ними спознался?
Только рот я раскрыл, как ломаная речь моя меня уже и выдала.
– Э! – говорит. – Да ты сам никак русский?
– Русский, – говорю и стал было оправдываться.
Но он и слушать не хотел.
– Запанибрата с разбойниками, – стало, и сам разбойник. Забирай его!
И забрали меня, раба Божья. А моим «старым знакомым» то и любо – еще издеваются:
– Нашего полку прибыло!
Тут вдогонку за нами кто-то скачет, гикает. Оглянулись конвойные, оторопели:
– Казак! казак!
А казак уже налетел, пикой своей одного из них приколол, другого… Но капрал изловчился, тесаком его по правой руке хватил. Опустилась рука молодецкая. А коню его четвертый конвойный штык в грудь всадил. И грохнулся конь, а с конем и всадник. Не успел казак приподняться, как тот же конвойный прикладом по башке его ошеломил.
Острожники меж тем врассыпную наутек пошли. Пустился было и я бежать, да встречный взвод французский меня задержал. Двоих острожников тоже воротили, связали. Очнулся и казак, да руки за спину скручены. И погнали нас вперед, а приколотых конвойных товарищи на руках понесли.
Долго ли, коротко ли, доставили нас и до места – некоего казенного здания. Вышел на двор к нам офицер, выслушал доклад капрала и наши имена записал. Казак Леонтием Свириденко назвался, я – Андреем Смоленским. И ввергли нас в подвал, в коем десятка два с лишком таких же узников уже томилось.
– Здорово, други любезные! – говорит им Свириденко. – Знать, тоже решения себе ожидаете?
– Какое уж тут решение! – говорят. – Над всеми смерть неминуечая висит.
– Ну что ж, на миру и смерть красна. Двум смертям не бывать, а одной не миновать. Да князь Кутузов нас, даст Бог, еще выручит. Слыхали ль вы, братцы, самоновейшую песню солдатскую про светлейшего?
– Не слыхали, – говорят.
– Так вот слушайте. По всему лагерю ее уже распевают.
И запел он ту песню, а я, чтобы не забыть, тут же записал:
Хоть Москва в руках французов,
Это, право, не беда!
Наш фельдмаршал князь Кутузов
Их на смерть впустил туда.
Вспомним, братцы, что поляки
Встарь бывали также в ней;
Но не жирны кулебяки —
Ели кошек и мышей.
Свету целому известно,
Как платили мы долги,
И теперь получат честно
За Москву платеж враги.
Побывать в столице – слава!
Но умеем мы отмщать:
Знает крепко то Варшава,
И Париж то будет знать!
Глава шеснадцатая
Партизаны Фигнер и Давыдов
Сентября 28. Душа-человек этот Свириденко! Своими россказнями про житье-бытье казачье всех нас, узников, как живой водой опрыснул. Наполеон у него ворона: «не вороньему-де клюву рябину клевать»; французы – то «хранцузы», то «францы-хранцы»; сам же он – партизан из донских казаков. Партизанских отрядов, дескать, теперь уже много: Фигнера, Давыдова, Сеславина, Кудашева, Вадбольского. Вольными птицами охотятся за всякой зловредной мошкарой: неприятельских фуражиров и мародеров ловят, курьеров перехватывают, отбивают транспорты, забирают пленных.

илюстрацея вставлена времено должын тут быть партизанен давыдов(?)
Еще с месяц назад Свириденко служил под атаманом донцов, графом Платовым; да партизан Фигнер его к себе переманил.
«Стояли мы тогда, братцы мои, – рассказывает Свириденко, – недалече от подмосковного села Леташовки, где сам фельдмаршал наш в крестьянской избе проживал. Там же, только на другом конце села, квартировал генерал Ермолов. Умаялся Ермолов за день, прилег уже соснуть, накрылся буркой, как вдруг к нему вестовой:
– Ваше превосходительство! Офицер один вас спрашивает.
– Какой офицер?
– Чужой, не нашего корпуса.
– А фамилия?
– Фамилии не сказывает.
– Что же ему нужно от меня?
– Не могу знать. По тайному, мол, самонужнейшему делу.
– Ну, проси.
Входит офицер.
– Честь имею представиться, – говорит, – штабс-капитан Фигнер. Человек семейный: жена, дети, а кормить нечем. Так вот, – говорит, – мною замышлено отважное дело. Выгорит ли – одному Богу известно. Но буде мне суждено погибнуть, то смею ли, ваше превосходительство, надеяться, что отечество осиротевшую семью мою обеспечит?
– Истинные заслуги перед отечеством не остаются без награды, – говорит Ермолов. – Но в чем ваш замысел?
– Замысел мой, – говорит, – пробраться к виновнику сей войны и одной пулей положить конец и ему, и войне.
– Да вас туда не пустят!
– Попытаюсь. Терпеть те неистовства, что чинят враги в наших городах и селениях, долее не могу. Прошу только дать мне на выбор восемь человек казаков.
– На свой страх взять это необычайное дело, – говорит Ермолов, – я не решаюсь. Доложу фельдмаршалу.
Тут же опять оделся, пошел на другой конец села к избе светлейшего, велел разбудить старика.
– Да что он, этот Фигнер, не сумасшедший? – спрашивает Кутузов.
– Не похоже. Так как быть прикажете?
Покачал головой фельдмаршал и рукой махнул:
– Христос с ним! Пускай берет себе восемь казаков на общем основании партизанов.
Вот Фигнер и выбрал нас, казаков, восемь человек».
– А что же, – говорим мы, – в Кремль к Наполеону он все же так ведь и не пробрался?
– Где уж! Не раз бывал и у Кремля, францем-хранцем переряженный, с часовыми заговаривал – говорит-то по-ихнему как свой человек – да старая гвардия, пуще каменной стены кремлевской, императора своего стережет-бережет. Ну, и стал он тут партизаном, в неприятельский лагерь в образе ихнего офицера забирается, от них же, неприятелей, выведывает, что у них да как, а улягутся спать, он среди сна со своими казаками и нагрянет – то-то переполоху наделает, – смехота да и только! Имени его, Фигнера, слышать уж не могут, крупную цену за голову его положили.
– Ты, стало, все при нем же и состоишь?
– Нет – говорит – недели две назад к другому перешел: такой же партизан, подполковник Давыдов.
– С чего ж ты это? Ведь Фигнер, говоришь ты, и ловок, и храбр?
– Храбр-то он как черт, но и в лютости черту не уступит. Заберет, бывало, партию пленных, расставит в ряд да из пистолета сам же их с одного фланга до другого хлоп да хлоп. Просят те поскорей хоть их прикончить, чтобы им не видеть, как товарищи умирают; а он, не спеша, для каждого свой пистолет снова заряжает: поспеете, мол, в царствие небесное.
– Подлинно, что дьявол! Еще потешается над беззащитными, безоружными…
– То-то вот. Как пришел тут запрос, не пожелаете ли кто под Вязьму в партизанский отряд к Давыдову: требуется-де ему еще 600 человек – я с другими и вызвался.
– Под Вязьму? Да в Москву-то ты оттоле как попал?
– А Давыдову понадобилось к светлейшему рапорт о своих действиях доставить. Меня и командировал.
– Так ты, что же, теперь к Кутузову только ехал или уж обратно к своему Давыдову?
– Обратно. Да нечистый попутал! Приятели-казаки, вишь, на прощанье меня угощая, давай похваляться, что в гостях у Бонапарта побывали: проскакали-де до самого Кремля с гиком да криком, такого страху на францев нагнали, что те, как воробьи перед коршуном, во все стороны рассыпались. За живое меня схватило. «Дай-ка, – думаю себе, – проскачу тоже этак через всю Москву». Поскакал, да на партию пленных наскочил. Как своих от воробьев не отбить? Ан воробьи коршуна заклевали…
Сентября 30. Четвертые сутки в подвале. На 26 человек ведро воды да по фунту ржаного хлеба на брата. Ни стула, ни скамьи, ни соломы. Сидим, лежим на голом полу. Чтобы отогреться и голове мягче было, ложимся вплотную друг к дружке, а голову соседу на плечо кладем. Сам я около Леонтия Свириденко укладываюсь, и возлюбил он меня, как брата меньшого: есть у него брат на Дону тоже на возрасте. А как я взаперти скучаю и тоскую, то он меня разговором своим всячески развлекает, особливо про теперешнего командира своего, Дениса Васильевича Давыдова.
В родителя своего пошел Денис Васильевич: командовал тот Полтавским конным полком и сынка семи лет уже взял к себе в солдатскую палатку. Там, в лагере, благословил мальчика сам Суворов.
– Любишь ли ты солдат, друг мой? – спросил его Суворов.
А он в ответ:
– Люблю графа Суворова: в нем все – и солдаты, и победа, и слава!
– О, помилуй Бог, какой удалой! – сказал Суворов. – Это будет военный человек. Я не умру, а он уже три сражения выиграет!
Сам-то Денис Васильевич не казак, а гусар. В первую войну с французами был адъютантом у Багратиона. Сражался потом и со шведами, и с турками.

Когда тут возгорелась нынешняя кампания, он был уже подполковником Ахтырского гусарского полка. Но партизанская служба его тем прельщала, что в ней над собой у него нет прямого начальства. И вот с конца августа месяца он держит неприятеля в непрестанном страхе по большой Смоленской дороге около Вязьмы, делает поиски фуражиров, перехватывает транспорты и целые команды…
– И поверишь ли, – говорит Свириденко, – что на биваке, что на коне – еще вирши слагает да так складно, что любо-дорого!
Сочинитель, стихотворец! Быть может, новый еще Ломоносов, Державин?
Глава семнадцатая
Последнее утро. Казачья отповедь «францам-хранцам» и предсмертная просьба. Мушерон-заступник
Октября 1. Дамоклов меч! Приносит нам нынче дежурный солдат хлеба и воду:
– Ну, – говорит, – в последний раз.
– Как, – говорю, – в последний? А завтра что же?
– Завтра…
Жалостливо таково взглянул на меня, на других и вон пошел. У меня от ужаса волоса на голове шевельнулись.
– Слышали, братцы? – говорю.
– А что? – говорят. – Нешто мы по-ихнему разумеем?
– Завтра нам ни хлеба, ни воды уже не будет; значит, и самих-то нас на свете не будет!
Хоть никому и не верилось, что жизнь ему подарят, но утопающий хватается за соломинку, и у каждого теплится еще луч надежды. Теперь этот луч у всех погас, и одни давай проклинать судьбу свою, Наполеона и французов, другие головой поникли и крестились. Не пал духом один только Свириденко.
– Планида нам, братцы вы мои, такая, стало, вышла, – говорит. – Промеж жизни и смерти и блошка не проскочит.
– Да неужели тебе, Леонтий, – говорят, – не страшно на тот свет со всеми грехами твоими предстать?
– Несть человека без греха, токмо един Бог, – говорит. – Вершил в свою голову – ну и казнюсь, на милость Всевышнего уповаю. «Радость бывает, – сказано – на небеси и о едином грешнике кающемся». К уходу же из земной юдоли изготовиться всякому должно. Поди-ка сюда, Андрюша.
Отвел меня к решетчатому оконцу и голос понизил, чтобы другим не слышно было.
– Друг ты мой сердечный, – говорит, – мил ты мне стал, что по плоти сродник…
– И ты, Леонтий, мне тоже, – говорю.
– Ну, вот. Так выбрал я тебя для последней моей воли. Памятуючи Страшный Суд, исполнишь ли ты сию волю мою в точности?
– Вот тебе Никола Святитель…
– Ладно. Ты – малый ведь грамотный? Дал мне фельдмаршал Кутузов ответное письмо к командиру Денису Васильичу Давыдову. Меня францы, знаю, ни в коем разе не помилуют. Ты же, яко агнец безгласный, ведом на заклание; тебя чаша смертная, даст Бог, еще минует.
Говоря так, снял он с ноги сапог, развернул онучу и оттуда сложенный лист бумаги мне подал.
– На-ка, прочитай, только чур, про себя. Что тут написано – и мне не ведомо, да и знать не надлежит.
– Так как же ты мне-то, – говорю, – читать даешь?
– Читай, не разговаривай!
Стал я читать.
– Ну что, – говорит, – разбираешь?
– Еще бы: писано четко писарской рукой.
– Ну, ну, читай, да не торопись, чтобы до последнего слова все запомнить.
Дочитал я, вдругорядь перечел.
– Ну что, запомнил?
– Кажись, да.
– «Кажись!» Нет, голубчик, прочитай-ка еще в третий раз да, как урок в школе, сам себе ответь.
Перечел я и в третий раз, память-то у меня крепкая – от начала до конца без запинки себе повторил.
– Теперь знаю, – говорю, – наизусть, как Отче наш.
– И благо.
Отнял у меня бумагу и на мелкие кусочки изорвал.
– Так-то вернее, – говорит. – У тебя еще отобрали бы, а что в памяти схоронено, того никто уже не отберет. Так вот, слушай мой наказ: будешь на воле, первым делом постарайся на Смоленскую дорогу к Денису Васильичу добраться. Доберешься – с глазу на глаз передашь ему от слова до слова то, что сейчас прочитал. Понял?
– Все старания приложу.
– И в тетрадку свою, смотри, из тех слов ни единого не заноси.
– Зачем заносить, коли в мозгу все вписано?
– То-то же. А то, не дай Бог, еще кто прочитает. Да вот еще что: оставлена у меня на Дону жена и детки. На Дон к ним тебе, вестимо, не добраться. Но в Дениса Васильича команде есть у меня земляк, из одной же станицы, по имени Семен Мандрыка. Запомнишь?
– Семен Мандрыка? Не забуду.
– На всяк случай в тетрадку запиши. Ему-то вот и расскажешь все про меня, а он уж, как восвояси на Дон соберется, поклон посмертный мой семейке моей отвезет.
И занотовал я себе для памяти оного Семена Мандрыку. А про то, что прочитал в ответном письме кутузовском, хранение устам кладу – ни единого слова, на случай, что сия тетрадь кому-либо в руки попадет.
Октября 2. «Смерть! Где твое жало? Ад! Где твоя победа?»
Еще на рассвете вывели нас всех, 26 человек, из подвала.
– Братцы вы мои, – говорит Свириденко. – Смертный час наш пробил. Перед Богом все мы грешны, перед смертью все равны. Распрощаемся же как братья да не помянем друг друга лихом.
И перелобызались мы все меж собой со щеки на щеку, и погнали нас из города в чисто поле. Все примолкли, в землю очи потупили; один только казак мой идет бодро-весело, солдатскую песню про светлейшего напевает:
Хоть Москва в руках французов,
Это, право, не беда!
Наш фельдмаршал князь Кутузов
Их на смерть впустил туда…
– С ума казак со страху спятил! – толкуют меж собой конвойные.
– Про меня они, что ли? – спрашивает Свириденко.
– Про тебя, – говорю, – что со страху, мол, бодришься.
– Ах вы, францы-хранцы глупые, безмозглые! Казак Леонтий Свириденко да чтобы смерти устрашился? Вы за что деретесь? За злато-серебро, за звездочку да за своего Бову Королевича. Мы, казаки, за дом свой, за жену да детей деремся, за царя и веру православную. Гляньте-ка, как живут казаки на святом Дону: подымется парень на ноги – уж сидит он на коне борзом, скачет по полю, забавляется, копьем острым потешается, силы-крепости набирается, чтобы с неприятелем поразведаться, умереть за землю русскую. Придет время добру молодцу, по приказу царя белого, собираться в путь на нехристей – наш казак того только и ждал. Молода жена коня его ведет, дети саблю и копье несут, а старик-то со старухою – избави Боже, чтоб заплакали. Заведут сына во зеленый сад, перекрестят до Троицы и дадут ему Ангела-Хранителя. «Ты служи, сын, верой-правдою; добывай себе славы-почести, нас утешь ли, стариков седых». У старухи все уж уготовано: сшита сумочка из бархата, из того, что сорвал муж с плеч паши турецкого, а повешена та сумочка на шелковом, тонком поясе красной девушки-черкешенки. Как берет старик тут горсть сырой земли, кладет в сумочку ту бархатную: «Вот тебе, сын, благословение, вот земля тебе от Дона тихого: с ней живи весь век свой и умри на ней»…
Слушаем мы все казачью отповедь конвойным – заслушались; слушают и сами конвойные – переглядываются, плечами пожимают.
А вот мы и в поле. Общая для всех нас яма на сон вечный уже вырыта, перед ямой столб водружен. Против столба взвод стрелков под ружьем стоит, с флангу юный сулейтенант – по-нашему подпоручик – с бумагами в руках, а в стороне заслуженный толстяк-майор с саблей наголо…
Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя! Не вниди в суд с рабом Своим…
– Г-н сулейтенант! Сделайте перекличку, – говорит майор.
Тот по списку всех 26 человек выкликает, а у самого голос так и звенит. Все налицо.
– Теперь прочитайте им приговор.
Принимается тот читать, весь как полотно побледнел, словно собственный свой приговор читает; голос обрывается, подбородок трясется, бумаги в руках ходуном ходят.
Гляжу я на него, слышу его голос, но, как в беспамятстве, слов его в толк не возьму. В глазах мутится, колени подгибаются…
– Сержант! – кричит майор. – Смотри-ка: малый сейчас упадет.
Сержант подхватывает меня под руки, и кого же тут я узнаю в нем? Сержанта Мушерона, с коим не виделся с достопамятного Бородинского боя! И он тоже признал меня:
– Андре! Мон пти буржуа!
Подошел к майору, тихонько ему что-то рапортует.
– Нет, нет! – говорит майор. – Приговор императором уже конфирмован.
Мушерон мой, однако, не унимается:
– Помилуйте, г-н майор! Ведь он решительно ни в чем не повинен. Лейтенант д’Орвиль вам подтвердит, что взял его с собою из Смоленска. Передоложили бы вы генералу Бертье…
Закряхтел толстяк: очень солоно ему, видно, иметь дело с главным адъютантом Наполеона.
– Все равно ведь, – говорит, – ни к чему.
– По крайней мере на душу себе г-н майор греха не возьмет.
– Ну, хорошо. Отведи его в сторону.
– Постой, друг! – кричит мне тут Свириденко. – Тебя никак простили?
– Простить еще не простили, – говорю, – отсрочку дают, доколе не передопросят.
– А передопросивши, смилуются. Скажи же им, что я казацкую одежу мою тебе оставляю: в могилу со мной лишь бы ладунку с землей родной положили.
– Что у них там еще, Мушерон? – кричит майор.
– Так и так, – говорю.
А Мушерон:
– Смею доложить г-ну майору: казаком одеться ни один француз все равно не захочет; французская же форма этого мальчика кому-нибудь из наших еще пригодится.
– Хорошо, – говорит майор. – Отведи-ка его подальше, чтобы обморока с ним опять не случилось.
И отвел меня мой заступник за ближайшую погорелую избу. Присели мы на обугленное бревно и выжидаем. Вот ружейный выстрел, вот другой, третий и т. д.
– Двадцать пять! – сосчитал Мушерон и поднимается с бревна.
Слезы ручьем у меня из глаз.
– Ну, ну, ну! – говорит Мушерон. – Правосудие того требовало. Благодари Бога, что сам еще на земле, не под землей, и солнце на тебя светит.
Не могу больше писать: сил нет… До завтра.









































