Текст книги "Среди врагов"
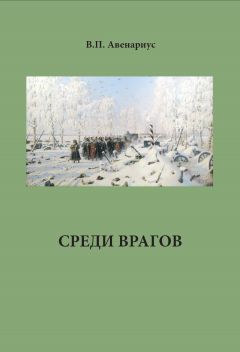
Автор книги: Василий Авенариус
Жанр: Историческая литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 4 (всего у книги 8 страниц)
Глава девятая
Поджоги или случайность? В «боярском дворце». Мародеры. Фальшивая сторублевка
Москва, сентября 3. Вот мы и в первопрестольной. Устроились. Но как! Точно тогда в Смоленске – на пожарище. Сами еще только, слава Богу, не горим.
Загорелось в разных концах еще с вечера. Полагают: поджоги. Кто говорит: от колодников, коих будто бы Ростопчин нарочито затем из острога выпустил. Кто говорит: от самих домохозяев – не себе, дескать, так и врагам бы не досталось. А кто – что французские же солдаты, на радостях подгулявши, красного петуха подпускают. Кто их разберет! В больших городах и то ведь, что ни день, где-нибудь да горит. Ну вот и тут, за уходом домохозяев и главнокомандующего со всей пожарной командой, тушить некому. Загорится, а дальше и поджигать нечего: пламя само собой гулять пошло.
Утро обещало день погожий, и в 11-м часу уже совершился Наполеонов въезд в Москву. Открывала шествие старая конная гвардия. За нею он сам верхом со свитой, но – смирение паче гордости – в сером своем походном хитоне посреди золота, звезд и лент генералитета. За ним церемониальным маршем – любимцы его, гренадеры, в высоких мохнатых шапках, а за гренадерами – молодая гвардия, конная и пешая. Торжественно, что и говорить, но без музыки и барабанов, словно без воинских почестей кого до могилы провожали… Почем знать, не хоронили ли и взаправду славу Наполеона?
Проводили его до Кремля, где дворец для него Мюратом намечен, а сами затем разбрелись по городу – искать и для себя пристанища. Для нашего полка в конце концов нашлось таковое в некоем казенном здании, в коем раньше нас другой полк уже водворился. Поторговался наш полковник Триго с чужими; уступил ему тот надворный флигель. Но на всех офицеров помещений не хватило. Собрались тогда капитан Ронфляр и лейтенант д’Орвиль на разведки; меня да Пипо, капитанова денщика, с собой тоже прихватили.
Идем, по сторонам озираемся. Потянулась тут каменная преграда с чугунной узорчатой решеткой – сад.
– Дворец боярский – пале де бояр! – говорит капитан. – Чего лучше?
Вот и ворота, тоже чугунные. За воротами, в глубине двора, каменные палаты в один ярус, коли не боярские – ибо бояр на Руси у нас, сколько я знаю, уже не водится – то барские. Ставни, однако же, по всему лицу закрыты: сами баре, стало быть, в отлучке.
Стучимся в ворота. Из подвального окошка высунулась голова бабья в платке – и опять спрятались.
– Ну-ка, Пипо – говорит капитан – полезай и отвори ворота.
Пипо, шустрый малый, мигом на ограду, с ограды на решетку, а с решетки на двор; впустил нас.
Тут, хочешь не хочешь, выползли из своей конуры старик-дворник с своей старухой.
– Здорово, старче! – говорю. – Принимай гостей. Ведь ты, чай, дворник?
Оглядел нас зверем исподлобья, как диких зверей.
– Старшой, – говорит. – Да вам чего?
– Господ твоих ведь нет в Москве. Дом свободен; так вот прими-ка на постой господ офицеров. Французы – народ не лихой, даром никого не обидят.
– Да ты сам-то, любезный, кто будешь? Говоришь по-нашему, по-россейскому.
Сказал ему. Почесал он затылок, стал потихоньку совещаться с женой.
– Да что, Терентий, – говорит старуха. – Все же как-никак офицеры; грабить не станут. А не впустим, так силой вломятся.
Впустили. Обошли мы весь дом: раздолье, поистине барское жилье. Пол – паркет, обои – с пукетами, потолки – лепные, с амурами, мебель – где шелковая, где резная дубовая – роскошь, да и только!
В одной комнате посреди пола огромные узлы с перинами и подушками, в другой – заколоченные ящики.
– Что, – спрашиваю, – в ящиках?
– В ящиках-то?.. – говорит Терентий. – Одна блажь господская!
– Какая блажь?
– Да картины. Со стен, вишь, сняли, чтобы в деревню увезти, да подвод не хватило; на моем попечении и оставили.
– Картины? – говорит капитан Ронфляр. – Любопытно посмотреть, какая такая живопись московская.
Велел старику подать топор и клещи; раскупорили один ящик, вынули картину, другую, третью – все масляные. Глядит капитан и руками разводит:
– Милль тоннер! Тысячу громов! Вы, д’Орвиль, ведь парижанин?
– Парижанин.
– Бывали, конечно, в Лувре?
– Как не бывать! Такой картинной галереи в целом мире нет.
– Так смотрите же: ведь это настоящий…
Он назвал какого-то иностранного живописца, должно быть знаменитого, но коего имени я никогда не слыхал.
– А это такой-то – говорит д’Орвиль и другое имя называет. – Ему цены нет! Знаете, г-н капитан, я взял бы себе эту штуку: такие картины – лучшее украшение.
– Погодите – говорит капитан. – Может, найдется еще что получше.
Все ящики раскупорили, отложили себе каждый по три, по четыре картины.
– А рамы где же?
– На чердак снесены – говорит Терентий.
– И пускай. Надо ж что-нибудь и хозяевам оставить!
– Простите, господа, – говорю я тут. – Но вы берете себе чужие вещи, не спросясь хозяев…
Рассмеялся мне в лицо капитан, потрепал меня по плечу.
– Военная добыча, мой друг. На войне как на войне! А ля герр ком а ля герр! Ну-с, а теперь спросите: чем он нас накормит?
Съестного у дворника нашлось только – черный хлеб, огурцы, лук да квас. Капитан кислую рожу скорчил.
– Ну, это кушанье для свиней!
И достал из бумажника радужную ассигнацию.
– Вот, Пипо, сто рублей. Пойдешь с Андре и этим мужиком, закупишь провизии.
Пошли мы. В воздухе еще пуще дымом и гарью пахнет. Один дом весь в пламени. Из соседних образа выносят, перед дверьми ставят.
Добрались так до Гостиного двора. Москательный ряд полымем уже пылает.
– Скипидар, сало, масла всякие, – говорит дворник Терентий, – искру брось – костер готов.
До суровского ряда огонь еще не добрался. Но французские солдаты по лавкам рыщут, целыми грудами товар выносят: шелк и бархат, меха ценные, галантереи… Купцы-хозяева с приказчиками тут же стоят, не препятствуют: самих их ведь еще, чего доброго, пристукнут.
– Мародеры! – говорит Пипо. – От них не уберешься. Мы-то берем все за чистые деньги.
Где бакалейный ряд – и спрашивать нечего, по мародерам видно: кто тащит сахарную голову, банку с вареньем и аршинную колбасу, кто – окорок и целый балык; сам еще что-то жует да причмокивает.
– Тут все, кажись, найдем, что требуется, – говорит Пипо.

Вошел в лавку, отобрал всякую всячину, подает хозяину свою сторублевку. Принял тот, стал разглядывать, на свет посмотрел, понюхал и головой замотал:
– Фальшивая, – говорит.
– Как, – говорю, – фальшивая! С чего ты это взял?
– Да как же, – говорит, – рисунок и буквы гуще, чем на настоящих, а подписи не от руки сделаны – тоже отпечатаны.
– Слышите, Пипо? – говорю. – Ассигнация-то фальшивая.
Обиделся.
– Вот на! Сам император Наполеон их на миллионы отпечатал и еще в Польше через жидов в оборот пустил. Везде их за настоящие принимали. У маршала Бертье и доски-то для отпечатания с собой взяты. Работа наверно куда чище вашей – французская работа!
– Давай уж сюда! – говорит купец. – Забирай чего хочешь: все равно расхитят.
Глава десятая
Пожар Москвы. Очередные мародеры. Небесное знамение и сердобольный молодой барин. Клады
Сентября 4. Наполеон уже за городом в Петровском дворце. Ночь провел еще в Кремле, но свет от горящей Москвы бил в окна и не давал ему спать. Не раз он вскакивал с ложа, выходил на балкон, с коего как на ладони виден был весь пожар, и брюзжал на «диких скифов», что собственное свое добро сжигают и армию лишают «обещанной награды». Когда же поутру камердинер-мамелюк Рустам второпях ему левый сапог на правую ногу подал, он в сердцах пнул разиню ногой в грудь, так что тот упал и затылком ударился об пол. Так по крайней мере рассказывал Пипо, который успел уже в Кремль сбегать.
Наш дом, слава Богу, каменный, стоит в глубине двора и окружен еще садом; значит, надо полагать, уцелеет. Но кругом, куда ни оглянись, огонь и дым; горит Москва, горит со всех сторон! От палящего жара поднялся ветер, не ветер – ураган; горящие головни переносит, как пух, через дома в соседние кварталы.
Послали нас с Пипо опять в Гостиный двор за провизией. На улице мы схватились друг за дружку, а то от бури и на ногах бы не устоять. Сверху же дождь огненный сыплется.
В Гостином от всех лавок ничегошеньки уже не осталось. Мы – назад. Ан огонь нам обратный путь уже отрезал. Пришлось пробираться закоулками, да и там от искр не уберечься. А мародеры не унывают: в дома врываются, погреба и склады винные разбивают, из-за добычи меж собой, что голодные волки, грызутся.
На наших глазах три гвардейца на двух армейцев накинулись, силой у них награбленное отнимают. Те отбиваются:
– Такие вы, сякие, очумели, что ли? И на ваш пай всякого товару хватит.
А гвардейцы:
– Да вы кто такие?
– Мы из корпуса маршала Нея…
– Эвона, а туда же лезете! Не знаете, что ли, приказа – очередь соблюдать: первый день старой гвардии дан, второй – нам, молодой, третий – корпусу Даву; ваша очередь когда-то еще придет!
– Ну, идем, Андре, – говорит Пипо: стыдно, знать, за своих земляков стало.
– Хорошо, – говорю, – и Наполеон ваш, нечего сказать: особым еще приказом грабить разрешает!
Как окрысится тут на меня мой французик:
– Одно слово еще против нашего императора – донесу по начальству, и нет тебе пардону!
– Ну, ну, ладно, – говорю, – не буду. Человек я не военный, порядков ваших не знаю.
– То-то, – говорит. – На первый раз, так и быть, не донесу.
– Но ведь давно ли, – говорю, – грабителей у вас расстреливали?
– Простых грабителей, да; ну, а здесь… Видел ведь ты, на что эти армейцы похожи: чучела гороховые, в одних лохмотьях ходят. Надо ж им обмундироваться. Берут товар на мундир, а кстати уж…
«Да у вас-то, гвардейцев, мундиры еще целы», – хотелось мне сказать, но воздержался.
Так как мы с Пипо ничего съедобного не промыслили, то капитан Ронфляр и лейтенант д’Орвиль отправились к своему полковому командиру; Пипо – за своим капитаном. А я к Терентию и его Акулине:
– Нет ли у вас чего хоть для меня? Со вчерашнего во рту маковой росинки не было.
Сжалобилась старуха.
– Ишь ты, – говорит, – проголодался тоже! У соседей давеча мучицы выпросила, хлебец испекла. Садись уж, поделимся; гость будешь. Да сам-то ты, скажи, как к этим басурманам пристал?
Поведал я им, назвал Толбухиных.
– Какие то Толбухины? – говорит Терентий. – Самого-то не Аристархом ли Петровичем звать, а дочку Варварой Аристарховной?
– Они самые, – говорю. – Да вы-то откуда про них знаете?
– Нам ли не знать! – говорит Акулина. – Целый месяц у нас зимой прогостили. Да и зима-то вся какая шальная выдалась! Молодежи этой у нас что перебывало! А все больше, я чай, из-за нее же, из-за Варюши Толбухиной. И нашему молодому барину краса девичья по сердцу ударила.
Оборвал тут муж болтунью:
– Молчи, старая, помалкивай! Не наше с тобой дело.
– Молчу уж, молчу. О чем, бишь, речь-то была? Да! О зиме прошедшей. Что ни день, то где-нибудь либо пляс, либо так – музыка да карты. По воскресным дням у Архаровых, по вторникам у нас, по четвергам у графа Разумовского, по пятницам у Апраксина. А в прочие дни то во французском киятре, то в балете. Николи еще на Москве такого веселья не бывало, совсем, поди, вскружилась!
– А теперь вот и расплачиваемся! – вздыхает Терентий. – Прогневили, знать, Господа! Полгода ведь, с августа по январь месяц, звезда хвостатая на небе знамением стояла. А барам нашим московским хоть бы что; невдомек, что за грехи их беда впереди неминучая!
Стал было я объяснять старикам, что таковые кометы не в одной Москве видимы, а по всей России, да и по всему земному шару; что, стало быть, ей, комете, до грехов московских бар никакого касательства нет.
Не дослушали, оба на меня как напустятся:
– Да ты еретик, что ли? А еще попович! Наши господа тоже этак до последнего дня в знамение небесное верить не хотели; верили в одного только графа Ростопчина, что москвичей обнадеживал, по стенам объявления расклеивал: «Православные, будьте покойны! Кровь наших проливается за спасение отечества. Бог укрепит силы наши, и злодей положит кости в земле Русской». А сам же, главнокомандующий, на-ка, поди, струсил, втихомолку тягу дал. Узнали мы о том только на другое утро, 1-го числа. Уж как старый барин-то осерчал – и сказать нельзя! Тотчас коляску запрячь велел, и с барыней да с барышней в деревню. Только шкатулку с деньгами да с драгоценностями в коляску взяли.
– А все прочее на вас здесь оставили?
– Нет, к вечеру из деревни десять подвод прислали. Нагрузили мы их доверху, да на грех молодой барин с полком своим прибыл…
Тут Акулина перебила мужа:
– Полно тебе, Терентий, Бога гневить! Не на грех Господь его прислал, а на счастье. «Богатство, – говорит, – дело наживное. Долой все с возов!» Сняли, а на место того раненых солдатиков положили, чтобы в руки, значит, неприятелю не достались. Прислуга господская, что на возах было расселась, сзади пешком побрела.
– Так что из вещей, – говорю, – на тех подводах ничего и не увезли?
– Ничегошеньки. Спрашиваем еще у молодого барина: что же с вещами-то? «Уберите, – говорит, – куда знаете». А куда нам, старым людям, всю ту уйму убрать? И то надорвалась, Терентию помогая, еле ноги волочу.
– Значит, кроме картин, пуховиков и подушек, было еще многое другое. Куда же вы все так ловко убрали?
Огорчил я их. Акулина глядит на мужа, муж на нее, бормочет:
– Уж этот язык бабий!..
…А вещи-то отыскались. Надворные постройки при казенном доме, где остановился полковник Триго с другими офицерами, были деревянные; нынче они тоже сгорели; сгорела и конюшня, где стояли лошади офицерские. Лошадей едва вывели из огня и поставили в здешнюю конюшню. А как денщики офицеров ходят и за их лошадьми, то за лошадьми и денщиками переселились к нам и сами офицеры – благо, и помещения, и перин на всех хватает.
Пошли они гулять по саду. А там, за оранжереей, под старым дубом земля ногами затоптана; около и заступ неубранный лежит.
– Уж не клад ли, – говорят, – зарыт?
Кликнули денщиков, велели рыть. Так ведь и есть: сундук!
Вынули из ямы, сорвали крышку. Ан в сундуке-то шуба медвежья, шинель в бобрах, два салопа женских: один лисий, другой на соболе.
– Эге, – говорят, – на зиму нам тоже службу сослужат. Рой дальше!
Вырыли еще два сундука, но в тех одни лишь наряды женские.
– Ну что ж, не нам самим, так маркитанткам нашим пригодятся. Вина вот только, жаль, не нашлось!
А недолго погодя бежит Пипо, в каждой руке по бутылке.
– Г-н капитан, г-н капитан! А вино-то нашлось!
– О!
– Точно так!
– Где же это?
– Дав саду же, на дне пруда. Повели мы лошадей купать, чтобы остыли после огня; а одна в воде обо что-то чуть ногу не переломала. Полезли сами в воду; ан там сундук. Вытащили на берег, а в сундуке-то целый винный погреб!
– А что, господа, – говорит тут капитан Ронфляр, – нет ли в пруду и других сокровищ? Пойдемте, посмотрим.
Пошли, приказали денщикам еще в пруду поискать. Нащупали те и второй сундук, и третий, и четвертый. А в сундуках и то сокровища оказались – все, чего раньше в доме недосчитались: серебро столовое, посуда медная, хрустали и фарфор, люстры и канделябры золоченые, часы каминные, приборы чернильные…
Как возликуют тут все «военной добыче»! Что поценнее до поприглядней – господа офицеры по рукам разобрали; остальное денщикам предоставили.
Мне тоже некую фарфоровую фигурку предложили. «Бисквит», – говорят. Но я, понятно, отверг.
А Терентий с Акулиной только охают, глаза утирают: втуне были все их старания укрыть господское добро от злодеев!
Глава одиннадцатая
Виртембержец и мужичок. Милосердные острожники
Сентября 5. Москва все еще горит – горит! По иным кварталам и шагу не сделать: море огненное. По другим улицы домашним скарбом запрудило, что жильцы и грабители из окон выбросили, да так и оставили. А грабеж все преумножается. Повыползла из своих нор и логовищ вся голытьба московская, всякие лихие люди, по пожарищу шатаются, из горящих домов последнее выволакивают. А «очередные» мародеры французские, сборная армейщина: виртембержцы, австрийцы, иллирийцы, кроаты, далматы – имена же их, Господи, веси! – с теми шатунами из-за добычи дерутся, из рук ее друг у дружки вырывают.
Сами французы, Пипо и приятель его Фортюне, с коими меня за провиантом отряжают, весьма возмущаются.
– Безобразие! – говорят. – Бери, что самой судьбой тебе послано, чему нет хозяина, но и другим не препятствуй.
– А уж это черт знает что такое! – восклицает Пипо. – Вот мерзавец-то! Об заклад побьюсь, что из этой проклятой немчуры, виртембержцев.
Гляжу я и наипаче возмутился: здоровенный солдат, косая сажень в плечах, на русского мужичка мешок с награбленным добром навалил да кнутом его еще, как ленивую клячу, похлестывает.
– Стой! – кричит Пипо.
Тот, будто не слыша, кнутом щелкает, на мужичка покрикивает.
– Стой, баранья голова! – еще громче кричит Пипо. – Из какой нации будешь?
Мародер ломаным французским языком в ответ бурчит:
– Не твое дело!
– Ну, так и есть: виртембержец! – говорит Пипо.
Задержал мужичонка да всю ношу со спины его на мостовую свалил.
Крепко разругался виртембержец – уже по-своему, по-немецки. А Пипо кнут у него выхватил, замахнулся:
– Забирай свой товар и проваливай! А не то…
Видит тот, что одному ему с нами четырьмя не управиться, навьючил на себя мешок и поплелся вон; а мужичок в ноги Пипо кланяется:
– Дай Господи тебе доброе здоровье, милый человек, а по смерти царство небесное!
Усмехнулся Пипо, отдал кнут мужичку, и пошли они с Фортюне своей дорогой. Я же, поотставши, спрашиваю мужичка, как он к тому живодеру в кабалу попал. А он:
– Да ты сам-то никак тоже наш брат русский будешь, не француз?
– Какой уж француз! – говорю. – Забрали они меня с собой из Смоленска, чтобы языком им служил.
– Так, так, – говорит. – А почто ж ты от них не уйдешь?
– Куда я пойду?
– Куда! К нашим. Хоть бы сейчас вот; про тебя, никак, забыли.
Оглянулся кругом; и вправду ведь: оба мои спутника либо за угол завернули, либо в дом какой вошли – как в воду канули.
– Мне одному, – говорю, – за город все равно не выбраться: ни одной улицы в Москве не знаю.
– Так иди со мной. Проведу тебя закоулками.
И повел он меня закоулками, сам про беду свою душу отводит. Посланцы бонапартовы, комиссарами себя именующие, рыщут, говорит, по окрестным деревням, крестьян подбивают: «Везите, мол, все что ни есть на базар в Москву: мигом раскупим на чистые деньги». Поверили те сдуру, повезли: кто молоко, картофель, репу, кто овес да сено. Французы все, точно, живо по рукам расхватали, только денег-то от них редко кто видел. Ну, крестьяне и возить уже закаялись; калачом их в город больше не заманишь.
– А самого-то тебя, – говорю, – каким калачом заманили?
– Лукавый попутал! Комиссар, вишь, один, из полячков, подвернулся: «Для конной, мол, гвардии самого императора французского сено требуется. У императора денежки верные». И целковый-рубль мне задатком в руку. Польстился, грешный человек, сена воз выше крыши нагрузил, повез к их императору. Подъезжаю к церкви Спаса на Бору, а врата церковные настежь. «Въезжай», – говорит. «Как! – говорю. – Чтобы с лошадью да возом в храм Божий? Креста на тебе нет!» Выскочили тут другие, оттолкнули меня, в шею еще наклали, сами воз в церковь провезли. Склад у них там всякого лошадиного корма: целый притвор завален.
Слушаю я мужичонка – ушам не верю.
– Ну, а телега твоя где же? а лошадь?
– За упрямство мое отняли; только кнут вот, как на смех, оставили: «Куда нам такой кнутишка!» Иду я по улице, плачу. Ан навстречу тот разбойник с мешком, самого меня в коня обернул, моим же кнутом подгоняет. Уж эта распроклятая орда! Лишь бы только наш царь-батюшка – дай Бог ему долгого царствования! – не мирился с их Бонапартом. Войска своего у него хоть и тысячи тысяч, да все мы на супостатов ополчимся, никому пощады не дадим.
«Все сие, – думаю про себя, – в дневник свой для Варвары Аристарховны занесу».
Тут вдруг в голову мне ударило: «А ведь дневник-то у меня дома в ящике стола оставлен! Ну, да делать нечего. Другого случая такого опять не дождешься»…
И пошел с мужичком. Проходим мимо обгорелого дома. А из подвала вопли детские:
– Мама, мама! Хлебца, корочку хлебца!
Заглянул я в разбитое оконце; а там женщина, еще не старая, но одни кости да кожа, а вокруг детишки мал мала меньше. Увидала нас, испугалась:
– Ой, не замайте! Погорельцы мы, нищие; сами третий день голодаем.
– Помочь малышам сам Бог велит, – говорю я мужичку. – Где бы нам раздобыть для них чего-нибудь съестного?
Услышала меня та женщина, взмолилась:
– Помогите, люди добрые! Господь наградит вас!
– Сейчас пойдем, поищем, – говорю ей. – Потерпи маленько.
– Ну нет, прости, соколик, – говорит тут мужичонка, – в таком разе я тебе уж не товарищ. Мне бы поскорее до деревни моей добраться.
Сказал и один вперед пошел. А я стою и сам не знаю, где что искать-то: кругом – пожарище, остовы печей и труб. Но взялся за гуж – не говори, что не дюж.
Вон каменный дом с колоннами; видно, барский. Но крыши нет; одни голые стены, а окна, без рам и стекол, зияют, что вытекшие глаза у слепца. У Толбухиных в Смоленске погреб был, однако же, под сводами, на случай пожара, чтобы огню не проникнуть. Может, и здесь тоже.
Влез внутрь дома, перебираюсь через груду кирпичей. Так и есть: за грудой – подъемная дверь с кольцом. Берусь за кольцо, а дверь сама собой уже поднимается; из-под двери же голова полуобритая высовывается, образина богомерзкая, эфиопская.
Не успел я и ахнуть, как эфиоп меня за ноги в подвал за собой втащил, и дверь сверху опять захлопнулась.
Сам я на полу лежу, а он верхом на мне сидит, рукою горло мне сдавил, что железными тисками.
– Ты его еще задушишь, Мирошка! – говорит ему кто-то. – Пусти его: все равно не убежит.
Пустил тот меня.
– Вставай, ну!
Встал я, дух перевожу, кругом озираюсь.
Посередине подвала стол; на столе в пустых бутылках свечи церковные горят. Пол рогожами устлан; на рогожах же горы всякого добра: одежда дорогая, материи шелковые кусками целыми; посуда золотая и серебряная, утварь церковная, оклады образов в драгоценных каменьях. По одной стене – рядами кадки и кадушки, по другой – банки и бутылки; на третьей ружья и сабли развешаны, а по четвертой пуховики разостланы, да на тех пуховиках человек шесть или семь таких же полуобритых молодцов развалилось.
«Острожники! Знать, конец мне пришел!» – Молитву про себя творю.
А они совет промеж себя держат, что делать со мной, рабом Божьим.
– Выпустите меня, братцы! – говорю. – Ведь и вас Ростопчин тоже из тюрьмы выпустил.
– Ишь, щенок, догадался, с кем судьба свела! – смеется один.
– Не токмо он нас выпустил, – говорит другой, – а и оружием всяким из Оружейной палаты против Бонапарта снабдил. И постарались же мы для него! Сколько ихнего брата на тот свет спровадили!
– Да и себя не забыли, – говорит третий. – Покойникам вечный покой, а живым хлеб да соль… да еще злата, серебра и скатна жемчуга впридачу!
Хохочет тоже, и товарищи кругом «ха-ха-ха!»
– Ну, а ты сам-то что за гусь? – говорит мне Мирошка. – Зачем к нам сюда пожаловал?
Рассказал я им тут про тех детишек голодных, ради коих ненароком к ним забрел.
– А что ведь, ребята, – говорит один, – детские молитвы к Богу доходчивы; в каторге ли век свой покончим, на поселении ли в сибирской тайге – коли голодных теперь накормим, так малость наших грехов нам, может, и отпустится.
– И то правда, – говорит Мирошка. – Но буде ты, пострел, дорогу к нам другим укажешь, так я тебя вот чем угощу!
Да длиннейший нож из-за пазухи вынул – индо мороз по спине у меня пробежал.
– Кому я укажу? – говорю. – Сам я в бегах, в плену у французов доныне пребывал.
Поверили.
– Ладно, – говорит Мирошка. – Чего ж тебе дать для тех деток? Варенья банку, что ли?
– Вареньем, – говорю, – не насытятся. Им бы хоть черствого хлеба.
– Ну, хлеба у нас самих ни свежего, ни черствого нету; по всей Москве не допросишься. А вот, изволь, коврижки медовые…
– Коврижки тоже не больно сытны, – говорит другой. – Пожертвуем-ка окорок.
– А варенье младенцам на закуску, – говорит третий, – полакомятся – нас добром помянут.
Сложили мне все в кулек, да и выпустили меня на свет Божий. Смилуйся же над ними тоже, Господи, и просвети их!
Отнес я кулек к голодающим, сунул в разбитое оконце: «Вкушайте на здоровье!» – и был таков.
А дома меня уж хватились; сказал, что заблудился.
– Хорошо, хорошо – говорит лейтенант д’Орвиль. – Скажи-ка: ты ведь нашу французскую грамоту разбираешь?
– Разбираю – говорю.
– В коридоре тут целая библиотека; есть и французские книги. Так вот займись-ка, отбери мне романы. Денщики наши на беду все неграмотны.
Засветил я огарок (коридор-то полутемный) и стал отбирать. Перелистываешь: роман аль нет, да и зачитываешься: плоды фантазии, но фантазии французской – куда уж занятно пишут эти господа французы!









































