Текст книги "Среди врагов"
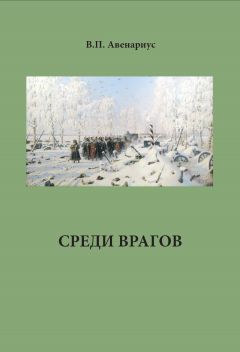
Автор книги: Василий Авенариус
Жанр: Историческая литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 8 (всего у книги 8 страниц)
Глава двадцать первая
Крестьяне-партизаны и партизан Давыдов. «Несчастная страсть!» Кольцо вестфальца
А перед въездом в село от околицы к околице «застава»: путь бревнами загорожен, и два дюжих мужика караулом стоят: один, молодой – с здоровенной палицей, другой, степенный старик – с ружьем.
– Стой! – кричат мне и оружием потрясают. – Кто такой и куда едешь?
Пока им ответ держу, из села на их окрик толпа высыпала: не одни мужики – и бабы. Все тоже вооружены кто чем: ружьями, дрекольями, вилами, топорами.
Как узнали, что я к казачьему начальнику Давыдову, бревна тотчас отвалили, а староста – старик с ружьем – в избу к себе отдохнуть зазвал.
– Нам от самого Дениса Васильича, – говорит, – наказ строгий дан – никого без опроса мимо не пропускать. Мало ли этих миродеров, с убитых наших одежу обобравши, солдатами русскими переодеваются! «Попадется вам, мол, такой ряженый басурман, так вы его живо прибирайте. А буде их целая ватага нагрянет, то принимайте их ласково, как дорогих гостей, в ноги им кланяйтесь, пирогами кормите, вином-пивом поите, а сами тем часом трех-четырех парней своих верхом на коней, чтобы искать меня во все стороны скакали; я, мол, вас уже выручу. Бог велит православным христианам не выдавать друг друга чадам антихриста»…
– И ружья вам, – говорю, – он же роздал?
– Нет, ружья-то на свои кровные денежки купили; да по сходной цене: по 10 копеек штука.
– Как по 10 копеек? Кто же вам так дешево их отдавал?
– А свой же брат, крестьяне: на Бородинском поле подобрали.
– У вас, – говорю, – и бабы, я вижу, воюют.
– А как же. Ведь вон старостиха Василиса во французской шинели ходит, с французской саблей через плечо; целую шайку миродеров в полон, слышь, взяла. Фельдмаршал Кутузов ей за это Егория пожаловал. Вот нашим бабам и завидно, особливо невестушке.
Сам, ухмыляясь, молодой невестушке подмигивает, а та рукавом закрывается.
– Ну тебя! – говорит. – Другие бабы с ребятами в лесу укрываются; а я от мужа ни на шаг.
– Молодца! Тоже, как Василиса, Егория заслужишь.
…Стал меня тут Денис Васильевич обо всем расспрашивать. Когда я ему рассказал, как крестьяне меня у своей «заставы» задержали. «Меня самого, – говорит, – на первых порах пропускать не хотели. Гусарский ментик мой за французскую форму принимали.
– Да разве я с вами, братцы, не русским языком говорю?
– Мало ли у них, батюшка, всякого сброду люди!
Вижу, надо мне к их одеже и обычаям приноровиться. Сам надел тоже мужицкий кафтан, отпустил бороду, вместо ордена Св. Анны повесил образ Николая Чудотворца и заговорил с ними их же простонародною речью. Теперь я у них свой брат, батюшка Денис Васильич. Приходят ко мне со всякими просьбами…»
– И у меня к вам, Денис Васильич, – говорю, – была бы просьбица…
– Если исполнимая, то отчего же? Исполню.
– Возьмите меня к себе добровольцем!
– Гм… Да ведь воинским оружием владеть ты еще не обучен?
– На Бородинском поле своей пикой на мародеров какого страху нагнал!
– Ну, то уже не воины – вороны! А пуганая ворона и куста боится.
– Но хотелось бы тоже отечеству послужить…
– Так можешь состоять при сотнике Мотылеве, который пленными ведает.
Сопровождал с молодым казачьим сотником Мотылевым в Юхнов партию пленных «францев». Дорогой с ним разговорились. Мотылев не может нахвалиться своим лихим командиром: сам везде первый впереди, а людей своих бережет. Задача Давыдова, как партизана, не в том, чтобы с неприятелем в открытый бой вступать, а в том, чтобы всячески тревожить его и днем и ночью да отбивать неприятельские транспорты. Посему он беспрерывно передвигается с места на место. На случай встречи с превосходными силами условлено правило: по сигналу всем рассыпаться в разные стороны, каждому скакать самому по себе и затем пробираться окружным путем к общему сборному пункту – за 10, а то и за 20 верст.
– Денис Васильевич, слышно, – говорю, – и стихи пописывает?
– Да еще какие! – говорит Мотылев. – Душа у него на все отзывчивая. В мирное время он блага жизни воспевал; теперь – одну войну:
На вьюке в тороках цевницу я таскаю,
Она и под локтем, она под головой;
Меж конских ног позабываю,
В пыли на влаге дождевой.
Так мне ли ударять в разлаженные струны
И петь любовь, луну, кусты душистых роз?
Пусть загремят войны перуны —
Я в этой песне виртуоз!
Запишу еще два случая из партизанской жизни Давыдова, рассказанные мне Мотылевым: один – забавный, другой – зело трогательный.
Влезли два казака в лесу на высокое дерево, чтобы следить за неприятелем. Видят они тут в прогалине французского офицера: ходит себе по лесу беззаботно, как ни в чем не бывало; в руках – ружье, через плечо – охотничья сумка, а следом – пес легавый. Дали своим свист. Те тут же прискакали, окружили охотника, обезоружили, привели к Денису Васильевичу.
– Позвольте отрекомендоваться: подполковник Давыдов. А я с кем имею честь?..
– Полковник Гетальс 4-го Иллирийского полка.
– Рад познакомиться. Нельзя ли полюбопытствовать, что у вас в сумке?
Глубоко вздохнул полковник.
– У битая дичь… – говорит и достает из сумки огромного тетерева.
– Славная штука, – говорит Денис Васильевич и бросил тетерева казаку, а тот его на пику подхватил. – Но как вы, г-н полковник, от своего батальона отбились?
– Несчастная страсть! – говорит. – Малерез пассион! Я – страстный охотник… В Москве достался мне прекрасный легавый пес; а в здешних лесах такая масса дичи…
– Что вы ушли вперед от своих, чтобы немножко пострелять?
– Да… Малерез пассион!
– Ну, ребятушки! – говорит Денис Васильевич казакам. – Сейчас подойдет батальон этого полковника. Гайда, на коней и врассыпную!
Налетели казаки с разных сторон на подходящих французов с гиком и криком «ура!». Такого страху навели, что одни побросали оружие, попросили пардону, числом 200 нижних чинов и два офицера, другие по лесу разметались.
Второй случай: шел из Варшавы под конвоем неприятельский транспорт с новой одеждой и обувью для 1-го Вестфальского гусарского полка. Как только показались казаки, почти весь конвой разбежался. Защищать транспорт остался только молодой лейтенант с десятком таких же храбрецов. Отбивался он до тех пор, пока не был ранен. Когда его потом отправляли с другими пленными в Юхнов, лейтенант этот – по фамилии Тилинг – принес жалобу Давыдову, что казаки у него карманные часы, деньги и кольцо отобрали.
– Часов и денег мне не жалко, – говорит, – Господь с ними! Но кольцо мне тем дорого, что дома мне его перед походом подарила любимая девушка.
– Храбрость и несчастье уважаются у нас, русских, не менее, чем в других странах – сказал на то Денис Васильевич. – Казаки, что отняли у вас кольцо, теперь в разъезде. Но как только они вернутся, я допрошу их и вышлю вам вещь, которою вы так дорожите.
И точно, у казаков нашлось не только отнятое кольцо: нашелся еще и локон волос, и пачка писем. Все это Давыдов отослал лейтенанту в Юхнов при любезной записке…
Глава двадцать вторая
Замерзшие и замерзающие. Давыдов у Кутузова. Французские знамена кланяются русским гвардейцам. «Гвардия умирает, но не сдается!»
Правду сказал Кутузов, что «великая» армия и без нас сама собой развалится. От Малоярославца она на Можайск и Вязьму ударилась; как зверь затравленный, во все стороны мечется и бежит уже без оглядки восвояси по Смоленской дороге. Сам со своей старой гвардией во главе беглецов; остальные полчища из-за бесконечных обозов на десятки верст растянулись. Бросить орудия великому полководцу зазорно, так обозных лошадей для орудий выпрягают; а лошади, на шипы не подкованные, на мерзлой почве скользят и падают; упавши же, подняться уже не могут и другим путь заграждают.

Наше дело партизанское – подгонять бегущих, подхлестывать, а где можно без урона – забирать и пленных, особливо из отсталых, что за хлебом по сторонам шатаются.
По ночам изрядно уже морозит.
– Только бы еще снежку, – говорят казаки, – по свежей пороше травить зайцев куда способно.
…Попалась нам партия тяжелораненых неприятелей; руки к нам с мольбой простирают, чтобы умилосердились.
Что же оказалось? Везли их еще из-под Малоярославца. Но здоровые товарищи из лазаретных фургонов их в чистом поле высадили, чтобы в те фургоны свою добычу нагрузить и самим поскорее убраться подобру-поздорову!
– Прикажете их прикончить, ваше высокородие? – спрашивают казаки у Давыдова.
– Таких-то убогих? – говорит Давыдов. – Не изверги мы, а православные христиане. Лежачего не бьют. Доставим их в ближайшую деревню; а там пускай уж, как знают, с мужиками ведаются.
Октября 23. Под Вязьмой, говорят, было жаркое дело с корпусами вице-короля итальянского, Даву, Нея и Понятовского. Партизаны Сеславин и Фигнер поддерживали наши регулярные войска.
– Экие счастливцы! – вздыхает Давыдов. – Ну, да и мы не зевали: в общем взяли уж 4000 нижних чинов и 43 офицера.
Немало меж пленных и перебежчиков. Один мне рассказывал, будто Наполеон предлагал уже генералу Бертье принять командование всей армией, но тот отвильнул; предлагал и другим, а те:
– Ваше величество одни только своим присутствием можете поднять упавших духом.
– Но сам-то он еще не пал духом? – спрашиваю того перебежчика.
– Кто его ведает! В теплой собольей бекеше, в собольей боярской шапке что ему делается? А надоест сидеть в коляске, идет тоже пешком…
– И саблей подпирается?
– Нет, березовым суком: по гололедице, того и гляди, еще поскользнется…
Октября 24. Вчера первый снег пошел, а ныне густыми хлопьями уже валит. Дождались казаки своей пороши!
Октября 27. Пятый день снег, да какой! Метелица опять так и вьет, так и вьет! По Смоленскому тракту целыми холмами сугробы намело. Ледяной ветер в деревьях бушует и свищет, сквозь бурку до костей пробирает. Мороз-то ведь в 20 градусов.
А с неприятелем что творится! Главная-то армия уже далеко за Вязьмой, пожалуй, и за Дорогобужем. Но отставшие части и завязшие в снегу обозы на каждом шагу еще попадаются. Посреди дороги и в канавах опрокинутые фургоны, кареты и коляски. Иные без лошадей: очевидно, отпряжены и увезены; перед другими лежат лошади, еще в упряжи, но окоченевшие; где морда, где ноги из-под снега торчат. Кругом же, под снежной пеленой, всевозможное награбленное в Москве добро: люстры, масляные картины, книги в богатых переплетах. Развернул я одну с золотым обрезом: не романчик ли? Ан нет, философское сочинение некоего Вольтера – не про нас писано!
А сами-то грабители, что отбились от своих, вразброд пешком уже бредут да словно в маскарад собрались: кто в одеяло лазаретное закутан, кто в салоп женский, кто в рясу поповскую…
Это уже не враги, а просто жалкие люди. Мало ли их взято Наполеоном против собственной воли прямо от сохи или от другого дела, увезены силой от своих семейств. И вот, ни за что ни про что, погибают в чужой стране!

Но, кроме пришлых, есть и московские французы, сдуру последовавшие за великой армией. Так в одной карете без лошадей найдены три замерзшие женщины. По их нарядам да бриллиантам надо думать, что две из них были актрисы, а третья – горничная.
…Сейчас только хорунжий Крючков вернулся из поиска с тремя сиротами: старшая девочка-подросток несла на руках трехлетнюю сестренку, а сзади восьмилетний братишка плелся и навзрыд плакал. Оба родителя их дорогой замерзли. Денис Васильевич обогреть, накормить их велел, а крестьяне уже в город их предводителю дворянства сдадут: пусть поступит с ними, как знает. Сами мы все вперед да вперед, дабы скорее настигнуть нашу армию.
… Давыдов в главную квартиру был вызван. Явился он туда, как был, в своей походной мужицкой одежде. Обошелся с ним светлейший просто и ласково.
– Лично, – говорит, – я еще не знаком с тобой, но прежде знакомства должен поблагодарить тебя за твою службу.
Сказал и крепко обнял.
– Удачные поиски твои, – говорит, – доказали мне всю пользу партизанской войны.
Денис Васильевич извинился, что предстал в столь неприглядном образе.
– В народной войне, – сказал фельдмаршал, – сие неизбежно и даже необходимо. Действуй, как подействовал доселе – головою и сердцем. Мне нужды нет, что голова покрыта шапкой – не кивером, а сердце бьется под армяком – не под мундиром. Придет время – и ты будешь в башмаках на придворных балах.
Порасспросил еще обо всем, а потом и обедать к себе зазвал да так обласкал, что Денис Васильевич, памятуя пословицу «Куй железо, пока горячо», решился каждому из своих офицеров по две награды выпросить.
– Бог меня забудет, если я таких молодцов забуду, – сказал Кутузов и тогда же подписал наградной список.
…О, мой Смоленск, мой дорогой Смоленск, что с тобою сталось!
Петербургского предместья словно бы никогда и не бывало – одно снежное поле. По берегу Днепра разбитые фургоны, зарядные ящики, пушки и… неприбранные тела! Кругом весь снег усеян неприятельскими киверами, барабанами, саблями, ружьями, пистолетами.

В самом городе и из тех обывательских домов, что пощадил огонь при августовском погроме, большая часть сожжена. На месте прекрасного каменного дома Толбухиных точно так же одни только развалины; не одну таки слезу над ними пролил…
Мимо! Прошедшего не воротишь… Надо утешаться тем, что отечество спасено и враг бежит.
Особой похвалы фельдмаршал удостоил гвардейский корпус. Подъехав со свитой к биваку гвардейцев, он так их приветствовал:
– Здравствуйте, молодцы! Поздравляю вас с новой победой! Вот и гостинцы вам везу.
А везли за ним отбитые у французов знамена с орлами.
– Эй, кирасиры! Нагните орлы пониже: пусть кланяются молодцам! Граф Платов доносит мне, что взято 112 пушек и… сколько генералов? Не помните ли, генерал?
– Пятнадцать, – ответствует генерал Опперман.
– Слышите, друзья мои? Пятнадцать генералов! Ну, кабы у нас столько же взяли, так много ли бы осталось? Пушки можно сосчитать на месте, да и то не верится. А в Питере скажут: «хвастают!»…
…Дабы раньше неприятельской армии быть у Красного, мы форсированным маршем обгоняем ее обходами…
…На рассвете к Денису Васильевичу весть пришла от наших разъездов, что колонны неприятельской пехоты, в ожидании отставшего хвоста, сделали привал. Мы немедля на них ударили, забрали в плен двух генералов: Альмераса и Вюрта, и 200 солдат; захватили также 4 орудия и обоз.
К полдню на большой дороге показалась Наполеонова старая гвардия и при ней он сам. Но – удивления достойно – сколько на них ни налетали, ни гарцевали с обоих флангов со своими пиками удальцы-казаки, а императорские гренадеры, сей отбор великой армии, в своих высоких медвежьих шапках с красными султанами, в синих мундирах с толстыми эполетами, шли себе сомкнутыми рядами, нимало шагу не ускоряя. Презрительно лишь косились на гарцующих, якобы на шалунов-мальчишек, да на ходу отстреливались.
Подоспел тут к нам сикурсом граф Орлов-Денисов с ахтырскими гусарами и ординарцами лейб-гвардии казачьего полка. Тоже наскакивали и справа и слева, и так и сяк, но, волнам морским подобно, отпрядающим от неколебимого утеса, назад отскакивали. От наших пуль иные гренадеры хоть и падали, но товарищи на ходу их подбирали и все тем же мерным шагом вперед да вперед.
Сам Денис Васильевич пред таковою доблестью преклонился.
– Недаром, – говорит, – у них и поговорка сложилась: «Гвардия умирает, но не сдается»!..
Глава двадцать третья
Сражение у Красного. Французские биваки – кладбища. Последний вздох лейтенанта д’Орвиля. Наполеон угрожает небесам
Красный, ноября 6.
Гром победы, раздавайся!
Веселися, храбрый росс!
Звучной славой украшайся:
Бонапарта ты потрес.
При Измаиле Магомета, а здесь, под Красным, самого Бонапарта! Трое суток он еще отбивался, но улыбавшаяся ему столько лет Фортуна навсегда уже лик свой от него отворотила. И бежит он, аки Каин, кровь брата проливший, бежит без оглядки, отягчив свою совесть гибелью тысяч, сотен тысяч братьев.

Брошенные им здесь, в Красном, раненые, оборванные, голодные калеки, толпятся под окнами Милорадовича, и милосердный враг кормит, призревает их.
Здесь же неожиданная встреча. На улице меня окликают:
– Андрей Серапионыч! Так ведь вас, кажется?
Гляжу: поручик Шмелев! Разговорились.
– А вас, Дмитрий Кириллыч, – говорю, – я вижу, тоже Георгием отличили?
– Сам светлейший, – говорит, – в Смоленске вручил. Да рад я не столько даже за себя, как за мою Вареньку: она так уж довольна, так счастлива!
– Стало быть, вы Варвару Аристарховну опять видели?
– Из Смоленска на несколько часов в Толбуховку слетал. Про вас тоже спрашивала. А матушка ваша просила, буде с вами повстречаюсь, взять вас под мою охрану. Отчего бы вам, в самом деле, не примкнуть теперь добровольцем к нашему отряду?
– Да у меня, – говорю, – нет своей лошади…
– У меня есть запасная…
…форсированным маршем, но нагнать бегущих все еще не нагнали. Зато сколько отсталых! Это уже не воины, даже не люди, а живые привидения, в грязных, на бивачном огне прожженных рубищах, висящих клочьями. На голове у иных еще кивера, кирасирские каски с конскими хвостами, у других собственные ранцы, женские платки, жидовские ермолки. Ноги тряпками, рогожей обмотаны. И не одни нижние чины в таком образе плетутся, но и офицеры. Завидев нас, они отворачиваются; просить у «варваров» пощады или помощи не дозволяет им гордость «великой нации». Но солдаты руки простирают:
– Клиеба! клиеба!
Есть и такие, что уже проклинают своего полубога-императора, а дезертиры из других наций даже на службу к нам просятся…
…Всего ужаснее их биваки после ушедшей далее партии. Издали уже слышно карканье и рычание; а подъедешь – взлетают вороны, отбегают волки и одичалые собаки. Вокруг потухающего костра распростерты замерзшие люди. Сохранившие еще искру жизни пожирают недожаренную или сырую конину, вырывают кровавые куски из рук друг у друга, а на нас, пришельцев, озираются с опаской, как бы мы не отняли у них этой последней, отвратительной пищи. Одного мы силой от огня оттащили: обезумев, он свои отмороженные ноги на тлеющие угли протянул и пятки себе уже дочерна обуглил.
И вдруг, смотрю, в стороне от костра, прислоняясь спиной к дереву, сидит на земле молодой офицер в треуголке, в знакомом мне синем мундире, крестик Почетного легиона в петличке… Святые угодники! Никак д’Орвиль?.. Худой-прехудой, бледный-пребледный; веки полузакрыты… Жив еще или замерз?..
Подошел к нему, за плечо тронул.
– Г-н лейтенант! Вы ли это?
Раскрыл глаза, еще узнал меня:
– Андре…
Прошептал только и, как сноп, набок. Хочу его поднять, а он опять валится и вот на снегу во весь рост вытянулся.
Заглядываю ему в глаза – глаза ширятся, взор тускнеет, делается стеклянным… Еще одна жертва Наполеонова гения!..
После жестокой стужи с юга теплом потянуло; тает; по земле туман стелется. Но от непривычных морозов и долгой голодовки французам не оправиться; сырая погода пуще их разбирает: плетутся вперед, доколе ноги еще носят, а раз упав, остаются уже лежать, чтобы никогда не встать…
Ночь на 14 ноября. Еврейская корчма. Пишу при свете лучины. Кругом храп и стоны. На скамьях – офицерство, на полу – вповалку, вперемежку, тяжелораненые, свои и французы.
Хозяйка-еврейка в углу жмется, грудного младенца укачивает.
С самого Красного впервые ночую не под открытым небом; после морозов – здесь, в тепле – меня всего тоже разморило. Но от духоты и смрада, пожалуй, навеки заснешь; лучше так промаюсь.
План Кутузова, слышно, таков, чтобы не дать неприятелю через Березину перейти. Задержать его до прибытия наших главных сил поручено адмиралу Чичагову, который и занял возвышенный правый берег против Борисова. Река уже льдом покрылась; но лед еще непрочен, и перевозить свои орудия и обоз французы и без того возможности пока не имеют. Мосты же у Борисова Чичаговым на всякий случай уже взорваны.
Один дезертир-итальянец рассказывает, что, когда о взорванных мостах доложили Наполеону, тот поверить не хотел.
– Неправда! – говорит. – Быть того не может!
– Но маршал Удино, ваше величество, стоит в Борисове и своими глазами видел, как их взрывали.
– Неправда! Маршал лжет!
Однако ж в конце концов пришлось-таки поверить, и, подняв очи к небу, он погрозил кому-то своей суковатой палкой, словно вызывая на бой самые небеса.
Глава двадцать четвертая
Березина. Сержант Мушерон отрекается от своего идола. Отзвуки из Толбуховки
Ноября 15. Еще вчера еврей-корчмарь по великой тайности батальонного командира нашего упреждал, будто Наполеон с своей гвардией сам уже в Борисове; что туда бревна и хворост из лесу подвозят под видом якобы устройства переправы через реку, на самом же деле для отвода глаз Чичагову; что тем временем выше по реке, у деревни Студянки, корпусом маршала Удино крестьянские избы разбираются, и из их бревен на реке козлы ставят да два больших моста настилают.

Усомнился командир: давать ли веру христопродавцу? За тридцать сребреников хоть кого ведь продаст! Созвал он совет офицеров, и положили единогласно – послать нарочного в главную квартиру. До сей минуты нарочный, однако, еще не вернулся.
А полчаса назад разведчики перебежчика-иллирийца привели; просит, Бога ради, принять его тоже на русскую службу.
– Хорошо, ужо увидим, – говорит командир и стал его про Студянку спрашивать.
Оказалось, что там и вправду всю ночь Наполеоновы мосты сооружались. К 12-ти часам дня сегодня первый мост уже готов, и Удино со своим корпусом на правый берег перебрался, передовые посты нашей Дунайской армии отогнал и сам высоты занял. К 4-м часам и второй мост окончили. По первому орудия и военные обозы переправляются, по второму – войска, но съехавшиеся у переправы тысячи повозок, толпы безоружного сброда туда же напирают, и мосты, наскоро сколоченные, не раз уже ломались: саперы их наскоро чинят, стоя сами среди льдин, по пояс, по горло в ледяной воде. На переправе же неурядица полная, неописуемая. Вот бы когда нагрянуть всею нашею силой! У Наполеона, уверяет дезертир, из 650.000, перешедших в июне месяце через Неман, вряд ли и 60.000 осталось; да и те в каком виде! Но главной кутузовской армии все нет как нет! Ожидают ее только к утру…
Ноября 18. Третий день уж лежу в крестьянской избе с пулей в левом плече и лихоражу. Тут же на полу, с повязанной головой, сержант Мушерон прикорнул.
Главная наша армия, действительно, подошла к рассвету 16-го числа, и наш батальон с другими также к Студянке двинулся. Меня, нестроевого, взяли с собой, чтобы раненых из огня выносить. Чего-чего я тут не нагляделся!
На обоих берегах пальба непрестанная, рукопашный бой на жизнь и смерть. Неприятель в тиски попал: оттуда его Чичагов и Витгенштейн к реке прижали, отсюда же Кутузов к мостам теснит. А что на мостах-то делается! Подлинное столпотворение вавилонское – ни пройти, ни проехать. Оба моста экипажами и пешими сплошь загружены, а с берега новые еще напирают: обозные фуры, коляски, брички, дрожки; сидящие там женщины и дети плачут, вопят. А мосты – без перил, и в общем напоре и давке в реку бухают и повозки с людьми и пешеходы. В воде, среди льдин, утопающие барахтаются, за льдины хватаются. Вон и маркитантка Флоранс за льдину уцепилась, кричит благим матом: «Спасите! Спасите!», но быстрым течением ее уже дальше уносит.
К самому берегу две крупные льдины прибило; меж них голова виднеется, вся окровавленная. Да ведь это сержант Мушерон, коему я жизнью обязан!
Я сбежал вниз, прыгнул в воду и через силу вытащил несчастного на сушу.
Вдруг удар в левое плечо; с того берега пулей меня хватило – французской или русской – не все ли одно?
Далее ничего уже не помню: от потери крови да от ледяной воды я потерял сознание. Потом уж меня подобрали, да и Мушерона захватили.
И вот по сей час он около меня; забинтованную голову подперев, временами лишь поохивает.
– Что, мосье Мушерон, – говорю, – разве так уж больно?
– Больно, мон пти буржуа, очень-очень больно… но не голове больно, а сердце болит!
– Что в плен попали? Обменяют пленных – во Францию свою опять воротитесь.
– Во Францию? Ах, нет, туда мне уже нет возврата!
– Почему нет?
– Почему?.. Да вы, друг мой, не видели разве, как горели мосты?
– Не видел, потому что тогда уже чувств лишился.
– Как только перешли на тот берег последние войска – из корпуса маршала Виктора – так за собой подожгли мосты. А на обоих мостах и на этом берегу оставалось еще несметное число повозок и народу. Все это с отчаянья разом вперед ринулось, чтобы поспеть еще перебраться по горящим мостам, и все перемешалось, попадало в реку, было унесено со льдинами… О, мой император!., о! о!.. А ведь какую зажигательную речь сказал перед сражением! Обнажил саблю и воскликнул: «Французы! Поклянемся друг другу лучше умереть с оружием в руках, чем отказаться увидеть нашу милую Францию!» И вот, чтобы самому-то увидеть опять Францию, он, не дождавшись тысяч своих же французов, сжег перед ними мосты… Нет у меня больше императора!
Закрыв глаза рукой, бедный сержант заплакал, как ребенок.
Тут вошел Шмелев.
– А! Очнулись, Андрей Серапионыч? И опять за своим дневником? Ведь он вместе с вами выкупался в Березине?
– Мосье Мушерон, – говорю, – высушил его у печки. Пишу, пока еще жив…
– Полноте! Всех нас еще переживете. Сейчас будет доктор и вынет из вас пулю. Не знаю только, позволит ли он мне взять вас теперь же с собою.
– Нет, Дмитрий Кириллыч, оставьте меня здесь с Мушероном: он разочаровался уж в своем великом Наполеоне…
– Да, великан этот превратился в жалкого пигмея и удирает во все лопатки, как самый простой смертный. Наша армия по пятам его преследует – по крайней мере до границы. Ведь государь еще в начале войны объявил, что до тех пор не положит оружия, доколе хоть один вооруженный неприятель будет на русской земле.
– Но вы-то, Дмитрий Кириллыч, почему еще здесь? Или вы не идете с армией?
– Нет. Здесь, у Березины, взяты еще тысячи пленных. Их приходится расквартировать по разным городам. Мне предложили на выбор: стяжать новые воинские лавры или сопровождать пленных…
– А один лавровый листок у вас уже есть?
Он со счастливой улыбкой взглянул на свой георгиевский крестик.
– Покамест с меня довольно, – говорит. – Надо ж и другим что-нибудь оставить.
– И вы сопровождаете отсюда пленных? А по пути завернете, конечно, и к невесте в Толбуховку?
– Конечно. В январе, даст Бог, сыграем и свадьбу. А вы, Андрей Серапионыч, должны быть у нас шафером.
– Чувствительно, – говорю, – благодарен за честь. Но вынесу ли я еще операцию?.. Лучше, пожалуй, мне умереть под ножом доктора: проку от меня все равно никакого уже не будет!
– Это мы еще увидим. О вас был в Толбуховке разговор у Аристарха Петровича с вашей матушкой; вам нашли уже и подходящее место.
– Какое место?
– Я хотел до времени молчать; но, так и быть, скажу уж: тамошний приказчик – продувной малый. Так вот для контроля над ним вам прочат место конторщика. Мы с Варенькой, признаться, подали первую мысль.
– Не знаю, – говорю, – как и благодарить вас… Но раз вы так добры, то примите участие и в судьбе мосье Мушерона; он спас меня в Москве от расстрела. У Пети Толбухина нет ведь еще нового французского гувернера. Этот годится если и не в гувернеры, то в дядьки…
– А дядька шалуну необходим. Прекрасно. Ну-с, а теперь пойду-ка на операционный пункт за доктором.
– Одно слово еще, Дмитрий Кириллыч: если бы я все-таки не пережил операции, то передайте, пожалуйста, этот дневник Варваре Аристарховне.
Он засмеялся:
– Непременно! Но нашего разговора с вами вы еще не записали…
– Нет, но до доктора еще запишу.
И вот дописал. Переживу я или нет? Боже, буди милостив мне, грешному!..









































