Текст книги "Среди врагов"
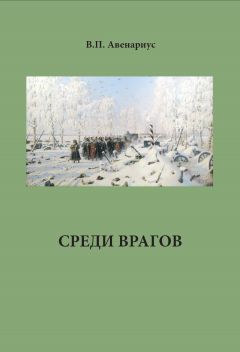
Автор книги: Василий Авенариус
Жанр: Историческая литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 5 (всего у книги 8 страниц)
Глава двенадтцая
Из огня да в воду. Наполеон в Петровском дворце и в воспитательном доме
Сентября 8. Мужичонка со своим советом – бежать – из головы у меня не выходил. И попытался я убежать, да чуть жизни не решился. Не задалось!
Было то в четверг же, 5 числа, когда, домой вернувшись, взялся романы французские для лейтенанта отобрать. Откушав, господа офицеры за картишки засели да за полночь заигрались. Наконец-то надоело, улеглись; захрапели и денщики.
«Либо сейчас, либо никогда!» – говорю я себе. Связал в узелок свои пожитки, не забыл на сей раз и дневника да тихонько на цыпочках с заднего крыльца на двор. Со двора на улицу, а там рысью к Москве-реке: из города куда-нибудь да течет, так и меня за город выведет.
Небо хоть и в тучах, да город в разных местах по-прежнему костром пылает, от огня поднебесного и небеса ярким заревом светятся, а от зарева среди ночи светло как днем.
Вот и мост. Вдруг из-под моста полуночник-бродяга лезет; за ним другой.
– Стой! Ни с места! Тебя, голубчик, мы и поджидали. Что несешь? Покажь-ка.
Отняли узелок, развязали.
– Товар неважный, – говорят. – Ну да ничего, тоже пригодится.
– Дневник-то хоть, – говорю, – назад отдайте.
– Какой дневник?
– А вон тетрадь.
– Изволь. Куда нам такую дрянь! Картуз – иное дело.
Сорвал с меня картуз, на собственную башку напялил.
– Как раз впору.
А другой:
– Ну, а теперь сапоги давай-ка сюда. Может, и мне впору придутся.
Оглянулся я кругом – ни души.
– Долго ли ждать-то? – говорит. – Камердинера своего с собой не взял, так и сам разуешься.
Снял я сапоги. Он их примерил и заругался, что ноги ему жмут.
– Разносятся, – говорит другой. – А одежу его мы уж опосля меж собой поделим. Раздевайся-ка, дружище.
Делать нечего, разделся я до рубашки.
– За смирение твое, – говорят, – рубашку тебе, так и быть, оставим.
Забрали остальное и ушли опять к себе под мост. А я стою, дрожу на холодном ветру, как в лихорадке; заплакал бы от горя и досады. Да в слезах что толку?
И побрел я вперед босиком, в одной рубашке, с дневником под мышкой.
Прошел с версту. Как разверзнутся тут небеса надо мною! В миг единый промок до ниточки. По пути часовня; да вход закрыт. Под навесом все же некоторая защита; к дверям прижался.
А дождь хлещет, как из ушата. И огню не устоять: по ту сторону Москвы-реки, в Замоскворечье, в геенне огненной, пламень адский с хлябями небесными вотще борется, потухает; то ярче опять вспыхнет, то снова гаснет. Зарево на небе тоже бледнеет…
А меня с Москвы-реки ветром так вот и обдувает, с навеса обдает холодными брызгами. Мокрая рубашонка к телу прилипла… Холод до самого сердца добирается… Зубы стучат… На ногах еле уж держусь… Присел бы на ступеньку; да ступенька каменная, холодная и тоже мокрая…
А дождь льет да льет по-прежнему; целую ночь, пожалуй, не перестанет: осенний дождь, известно, раз как зарядит, так и конца ему нет. До утра совсем замерзну. Дальше бежать – за город к нашим вряд ли уж добегу; по дороге свалюсь, Богу душу отдам. Одно лишь, значит, и остается – вернуться к французам, к лейтенанту д’Орвилю – судьба, рок!
Как до тюфячка своего добрался – даже и не помню. Очнулся только сегодня, на третьи же сутки. Пипо говорит, что я шибко бредил. Дневника своего, однако, не обронил. Теперь хоть опять в здравом уме и памяти, но телом еще горю и зело слаб. Присел на постели, да голова закружилась. Пишу лежа…
…Заглянул лейтенант, допрос мне учинил. Сказал ему, что на пожар смотреть пошел, да бродяги дорогой ограбили. Глядя на скудный наряд мой, должен был поверить. От себя мне свои старые туфли поднес, а Пипо и другие денщики – кто что из своего старья. Что ни говори, а народ не бездушный, милый народ! Так-то с виду и я тоже в их же брата-француза преобразился.
Сентября 9. Пробовал встать, да шатаюсь еще, как пьяный.
– Лежи себе, отлеживайся, – говорит лейтенант д’Орвиль. – И без тебя управимся.
А Пипо, что ходил за мной, когда я без памяти лежал, и теперь еще меня не забывает. Достал у Терентия шашки, играет со мной. От него же узнаю, что за сии дни было.
Тот жестокий ночной ливень с четверга на пятницу, что меня доконал, и пожар во всем городе залил. Посему в пятницу же, 6-го числа, Наполеон со своей свитой да со старой гвардией из загородного Петровского дворца в Кремль назад перебрался.
Не красно им там, за городом, жилось! Сам-то со свитой во дворце хоть основался, целый день, слышь, приказы корпусным командирам диктовал, но куда не в духе был: никак, вишь, чрез своих разведчиков доведаться не может, где ныне Кутузов со всем войском своим обретается: словно сквозь землю провалился! Куда ни сунутся, везде на одних казаков натыкаются.
Ну, а старая гвардия лагерем в поле расположилась за дворцовым парком. Солнца уж нет как нет; погода сырая, холодная. По всему лагерю грязь по щиколотку. Офицерство хоть в палатках и под дощатыми навесами укрывалось; но от сквозного ветра там не уберечься. Насилу себе из дворца мягкую мебель – диваны и кресла – выпросили; а сами в сибирские меха кутались да в кашемировые шали – военные «трофеи» из московских палат «боярских». Кушали с серебра, но, вместо супу, некую мучную бурду, с золой перемешанную, а жаркое все одно – конину да конину, и без крошки не токмо белого, но и «свиного» хлеба. Про нижних чинов и говорить нечего: лежали они на мокрой соломе и под открытым небом; костры же себе разводили не дровами, а оконными рамами, дверьми и мебелью все из того же дворца. Вдобавок в ночь на б-е число проливным дождем и самих их до костей промочило, и костры им потушило.
Не диво, что Наполеон поторопился с утра же в город вернуться. Но тоже не на радость: по улицам солдаты его шайками за добычею бродят; другие с награбленными уж вещами, как торговки, на перекрестках сидят, проходящим за кусок хлеба предлагают; а из одного дома ему прямо под ноги, чуть не на голову, столы и стулья, зеркала и картины полетели.
Весьма осерчал, одним декретом сие зло пресечь хотел. Но ему доложили, что не до всех-де полков еще очередь дошла. Так нынче только, 9-го числа, приказ вышел, что кто и впредь в грабеже уличен будет, того уж без пардону расстреляют.
От всей-то Москвы, полагают, уцелела после пожара много-много что пятая часть. Уцелел так и казенный воспитательный дом, да и разграблен не был: управляющий оным Тутолмин не бежал из города, по примеру главнокомандующего Ростопчина, а в самый день въезда Наполеона в Москву, 3-го числа, смело предстал перед ним: «Благотворительное-де заведение для круглых сирот, под особым покровительством состоящее матери государевой, императрицы Марии Федоровны. Защитите от разгрома!» И Наполеон внял, защитил. А воротясь после пожара в город, сам посетил оный дом, похвалил Тутолмина за образцовый порядок и спросил, не намерен ли он, Тутолмин, послать императрице в Петербург рапорт о том, что вверенное ему заведение нимало не пострадало ни от пожара, ни от неприятельского нашествия.
– Рапорт у меня уже изготовлен, ваше величество, – отвечал Тутолмин, – не знаю только, с кем его отправить…
– Дайте его мне, – говорит Наполеон. – Я пошлю со своим курьером.
И послал. Рассчитывает, видно, что царица-мать смягчит гнев царя на него, злодея.
Вызвал тогда же к себе некоего москвича Яковлева, отставного офицера:
– Вот вам, – говорит, – письмо от меня к императору Александру. Поезжайте сейчас в Петербург.
В письме же том – как слышал лейтенант д’Орвиль в канцелярии генерала Бертье (угроза заключается, что французская армия горит нетерпением идти на Петербург, и тогда Петербург постигнет та же участь, что и Москву, русские ассигнации потеряют всякую цену, и Россия обанкротится.
Прибавил бы уж кстати, что сам фальшивых русских ассигнаций на миллион отпечатал. Думает, вишь, своей угрозой понудить нашего государя мир заключить. Как бы не так!
В Париж тоже курьер поскакал с повелением выбить медаль во славу вступления великой армии в Москву. Не рано ли, сударь мой, торжествуете?
Глава тринадцатая
«Ожидайте нас в Париже!» Французский театр. Крестьянский самосуд и французский военный суд. Крест с колокольни Ивана Великого. Маркитантка-боярыня
Сентября 10. Смехотворный некий анекдот у меня с Пипо вышел. Играли мы опять в шашки. Играет он, сказать правду, куда лучше меня и взял три лишние шашки.
– Сдавайтесь, – говорит.
– Русские, – говорю, – до последней минуты не сдаются!
– Да ведь все равно вам уже не выиграть?
– Выиграю! И еще одну вашу шашку в угол запру.
Усмехнулся.
– Это так же верно, – говорит, – как то, что русские в Париже у нас будут, как вот мы в Москве.
– А вы думаете, не будут? Посмотрим.
– Посмотрим, – говорит, – посмотрим!
А сам зазевался. Подставил я ему шашку:
– Не угодно ли взять?
Взял он, а я у него хвать три зараз.
– Посмотрим, – говорю, – посмотрим!
Он так растерялся, что тут же сделал другой преглупый ход, и я опять взял две лишние шашки; потом стал меняться, и в конце концов у него осталась одна-единственная, которую я и запер в угол.
– Ну, мосье Пипо, ожидайте нас в Париже!
То-то обозлился! Стулом так об пол треснул, что ножка отлетела.
Сентября 11. Дабы войска своего дух поднять, у Наполеона замышлены зрелища театральные. Казенный театр дотла тоже сгорел со всеми декорациями. Но в одном покинутом барском доме нашелся домашний театр. Дом сей мародерами, по примеру других, разгромлен; но сцену повелено без промедления в порядок привести, и уже послезавтра начнутся представления. Разыскали и актеров постоянной здешней французской труппы. Те было отговариваться, что все костюмы-де разграблены; но им объявлена непреклонная воля их императора – и покорились.
Сентября 12. Нынче был генеральный смотр французским войскам. Пипо протекцию мне оказал и провел меня в Кремль спозаранку.
Императорская старая гвардия, надо честь отдать, на загляденье; молодая гвардия тоже принарядилась, подтянулась. Зато армейские полки – просто стыд и срам: мундиры вконец изношены, заплатаны, и сами люди разучились в строю стоять, свои воинские штуки ружьями выделывать.
Наполеон, однако же, виду не показал, что замечает сии недочеты; отличившимся в Бородинском сражении ордена раздавал, других в следующий чин производил. Так капитана Ронфляра майором поздравил, а лейтенанта д’Орвиля своеручно петличным крестиком Почетного легиона украсил.
Сентября 13. Воля Наполеонова исполнена: театральный спектакль состоялся и отныне каждодневно повторяться будет. По углам улиц афиши с утра еще расклеены.
– Совсем как у нас в Париже! – говорили меж собой офицеры. – Только афиши писанные, а не печатные.
– Зато и цены на все места очень умеренные.
– Да и струнный оркестр преизрядный. Откуда его выкопали?
– А некий лифляндский барон собственных музыкантов своих из Риги завез. При нашем нашествии сам барон с русскими тягу дал, а музыкантов здесь посеял.
Вечером вся компания, само собой, в театр собралась. Попал туда и Пипо, коему Ронфляр на радостях, что в майоры возведен, билет подарил.
В партере сидели одни солдаты; в первых рядах кавалеры Почетного легиона из гвардейцев. Офицерство занимало ложи. Были и дамы из здешних француженок.
Освещается театральная зала большим паникадилом церковным. Занавес сделан из золотой парчи. Кулисы сколочены на скорую руку, но разукрашены лентами и искусственными цветами; а мебель даже прероскошная, ибо взята из того же «боярского дворца».
Самого Наполеона в театре не было. Для себя он устроил в Кремле особую концертную залу и итальянских певцов из-за границы выписал. Чай, тоже своими фальшивыми сторублевками платить им будет. Поздравляю певцов!
Сентября 15. Что ни день, то мои офицеры в театре. Третьего дня давались «Три султанши», вчера – «Рассеянный Фигаро», сегодня пойдут «Проказы в тюрьме», завтра – «Сид и Заира».
– Нет, – говорят, – пищи для тела, так есть хоть для духа.
Да порядочна ли она еще, господа, эта ваша духовная пища?
Впрочем, на однообразие жаркого им жаловаться уже не приходится: Пипо, что ни день, с ружьем на охоту ходит и своему господину то галку, то ворону, то кошку бездомную на крыше подстрелит.

От полковых же фуражиров и вправду мало толку: как от козла – ни шерсти, ни молока. Хотя их и рассылают по окрестным деревням, но проученные уже крестьяне, вилами, дубинами, рогатинами вооружившись, по дорогам их подстерегают и расправляются с ними самосудом. Страшное дело – самосуд! В озлоблении своем люди звереют, всякие лютости чинят. И раньше или позже кара их постигает. Так маршалом Даву на сих днях была захвачена группа вооруженных мужиков и военным судом осуждена к расстрелу. Но тут-то, перед лицом смерти, сказалось все христианское смирение русского человека. Когда осужденным прочитали смертный приговор (в русском переводе), они меж собою, как бы перед отъездом в дальний путь, обнялись, поцеловались. Когда же их поставили в ряд и одного за другим стали расстреливать, ни один не выказал малодушия, не молил о пощаде; когда до кого доходила очередь, он призывал имя Божие, крестился и падал под пулей на вечный сон.
– Изумительно! – говорил Ронфляр своим товарищам. – Точно спартанцы или римляне…
– Да, г-н майор, – говорю я ему. – И простой русский народ, как видите, умеет умирать за свою веру и родину.
Не понравилось, прикрикнул:
– Тебя кто спрашивает? Пошел в свою берлогу!
Сентября 16. Новое святотатство: с колокольни Ивана Великого золотой крест сняли; отвезут его, слышно, в Париж и на куполе Дома Инвалидов водрузят. Сам Наполеон из кремлевского дворца наблюдал за рабочими. Русские рабочие от столь безбожного дела, понятно, наотрез отказались. Тогда вызвали плотников и кровельщиков из своей же французской армии. Огромный крест, однако же, оказался для них не по силам грузным; сдержать на цепях не смогли, и грохнулся он с высоты на мостовую. Никого хоть, к счастью, не убило.

Заходила к нам проведать господ офицеров старая маркитантка Дюбоа.
– А что, мадам Дюбоа, – говорят ей, – будете вы сегодня в Кремле на костюмированном бале?
– Где уж мне! – говорит. – Император дает бал для здешней французской колонии…
– Да вы-то чем хуже здешних дам? Сколько ведь потрудились на походе для нашей армии!
– У меня, господа, и костюма подходящего нет…
– Ну, костюм-то мы вам подарим.
Кликнули денщиков и велели разложить перед нею на выбор все женские платья, что заключались в сундуках, которые вырыли намедни в саду под дубом. Долго выбирала старуха, пока не решилась нарядиться русской боярыней. Хороша боярыня! И смешно-то, и зло берет.
Глава четырнадцатая
Старая гвардия отличается. Муниципалитет. Француженки-торговки. Осквернение храмов. Парламентер у Кутузова
Сентября 17. Грабеж все усугубляется. На столе у лейтенанта д’Орвиля усмотрел только что такой приказ – привожу его по-русски:
«В старой гвардии беспорядки и грабеж сильнее, чем когда-либо, возобновились вчера, в последнюю ночь и сегодня. С сожалением видит император, что отборные солдаты, назначенные охранять его особу, долженствующие подавать пример повиновения, дошли до такой степени ослушания, что разбивают погреба и склады, заготовленные для армии. Другие унизились до того, что не слушают часовых и караульных офицеров, ругают их и избивают».
Герои Аустерлица! Львы Наполеоновы! Слышали ли вы про баснословных львов, что, будучи ввергнуты в общую яму, так меж собой перегрызлись, что одни хвосты остались!
Сентября 18. Под видом, что печется о благе обывателей московских, Наполеон со вчерашнего дня новое городовое и полицейское управление завел, муниципалитетом именуемое. Начальником сего му-ни-ци-па-ли-те-та (натощак и не выговорить!), префектом, купец французский Лессепс назначен, который до войны французским консулом в Петербурге состоял и по-русски с грехом пополам маракует. Себе в помощь он с полсотни из здешних иностранцев навербовал, а равно и из тех русских купцов, что остались еще в городе.
И вот зовет меня нынче лейтенант д’Орвиль.
– Ну, Андре, – говорит, – Лессепс сам тебя видеть хочет.
Я так и обмер.
– Да в чем я провинился? – говорю.
Рассмеялся.
– Ни в чем; напротив. Я рекомендовал ему тебя на должность полицейского комиссара.
– Помилуйте! – говорю. – Я не изменник своего отечества.
– Какой вздор! – говорит. – Ты только порядок водворять будешь в своем же отечестве. А жалованье тебе положат хорошее…
– Фальшивыми ассигнациями?
Вскипел.
– Придержи, – говорит, – свой язык! Ради молодости твоей на первый раз, так и быть, прощаю. Дадут тебе цветной шарф, на руку – белую повязку…
Чем прельстить вздумал!
– Ах, Боже мой! – говорю и за лоб схватился. – Ночью я окошко открывал… продуло… голову страшно ломит!.. Простите, я прилягу…
Убрался поскорее вон, голову себе мокрым полотенцем обвязал – и в постель.
Заглянул ко мне Пипо, а я только тяжко стонаю. Полежу день, другой – авось, гроза и минет.
Сентября 20. С одра моей мнимой болезни Пипо меня силой поднял.
– Долго ли ты, – говорит, – валяться еще будешь? На вид совсем здоров…
– Голова, – говорю, – все еще трещит.
– На свежем воздухе живо пройдет. Идем-ка, идем! Увидишь, какой порядок наш муниципалитет в городе навел – просто на удивленье!
И точно: в каменных корпусах Гостиного двора иные лавки уже открылись; но стоят за прилавком не наши русские купцы и приказчики, а француженки, молодые и старые – откуда их и понабрали! Всяким суровским товаром, галантереей и бакалеей торгуют, любезно так зазывают, сладко так улыбаются, да и дешево, признаться, товар свой отдают, еще бы: самим гроша не стоил. Но деньги берут одной звонкой монетой – серебром да золотом: в ассигнациях своего императора, видно, тоже изверились.
– А белый хлеб тоже есть в продаже? – спрашиваю я у Пипо.
– Есть, – говорит. – Немцам-булочникам отдан приказ немедля открыть опять свои булочные. Но немцы выгоды своей тоже не упустят: за пятикопеечную булку два рубля берут. Нам, нижним чинам, не по карману; а офицеры одну булку меж собой на двоих делят.
Проходим мимо церкви.
– Войдем, – говорю. – Давно в храме Божьем не молился.
Вошел – и остолбенел: посреди храма весы висят, а кругом весов офицеры и солдаты толпятся, добычу свою взвешивают: серебряные подсвечники алтарные, паникадила, ризы с образов и иконостаса сорванные… Помяни, Господи, царя Давида и всю кротость его!
Ни слова не промолвив, вон вышел. Пипо тоже как будто смутился.
– Мало ли здесь, в Москве, – говорит, – и других церквей.
Входим в другую. А там в самом алтаре лошади, как в стойле, стоят, ризами поповскими, вместо попон, покрытые. Алтарь в конюшню обращен!
В одном притворе сено свалено; снопы ржаные и овсяные; в другом – кочаны капусты, морковь, репа, картофель. Тут же на каменных плитах костер разведен – не дровами, а рамами от святых икон! Поваренок-французик в бумажном колпаке похлебку в котле деревянной ложкой мешает, а повариха-француженка около на табуретке сидит и платье себе кроит из ризы поповской.
Натура у меня кроткая, незлобивая, но тут желчь поднялась, слеза прошибла.
– И все сие, – воскликнул, – творится с ведома, а может, и по повелению вашего императора?
– Тсс! – цыкнул на меня Пипо. – Услышат другие, так ни тебе, ни мне несдобровать.
И вывел меня вон на улицу. А там, как нарочно, сам навстречу нам со свитой: драгоценного здоровья своего ради, ежедневную прогулку верхом совершает. Пипо – во фронт, да как гаркнет:
– Да здравствует император!
Вспомнилось мне тут, что и я-то ведь в их солдатской форме и – каюсь – струхнул, тоже руку к козырьку приложил. Не заметил он, что я его ни единым звуком не приветствовал, и, обоим нам кивнувши, дальше проследовал.
О, буди при мне в сей момент заряженное ружье, пистолет – за себя не отвечаю…
Сентября 22. К Наполеону в Кремль приезжал адъютант короля неаполитанского Мюрата. Клянет и казаков, и Милорадовича, и Кутузова. Казаки, вишь, и фуражиров перехватывают, и на лагерь Мюратов нападают: день и ночь будь начеку, и лошадей держи замуштрованными; к утру, как мукою, инеем покрыты. У самого адъютанта щека повязана, в ушах вата.
– Насквозь простужен, – говорит. – Хоть бы пищей согреться, а то конина в горло уж не лезет; вместо сала или масла – сальные свечи, вместо соли – порох. От пороха – неутолимая жажда, а от сырой воды – расстройство желудка.
Милорадович же, точно на смех, разъезжает по своим аванпостам сытый, на сытом коне, а встречаясь на линии с Мюратом, почтительно раскланивается и участливо справляется, хорошо ли тот себя чувствует.
– Прекрасно! – отвечает Мюрат, а сам зубами скрежещет, в душе его ко всем чертям посылает.
Вдобавок казаки вчера захватили в плен его начальника штаба, генерала Ферье. А без Ферье он как без рук. Просил Кутузова отпустить пленника на честное слово, но получил отказ. Вот и прислал своего адъютанта к Наполеону, чтобы от себя уж отправил к Кутузову парламентера.
Сентября 23. Парламентером поехал генерал Лористон под видом якобы размена Ферье и других пленников, но на самом-то деле, чтобы закинуть словечко о мире. Круто, видно, приходится!
Начал Лористон с жалобы на русских крестьян и казаков, расправляющихся по-своему с французскими фуражирами.
– Такой образ войны, – говорит, – противен всем военным постановлениям просвещенных наций.
А Кутузов казанской сиротой прикинулся, расслабленным старцем.
– Ваша правда, генерал, – говорит и вздыхает. – Но крестьянами, простите, я не командую.
– А казаки – люди военные и тоже никаких правил признавать не хотят…
– Ох, уж эти казаки, казаки! Я и сам не рад, да что с ними поделаешь? Иррегулярное войско!
– Так зачем же тогда воевать, ваша светлость! Не лучше ли помириться?
– О! – говорит светлейший и платком глаза утирает. – Скажите, генерал, вашему императору, что я плачу, что самое горячее желание мое – мир заключить; от его великодушия зависит благополучие моего бедного отечества, всего русского народа.
Лористон духом воспрянул.
– Ваша светлость, значит, готовы хоть сейчас прекратить войну?
– Я-то?.. О да, хоть сию минуту. Только вот государь мой строго-настрого запретил мне произносить слово мир, пока армия ваша не покинула пределов России.
– Однако послать от себя курьера к императору Александру с предложением наших мирных условий вы ведь не откажетесь?

– Сегодня же, извольте, отправлю нарочного.
И курьер послан. Французы по всей Москве не могут скрыть своего восторга: прыгают, как дети, обнимаются, целуются; всем испытаниям их ведь конец!
Подлинные дети: поверить, что Кутузов, сподвижник Суворова, пойдет на мировую без всякого сражения, когда их армия с каждым днем все больше расстраивается. Я этому не верю! У него это военная хитрость: он усыпляет неприятеля, чтобы потом сразу нагрянуть.









































