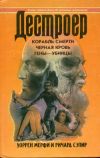Автор книги: Василий Бабков
Жанр: Прочая образовательная литература, Наука и Образование
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 19 (всего у книги 76 страниц) [доступный отрывок для чтения: 22 страниц]
В. В. Каширин, как и все другие самостоятельно мыслящие люди, брал из господствующей религии только то, что подходило к его характеру и наклонностям: он создавал себе бога по своему образу и подобию. Христос с его любвеобильной моралью был совершенно чужд ему. Его бог, как и сам он, строгий хозяин, организатор, ведущий большое дело и беспощадно карающий негодных работников, так как нет иного средства их исправить. Таким был и сам дед в своей жизни.
Правда, дело у него было небольшое. Но если бы он получил лучшее образование и попал в условия оживленного расцвета экономической жизни, из него мог бы выработаться крупный хозяйственный организатор. Он сам сумел бы найти для этого капиталы, как нашли и создали их его более удачливые современники, сделавшиеся из неимущих крестьян и мещан большими капиталистами, промышленниками, фабрикантами. Сношения с людьми иной среды навели бы культурный лоск на его грубый и жестокий нрав. Врожденные способности практического организатора-индивидуалиста у деда, несомненно, были.
Бабушка по матери, Акулина Ивановна Каширина (II 4), по некоторым основным чертам походила на деда, по другим резко от него отличалась. О своем происхождении она рассказывала внуку следующее:
«Я сиротой росла, матушка моя бобылкой была, увечный человек, еще в девушках ее барин напугал. Она ночью со страху выкинулась из окна, да бок себе и перебила, плечо ушибла тоже, с того у нее рука правая, самонужная, отсохла, а была она, матушка, знатная кружевница. Ну, стала она барам ненадобна и дали ей вольную, – живи-де, как сама знаешь, а как без руки-то жить? Вот она и пошла по миру, за милостью к людям, а в та пора люди-то богаче жили, добрее были – славные балахонские плотники, да кружевницы, все напоказ народ. Ходили бывало мы с ней, с матушкой, зимой – осенью по городу, а как Гаврило-архангел мечом взмахнет, зиму отгонит, весна землю обымет, – так мы подальше, куда глаза поведут. В Муроме бывали и в Юрьевце, и по Волге вверх, и по тихой Оке. Весной-то и летом хорошо по земле ходить, земля ласковая, трава бархатная. Пресвятая Богородица цветами осыпала поля, тут ли тебе радость, тут ли сердцу простор. А матушка-то бывало, прикроет синие глаза да как заведет песню на великую высоту, – голос у ней не силен был, а звонок, – и все кругом будто задремлет, не шелохнется, слушает ее. Хорошо было Христа-ради жить. А как минуло мне девять лет, зазорно стало матушке по миру водить меня, застыдилась она и осела на Балахне, куваркается по улице из дома в дом, а на праздниках – по церковным папертям собирает. А я дома сижу, учусь кружева плести, тороплюсь учусь, хочется скорее помочь матушке-то. Бывало не удается чего, слезы лью. В два года с маленьким, гляди-ка ты, научилась делу, да и в славу по городу вошла: чуть кому хорошая работа нужна, сейчас к нам: ну-ка, Акуля, встряхни коклюшки. А я и рада, мне праздник. Конечно, не мое мастерство, а матушкин указ. Она хоть и об одной руке, сама-то не работница, так ведь показать умела. А хороший указчик дороже десяти работников. Ну, тут загордилась я: ты, мол, матушка, бросай по миру собирать, теперь я тебя сама-одна прокормлю»…
Образ матери Акулины Ивановны (I 4) нам ясен из этого художественного рассказа. Но кто был ее отец? Когда с искусной кружевницей случилось несчастие, сделавшее ее нетрудоспособной калекой на всю жизнь, она была незамужней, после получила вольную, могла сама собой распоряжаться. Кто же женился бы на безрукой нищей, хотя бы и красавице? Такой брак мог бы быть только незаурядным романом, и о подробностях его не могла не знать романтически настроенная дочь. Вероятнее всего, прабабушка Горького так и осталась незамужней «бобылкой», и Акулина – ее незаконная дочь! Может быть, отцом ее и был тот «барин», который так «напугал» ее мать.
Горький вспоминает также о сестре своей бабушки, Матрене Ивановне, злобной, сварливой старухе. Может быть, это была одноутробная сестра, хотя в воспоминаниях о своем детстве Акулина Ивановна ни словом не говорит о сестре, которая очень осложнила бы обстановку далеких странствований за куском хлеба. Сходство отчеств Матрены и Акулины нельзя истолковать в том смысле, что они были родными и по отцу, так как незаконнорожденным часто дается это ходячее отчество. А может быть, это была только двоюродная сестра. Пока мне этого не удалось разъяснить. Во всяком случае, имеется высокая вероятность, что происхождение Акулины Ивановны межсословное, что нередко наблюдается в родословных выдвиженцах, как мы увидим и на примере Н. П. Кравкова.
Бабушка (я буду так называть Акулину Ивановну, так как этим именем ее называл Алеша Пешков и другой бабушки он не знал) была в одном отношении под пару своему предприимчивому, энергичному мужу: у нее было в той же степени сильно влечение к деятельности, к работе. В молодости она, конечно, была такой же сильной и ловкой, как он. Здоровье и крепость сохранились у нее до старости. Когда дед обнищал, она не только сама для себя доставала средства к жизни, но временами кормила мужа и внучат, вечно двигалась, хлопотала. Она любила жить, двигаться, трудиться. Опасное жизненное положение вызывало у нее не страх и не растерянность, а немедленные решительные поступки. Занялся пожар в красильной мастерской, наполненной химическими продуктами. Все растерялись, но не бабушка:
«Накинув на голову пустой мешок, обернувшись попоной, она бежала прямо в огонь и сунулась в него, вскрикивая:
– Купорос, дураки! Взорвет купорос…
– Григорий, держи ее! – выл дедушка. – Ой, пропала…
Но бабушка уже вынырнула, вся дымясь, мотая головой, согнувшись, неся на вытянутых руках ведерную бутыль купоросного масла.
– Отец, лошадь выведи! – хрипя, кашляя, кричала она. – Снимите с плеч-то, горю, али не видно!..
Григорий сорвал с плеч ее тлевшую попону и, переламываясь пополам, стал метать лопатою в дверь мастерской большие комья снега; дядя прыгал около него с топором в руках; дед лежал около бабушки, бросая в нее снегом; она сунула бутыль в сугроб, бросилась к воротам, отворила их и, кланяясь вбежавшим людям, говорила:
– Амбар, соседи, отстаивайте! Перекинется огонь на амбар, на сеновал, – наше все дотла сгорит, и ваше займется! Рубите крышу, сено – в сад. Григорий, сверху бросай, что ты на землю-то мечешь! Яков, не суетись, давай топоры людям, лопаты! Батюшки-соседи, беритесь дружней, – Бог нам на помочь.
Она была так же интересна, как и пожар; освещаемая огнем, который словно ловил ее, черную, она металась по двору, всюду поспевая, всем распоряжаясь, все видя.
На двор выбежал Шарап, вскидываясь на дыбы, подбрасывая деда; огонь ударил в его большие глаза, они красно сверкнули: лошадь захрапела, уперлась передними ногами; дедушка выпустил повод из рук и отпрыгнул, крикнув:
– Мать, держи!
Она бросилась под ноги взвившегося коня, встала пред ним крестом; конь жалобно заржал, потянулся к ней, косясь на пламя.
– А ты не бойся! – басом сказала бабушка, похлопывая его по шее и взяв повод. – Али я тебя оставлю в страхе этом? Ох, ты, мышонок…
Мышонок, втрое больший ее, покорно шел за нею к воротам и фыркал, оглядывая красное ее лицо…
Пожар кончился.
Дед вошел, остановился у порога и спросил:
– Мать?
– Ой?
– Обожглась?
– Ничего!
Он зажег серную спичку, осветив синим огнем свое лицо хорька, измазанное сажей, высмотрел свечу на столе и, не торопясь, сел рядом с бабушкой.
– Умылся бы, – сказала она, тоже вся в саже, пропахшая едким дымом.
Дед вздохнул:
– Милостив Господь бывает до тебя, большой тебе разум дает…
И, погладив ее по плечу, добавил, оскалив зубы:
– На краткое время, на час, а дает!
Она встала и ушла, держа руку перед лицом, дуя на пальцы, а дед, не глядя на меня, тихо спросил:
– Весь пожар видел, сначала? Бабушка-то как, а? Старуха, ведь… Бита, ломана… То-то же! Эх, вы-и…»
Тотчас же после пожара бабушке пришлось принимать ребенка у внезапно от испугу родившей снохи и присутствовать при ее смерти. Ночью в комнату, где спал внук, «дверь очень медленно открылась, в комнату вползла бабушка, притворила дверь плечом, прислонилась к ней спиною и, протянув руки к синему огоньку неугасимой лампады, тихо, по-детски жалобно, сказала:
– Рученьки мои, рученьки больно»…
В борьбе с общей бедой бабушка была первой среди всех ее окружавших, как героиня классической трагедии. Вот уже подлинно буквально, как сказал поэт про русскую женщину:
Коня на скаку остановит,
В горящую избу войдет.
Можно подумать, что эмоция страха вовсе не известна бабушке. Собирая с внуком грибы в лесу, она встречается с волком:
«Сидя на тропе, она спокойно срезает корни грибов, а около нее, вывесив язык, стоит серая, поджарая собака.
– А ты иди, иди прочь! – говорит бабушка. – Иди с Богом!
Незадолго перед этим Валек отравил мою собаку; мне очень захотелось приманить эту, новую. Я выбежал на тропу, собака странно изогнулась, не ворочая шеей, взглянула на меня зеленым взглядом голодных глаз и прыгнула в лес, поджав хвост. Осанка у нее была не собачья, и, когда я свистнул, она дико бросилась в кусты.
– Видал? – улыбаясь, спросила бабушка. – А я вначале опозналась, думала – собака, гляжу – ан клыки-то волчьи, да и шея тоже! Испугалась даже: ну, говорю, коли ты волк, так иди прочь! Хорошо, что летом волки смирены»…
На улице озорной парень и ребята подзадоривают Алешу показать храбрость, просидеть ночь на кладбище у незакопанного гроба: все вокруг верят, что покойник-старик дурной славы – по ночам встает из гроба и ходит по кладбищу. Бабушка тут же: она верит в домовых и оборотней. Можно было бы ожидать, что она остановит любимого внука; наоборот, она только спокойно говорит:
– Пальтишко надень, да одеяло возьми, а то к утру холодно станет, – и ее слова возбуждают у внука надежду, что ничего страшного с ним не случится.
Утром бабушка сама пришла на кладбище, разбудила заснувшего у гроба мальчика.
– Вставай. Не озяб ли? Ну, что, страшно?
– Страшно, только ты никому не говори про это, ребятишкам не говори.
– А почто молчать? – удивилась она. – Коли не страшно, так и хвалиться нечем…
Пошли домой, и дорогой она ласково говорила:
– Все надо самому испытать, голуба душа, все надо самому знать… Сам не научишься – никто не научит…»
Если в отношении общей активности дед и бабушка были одарены от природы одинаково, то по другим, также, конечно, врожденным влечениям и по эмоциональности они были резко, почти диаметрально различны. Дед, по крайней мере в старости, был черствый эгоист, угрюмый, подозрительный, скупой и нелюдимый, жестокий, властный, с огромным самомнением – типичный схизоид, по Кречмеру. Бабушка – общительная, веселая, воплощенная доброта: ее темные глаза были «полны сиянием неистребимой любви к людям», превосходный пример ясно выраженного циклоидного типа.
Очень характерной чертой бабушки являются ее любовь к жизни, жизнерадостность. Уже совсем старенькая, живущая после разорения мужа нищенством, она все же после рассказа внука о красивой барыне, дававшей ему книги, горячо восклицает: «Господи, Господи! хорошо то все как! Жить я согласна веки-вечные».
Бабушка временами любила выпить; дважды – в тяжелые периоды жизни, когда боялась сначала за судьбу сына, а потом за дочь, – даже запила. Но и в опьянении, когда сдерживающие силы интеллекта ослабевают и человек наиболее ярко проявляет особенности своего темперамента, она оставалась по-прежнему доброй и веселой.
«Выпивши, она становилась еще лучше: темные ее глаза, улыбаясь, изливали на всех греющий душу свет, и, обмахивая платком разгоревшееся лицо, она певуче говорила:
– Господи, Господи! Как хорошо все! Нет, вы глядите, как хорошо-то все!
Это был крик ее сердца, лозунг всей жизни».
Бабушку упросили поплясать.
«Бабушка не плясала, а словно рассказывала что-то. Вот она идет тихонько, задумавшись, покачиваясь, поглядывая вокруг из-под руки, и все ее большое тело колеблется нерешительно, ноги щупают дорогу осторожно. Остановилась, вдруг испугавшись чего-то, лицо дрогнуло, нахмурилось и тотчас засияло доброй приветливой улыбкой. Откачнулась в сторону, уступая кому-то дорогу, отводя рукой кого-то; опустив голову, замерла, прислушиваясь, улыбаясь все веселее, – и вдруг ее сорвало с места, закружило вихрем, вся она стала стройней, выше ростом, и уж нельзя было глаз отвести от нее, – так буйно-красива и мила становилась она в эти минуты чудесного возвращения к юности!»
Незлобивость бабушки, ее готовность покориться, не противиться злу насилием (там, где это зло направлено лично против нее) порой даже сердят внука. «Иногда меня трогает за сердце эта слепая, все примиряющая доброта, а иногда очень хочется, чтобы бабушка сказала какое-то сильное слово, что-то крикнула». Внук спрашивал бабушку, как это она, сама сильная, позволяет деду себя бить.
Все вокруг любили бабушку, доброта которой была лучом света в темном, жестоком царстве. Работник Цыганок заявляет: «Я всех Кашириных, кроме бабани, не люблю, пускай их демон любит». Постоялец «Хорошее дело» говорит Алеше: «Хороша у тебя бабушка, о, какая земля». А мастер Григорий внушает мальчику: «Бабушка неправду не любит, не понимает. Она вроде святой, хоть и вино пьет, табак нюхает. Ты держись за нее крепко». Внук впрямь считает бабушку святой. У них заходит разговор о гниении трупов:
– Все гниют?
– Все. Только святых минует это…
– Ты не сгниешь!
«И все более удивляла меня бабушка, – пишет внук: – я привык считать ее существом высшим из людей, самым добрым и мудрым на земле, а она неустанно укрепляла это убеждение».
Внук трогательно описывает, как бабушка водила его совершать обряд «тихой милостыни»: ночью, никем не замеченная, разносила по домам, которые были еще беднее ее, хлеб и иное подаяние. «Каждый раз, как у нее скоплялось немножко денег от продажи грибов и орехов, она раскладывала их под окнами «тихой милостыней», а сама даже по праздникам ходила в отрепье, в заплатах. Когда бабушка умерла, А. Пешков узнал о ее смерти через семь недель после смерти, из письма, присланного его двоюродным братом. В кратком письме – без запятых – было сказано, что бабушка, собирая милостыню на паперти церкви и упав, сломала себе ногу. На восьмой день прикинулся антонов огонь. Внуки: оба брата и сестра с детьми – здоровые, молодые люди – сидели на шее старухи, питаясь милостыней, собранной ею. У них не хватило разума позвать доктора. В письме было сказано: «Схоронили ее на Петропавловском где все наши провожали мы и нищие они ее любили и плакали».
В области интеллектуальных способностей следует отметить высокий поэтический талант бабушки и ее своеобразную религиозность.
Бабушка глубоко активно чувствовала красоту природы. На пароходе восторгается видами. «Ты гляди, как хорошо-то! – говорит ежеминутно бабушка, переходя от борта к борту, и вся сияет, а глаза у нее радостно расширены. – Вот он, батюшка, Нижний-то. Вот он каков, Богов. Церкви-те, гляди-ка ты, летят, будто. Варюша, погляди, чай, а? порадуйся».
При великолепной памяти хорошо знала народную поэзию. Была она неграмотной и запоминала со слуха, жадно слушала песни нищих, слепых; воспроизводила она их превосходно, была выдающейся «сказительницей» и, конечно, не пассивно передавала то, что только услышала, а творила сама, активно участвуя в создании народной поэзии. Фантазия у нее была богатая, язык образный, и, когда она рассказывала внуку события из прошлой жизни, она облекала свой рассказ в художественную форму, и трудно было разобрать, при всей ее глубокой правдивости, где кончается точное изложение фактов и начинается поэтический творческий вымысел. Внук вырос под обаянием рассказов, сказок и песен бабушки, прошел жизненную художественную школу. Но не только мальчик, и взрослые образованные люди попадали под обаяние бабушкиной поэзии. М. Горький рассказывает, как однажды разрыдался, слушая сказания бабушки, один интеллигент «Хорошее дело».
Религия бабушки та же поэзия, насыщенная бесконечной любовью к людям. Церковного в ней очень мало. Бабушка совсем плохо разбирается в догматах церкви, в священной истории. Она готова поверить, что Матерь Божья побывала в Рязани. Церковными службами, святыми угодниками мало интересуется. Зато в бесов, домовых верит и сама видывала их. Шутливо говорит деду, строго выполняющему церковную формалистику: «А скушно, поди-ка, Богу-то слушать моление твое, отец, – всегда ты твердишь одно и то же». Сама она не любит затверженных молитв, хотя много молится и утром и вечером. Ребенок слушал и позднее по памяти записал ее моления. Это было непрерывное поэтическое творчество, простой, от души разговор с богом; «всегда молитва ее была акафистом, хвалою искренней и простодушной. Она почти каждое утро находила новые слова хвалы», каждый вечер рассказывала богу о всех событиях дня и о своем отношении к ним, вела, в сущности, дневник, глубокий и художественный. Бог, которого создала себе бабушка, был светлый, радостный бог, исполненный великой жалостью к человечеству и готовый всячески помочь людям, по мере сил и возможности.
«Да поди-ка, и сам-то Господь не всегда в силах понять, где чья вина.
– Разве Бог не все знает? – спросил я удивленный, а она тихонько и печально ответила:
– Кабы все-то знал, так бы многого, поди, люди-то и не делали. Он, чай, Батюшка, глядит, глядит с небеси-то на землю, на всех нас, да в иную минуту как восплачет, да как возрыдает: «Люди вы Мои милые, Мои люди, ох, как Мне вас жалко!»
Она сама заплакала и, не отирая мокрых щек, отошла в угол молиться».
Не подлежит сомнению, что Акулина Ивановна Каширина была одной из самых выдающихся по своей духовной природной одаренности женщин, соединяя в себе энергию, практический ум, высокий альтруизм и художественный талант. Тяжелые внешние условия и отсутствие образования сузили круг ее деятельности, и она прошла бы бесследно в истории человечества, если бы внук, получивший по наследству от нее самые ценные гены, не обессмертил ее светлого образа в своем прекрасном произведении, относящемся к лучшим перлам мировой литературы. Нельзя себе представить такой среды, такой обстановки, при которой она не сумела бы проявить своих душевных способностей и осталась бы средней, незамеченной. Она могла бы быть и великой артисткой, как Комиссаржевская, и поэтессой, и человеколюбицей – вторым д-ром Гаазом. Она была одной из тех, которые рождаются единицами на многие тысячи женщин. Евгенисту трудно найти лучший пример великого могущества среды, которая порою самому ценному генотипу не позволяет выявиться в сколько-нибудь соответствующем его ценности фенотипе.
В 1820–1821 гг. двадцатилетний водолив Василий Каширин женился на четырнадцатилетней кружевнице Акулине. Уже через год у нее родился ребенок, за ним другой – всего 18 детей. Но только трое из них выжили и могли проявить свои генотипы. Так как родители сами были, очевидно, гетерозиготами по целому ряду доминантных признаков, а по ряду признаков были резко различны между собой (один схизоид, другая – циклоид), то естественно, что уже в первом поколении F1 должно было произойти сложное расщепление. Примем, – даже не в виде рабочей гипотезы, а только для примера, – что энергичный темперамент определяется генами А1 и а2, схизоидные элементы характера – генами В1 и b2, а циклоидные – С1 и с2, человеколюбие – D1 и d2, развитие центра речи – Е1 и е2, практический ум – F1 и f2, поэтический талант – G1 и g2. В таком случае генотипическая формула для деда окажется:
A1a1a2a2 B1b1b2b2 c1c1C2c2 d1d1D2d2 E1e1e2e2 F1f1f2f2 g1g1G2g2
А генотип бабушки:
A1a1a2a2 b1b1B2b2 C1c1c2c2 D1d1d2d2 E1e1e2e2 F1f1f2f2 G1g1g2g2
При этих условиях мы можем ожидать у их детей не только расщепления и сложного смешения тех признаков, по которым дед и бабушка различались друг от друга, но также и не полного проявления тех признаков, по которым оба они были схожи. Напр., в результате скрещивания A1a1a2a2 × A1a1a2a2 могут получиться генотипы a1a1a2a2, т. е. с неполным проявлением энергичного темперамента. Такое расщепление, по-видимому, действительно имело место по отношению к обоим сыновьям – Михаилу (III, 9) и Якову (III, 6). Дед прямо говорил бабушке: «Не удались дети-то, с коей стороны ни взгляни на них. Куда сок – сила наша пошла. Мы с тобой думали, – в лукошко кладем, а Господь-от вложил в руки худое решето». А про Михаила, ломившегося в квартиру, чтобы убить отца, горестно спрашивал: «Ну, зол. В кого бы это?»
Оба сына – неудачники и мало похожи на выдвиженцев. Отделившись от отца и получивши каждый свою мастерскую, не могут устроиться и быстро прогорают. Темперамент у них горячий, но нет стойкости, настоящей энергии, нет и практического ума родителей. Бабушка говорит про них, что они «не злые, они просто глупые, Мишка-то хитер, да глуп, а Яков – так себе, блаженный муж»… На самом деле и злости, жестокости в них достаточно. Издеваясь над рабочим Григорием, подстраивали жестокие шутки. В пьяном виде – а пили они много, напиваясь до бесчувствия – сознательно покушались утопить своего деверя. Михаил изо дня в день подходил, пьяный, к дому отца, открыто заявляя, что идет убить его. Яков замучил до смерти жену, и Михаил не меньше бил и мучил свою. У Михаила преобладали схизоидные черты характера отца, Яков может быть скорее назван циклоидом; у него сменялись меланхолические и буйно-веселые настроения. Яков обладал эстетическими наклонностями и музыкальностью, играл на гитаре, хорошо пел. «По песням – царь Давид, а по делам – Авессалом ядовит», – определяет его отец. М. Горький называет его «человеком, который умел жить весело, много видел и много должен знать».
«Дядя Яков окончательно разорился, все прожил, прогулял, служил помощником смотрителя на этапном дворе, но служба кончилась плохо: смотритель заболел, а дядя Яков начал устраивать в квартире у себя веселые пиры для арестантов. Это стало известно, его лишили места и отдали под суд, обвиняя в том, что он выпускал арестантов по ночам в город «погулять». Долго тянулось следствие, однако до суда дело не дошло, – арестанты и надзиратели сумели выгородить доброго дядю из этой истории. После этого он жил без работы, на средства сына, который пел в церковном хоре Рукавишникова, знаменитом в то время, служил сыну «за лакея».
Не подлежит сомнению, что окружающие условия, недостаток образования, общая грубость нравов вокруг и гнет отца значительно исковеркали фенотипные проявления генотипа Михаила и Якова Кашириных. Но вряд ли и при других условиях они выдвинулись бы из окружающей среды. Представим себе эти типы в современной им помещичьей обстановке «Анны Карениной». Образование и внешний лоск затушевали бы их безобразную грубость и жестокость, их пьянство приняло бы более приличную форму, но вряд ли из Якова Васильевича получилось бы что-либо более ценное, чем Стива Облонский – остроумный весельчак, душа общества, прожигатель жизни. Самое ценное в обоих братьях было то, что они являлись скрытыми носителями благородных рецессивных генов В. В. и А. И. Кашириных и при удачных браках могли бы оставить одаренное потомство. Но их браки с покорными, рабскими женами оказались неудачны, и ценные гены их, по-видимому, рассеялись, не вступив в евгенические комбинации.
Мать М. Горького, Варвара Васильевна (III 2), резко отличалась по типу от братьев, хотя судьба ее оказалась столь же печальной. Она, по-видимому, получила от родителей гены энергии и высокого интеллекта. Была красивой, сильной женщиной с развитым эстетическим вкусом, любила красиво одеться.
«У деда до его разорения были целые сундуки старинных диковинных нарядов, он очень любил дочь, гордился ею, позволял наряжаться.
Однажды мать ушла ненадолго в соседнюю комнату и явилась оттуда одетая в синий шитый золотом сарафан, в жемчужную кику: низко поклонясь деду, она спросила:
– Ладно ли, сударь-батюшка?
Дед крякнул, весь как-то заблестел, обошел вокруг ее, разводя руками, шевеля пальцами, и сказал невнятно, точно сквозь сон:
– Эх, кабы тебе, Варвара, большие деньги, да хорошие бы около тебя люди…»
Алеша думал, что «она всегда должна быть красивая, строгая, чисто одетая – лучше всех».
Когда Варвара Васильевна была девушкой, отец, бывало, глядит на Варвару и хвастается: «За дворянина выдам, за барина». Но Варвара сама выбрала себе мужа – молодого, красивого Максима Савватеевича Пешкова (III, 1) – и тайком от отца повенчалась с ним. Отец ее проклял, не хотел видеть. Брак оказался очень счастливым, и лишь случайная смерть мужа от холеры положила конец этому счастью. Варвара вернулась в семью отца. Крутой старик хотел подчинить ее своей власти, братья невзлюбили ее как соперницу в дележе отцовского имущества. Но сильная воля Варвары не поддалась.
«Дядя Михаил, разозлившись на Алешу, ударил по столу рукой и крикнул матери:
– Варвара, уйми своего щенка, а то я ему башку сверну.
– Попробуй, тронь…
И все замолчали…
Она умела говорить простые слова как-то так, точно отталкивала ими людей от себя, отбрасывала их, и они умалялись.
Алеше было ясно, что все боятся матери, даже сам дедушка говорил с нею не так, как с другими, – тише. Это было приятно Алеше, и он с гордостью хвастался перед братьями: «Моя мать – самая сильная». Они не возражали».
Не выдержав семейного ада, мать куда-то уехала, оставив ребенка на попечение деда и бабушки. Прожила год-другой какою-то неизвестной, по-видимому, кипучей жизнью, родила незаконного ребенка (IV, 4) и опять явилась в семью родителей такая же красивая, сильная и властная.
«Ее большое тело было окутано теплым и мягким красным платьем, широким как мужицкий чапан, его застегивали большие черные пуговицы от плеча и наискось до подола. «Никогда я не видывал такого платья, – вспоминает Алеша, – в сравнении с матерью все вокруг было маленькое, жалостное и старое, я тоже чувствовал себя старым, как дед»…
В. В. Каширин, приняв «преступную» дочь, снова захотел крепко взять ее в свои руки. Подыскал ей жениха, «кривого и лысого часовых дел мастера в длинном черном сюртуке, тихонького, похожего на монаха». Но Варвара наотрез отказалась выходить за него замуж и в житейской борьбе одержала верх над отцом.
«После этой истории мать сразу окрепла, туго выпрямилась и стала хозяйкой в доме, а дед сделался незаметен, задумчив, тих, не похож на себя». «Она жила в двух комнатах передней половины дома, у нее были часто гости, чаще других братья Максимовы: Петр, мощный красавец, офицер, и Евгений – высокий, тонконогий, бледнолицый, с черной остренькой бородкой – в зеленоватом мундире с золотыми пуговицами и золотыми вензелями на узких плечах…
Шумно и весело прошли святки, почти каждый вечер у матери были ряженые, она стала рядиться – всегда лучше всех – и уезжала с гостями».
Вскоре мать Алеши обвенчалась со студентом Е. В. Максимовым и после свадьбы уехала с ним в Москву. Выбор оказался неудачным. Муж был безвольным человеком, проиграл в карты все приданое, считал «Обломова» величайшим произведением русской литературы, вскоре разлюбил жену, сошелся с другой. Культурный лоск не удержал его от попытки бить жену, за что Алеша бросился на него с ножом. Измученная, в чахотке, покинутая мужем, похоронив двух детей от второго брака (III, 5 и 6), Варвара Васильевна умерла на глазах у сына, сделав за несколько минут до смерти странную попытку ударить мальчика ножом…
В. В. сама получила некоторое образование, научила сына по «Родному слову» читать гражданскую печать, знала много стихотворений. Она мечтала сделать его образованным человеком. Перед свадьбой она говорила ему:
«Вот мы скоро обвенчаемся, потом поедем в Москву, а потом воротимся, и ты будешь жить со мной. Евгений Васильевич очень добрый и умный, тебе будет хорошо с ним. Ты будешь учиться в гимназии, потом станешь студентом, вот таким же, как он теперь, а потом доктором. Чем хочешь, – ученый может быть, чем хочет…»
Если бы вотчим оказался иным человеком, то дальнейшая судьба Алеши сложилась бы, может быть, и в самом деле совсем иначе… Во всяком случае, мать М. Горького была умной женщиной с сильным характером и эстетическими наклонностями. Мы имеем полное право отнести ее вместе с дедом и бабушкой к группе выдвиженцев.
И отец М. Горького, М. С. Пешков (III, 1), был также несомненным выдвиженцем, хотя он не мог себя проявить в полной мере, так как рано умер. Мы знаем его только по рассказам бабушки.
«Отец был сыном солдата, дослужившегося до офицеров и сосланного в Сибирь за жестокость с подчиненными ему (II 1); там, где-то в Сибири, родился и отец Алеши. Жилось ему плохо, уже с малых лет он стал бегать из дома; однажды дедушка искал его по лесу с собаками, как зайца, другой раз, поймав, стал так бить, что соседи отняли ребенка и спрятали его. Мать отца (II, 2) померла рано, а когда ему минуло девять лет, помер и дедушка, отца взял к себе крестный – столяр, приписал его в цеховые города Перми и стал учить своему мастерству, но отец убежал от него, водил слепых по ярмаркам, шестнадцати лет пришел в Нижний и стал работать у подрядчика – столяра на пароходах Колчина. В двадцать лет он был уже хорошим краснодеревцем, обойщиком и драпировщиком».
Конечно, дед М. Горького по отцу (II, 1) может быть назван выдвиженцем. Нелегко было в николаевские времена простому солдату выслужиться до офицерского чина. Нравы в тогдашней армии были жестокие, и, может быть, его ссылка еще не доказывает грубости его характера. Во всяком случае, сыну эта черта не передалась. Бабушка по отцу (II, 2) была из Сибири. Не была ли она инородкой? Скуластое лицо А. М. (дед звал его за это «пермяком» «скулой калмыцкой») позволяет думать о какой-то примеси монгольской крови.
Увлекательно красив рассказ бабушки о том, как М. Пешков сошелся с Варварой и женился на ней. Его сватовство ярко рисует их обоих. Бабушка, как ни страшно ей было перед дедом, помогла все-таки Максиму и Варваре обвенчаться тайком. Дед с сыновьями гнался за ними на лошади до церкви, но опоздал.
«…доскакали до церкви.
Варя-то с Максимом на паперти стоят, обвенчаны, славе-те, Господи!
Пошли было наши-то боем на Максима, ну, – он здоров был, сила у него была редкая! Михаила с паперти сбросил, руку вышиб ему, Клима тоже ушиб, а дедушка с Яковом да мастером этим – забоялись его.
Он и во гневе не терял разум: говорит дедушке – брось кистень, не махай на меня, я человек смирный, а что я взял, то Бог мне дал и отнять никому нельзя, и больше мне ничего у тебя не надо. Отступились они от него, сел дедушка на дрожки, кричит: прощай теперь, Варвара, не дочь ты мне и не хочу тебя видеть, хошь – живи, хошь с голоду издохни.
Первое время, недели две, и не знала я, где Варя-то с Максимом, а потом прибежал от нее мальчонко бойкенький, сказал. Подождала я субботы, да будто ко всенощной иду, а сама к ним. Жили они далеко, на Суетинском съезде, во флигельке, весь двор мастеровщиной занят, сорно, грязно, шумно, а они – ничего, ровно бы котята, веселые оба, мурлычут да играют. Привезла я им чего можно было: чаю, сахару, круп разных, варенья, муки, грибов сушоных, денжонок, не помню сколько, понатаскала тихонько у деда – ведь, коли не для себя, так и украсть можно! Отец-то твой не берет ничего, обижается; аля, говорит, мы нищие? И Варвара поет под его дудку: ах, зачем это, мамаша?… Я их пожурила: дурачишко, говорю, я тебе кто? Я тебе богоданная мать, а тебе, дурехе, – кровная! Разве, говорю, можно обижать меня? Ведь когда мать на земле обижают – в небесах Матерь Божия горько плачет! Ну, тут Максим схватил меня на руки и давай меня по горнице носить, да еще приплясывает, – силен был, медведь! А Варька-то ходит, девчонка, павой, мужем хвастается, вроде бы новой куклой, и все глаза заводит и все таково важно про хозяйство сказывает, будто всамделешная баба – уморушка глядеть! А ватрушки к чаю подала, так об них волк зубы сломит, и творог – дресвой рассыпается!
Хороши у него глаза были: веселые, чистые, а брови – темные, бывало, сведет он их, глаза-то спрячутся, лицо станет каменное, упрямое, и уж никого он не слушает, только меня: я его любила, куда больше, чем родных детей, а он знал это и тоже любил меня! Прижмется бывало ко мне, обнимет, а то схватит на руки, таскает по горнице и говорит: «Ты, говорит, настоящая мне мать, как земля, я тебя больше Варвары люблю!». А мать твоя, в ту пору, развеселая была, озорница – бросится на него, кричит: как ты можешь такие слова говорить, пермяк, солены уши? И возимся, играем трое; хорошо жили мы, голуба-душа! Плясал он тоже редкостно, песни знал хорошие – у слепых перенял, а слепые – лучше нет певцов!
Поселились они с матерью во флигеле, в саду: так и родился ты, как раз в полдень – отец обедать идет, а ты ему встречу. То-то радовался он, то-то бесновался, а уж мать – замаял просто, будто нивесть какое трудное дело ребенка родить! Посадил меня на плечо себе и понес через весь двор к дедушке докладывать ему, что еще внук явился, – дедушка даже смеяться стал: экой, говорит, леший ты, Максим!
Как-то, о великом посте заиграл ветер, и вдруг по всему дому запело, загудело страшно – все обомлели, что за навождение? Дедушка совсем струхнул, велел везде лампадки зажечь, бегает, кричит: молебен надо отслужить! И вдруг все прекратилось; еще хуже испугались все. Дядя Яков догадался, – это, говорит, наверное, Максимом сделано! После он сам сказал, что наставил в слуховом окне бутылок разных да склянок, – ветер в горлышки дует, а они и гудут, всякая по-своему. Дед погрозил ему: как бы эти шутки опять в Сибирь тебя не воротили, Максим!
– Один год сильно морозен был, и стали в город заходить волки с поля, то собаку зарежут, то лошадь испугают, пьяного караульщика заели, много суматохи было от их! А отец твой возьмет ружье, лыжи наденет, да ночью в поле, глядишь – волка притащит, а то двух. Шкуры снимет, головы выщелушит, вставит стеклянные глаза, – хорошо выходило!»
Дядья невзлюбили Максима и задумали страшное дело – извести его. Ночью зимой столкнули его в прорубь: он спасся только потому, что те были пьяны.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?