Текст книги "На берегу неба (сборник)"
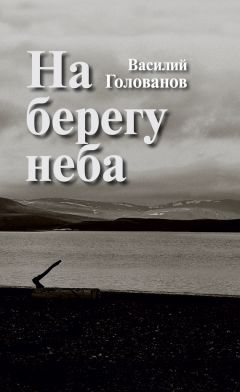
Автор книги: Василий Голованов
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 4 (всего у книги 17 страниц) [доступный отрывок для чтения: 6 страниц]
– Воздуху больше нет.
– Сколько там до темна? Еще раз обернуться успеем?
Лизка и Миша уезжают в Рязань за вторым баллоном. Я иду в соседнюю деревню договариваться о машине, которая будет перевозить тела. Возвращаюсь. На берегу Прони остаемся мы вдвоем с Володей. Мне странно глядеть на этого мальчика, так поразительно похожего на моего брата в шестнадцать лет. Мы обмениваемся парой слов.
– Папа еще обещал, что мы на зорьку с ним сходим… – говорит он.
Я изумленно вижу, как он странно спокоен, как будто все, что произошло, нереально, и все еще вернется, и будет как надо, просто вот сейчас такой временный затык… А что будет, когда он поймет? Я не знаю. Но мне ни в коем случае нельзя упускать его из виду…
– А ты чего не плачешь? – спрашиваю я. – Ты плачь. Если подопрет. Так лучше будет.
– Я плачу, – говорит он. – Просто не верится. Что все это произошло…
Мы одни у реки. Похмелье плющит меня. Солнце безжалостно. Под кустами у берега лежит труп его сестры. Когда я сижу в траве, мне не видно. Вдруг я замечаю вдали бредущих берегом людей. Они тоже примечают нас, белое на песке, останавливаются, переговариваются о чем-то и все же продолжают двигаться в нашу сторону.
Черт возьми, этого еще не хватало. Какие-то местные мужики.
– Эй, – кричу я им, – туда нельзя!
– А че нельзя, мы с бреднем ходим…
– Там девочка лежит, утонувшая, – говорю я.
– А-а, – соглашаются они, – а мы-то глядим – то ли полотенце, то ли простыня.
Хотели прихватить, ясное дело. Теперь поднимаются наверх. Загорелые шеи и лица, руки, давно не знавшие регулярного труда. Сейчас стрельнут закурить.
– Курева, случаем, нет?
– Есть.
Они закуривают. Случившееся им, в общем, по барабану, они что-то спрашивают для вежливости, и я отбиваюсь столь же шаблонными фразами.
– А поглядеть-то можно? – вдруг с явственным интересом спрашивает один.
Володя один сидит в травах на берегу.
– Нет, нельзя. Ни в коем случае! Там же ее брат! – киваю я в сторону скрывающих Володю трав. Явно разочарованные, они пускаются в обратный путь, досасывая сигареты.
Я ложусь в траву. Просто лежу. Этот день, как смерть. Но лучше не будет. Алешенька, ты помнишь, как в тебя были влюблены все девочки в моем классе?!
Подходит Володя, говорит:
– Спасибо, дядь Вась.
– За что?
– За то, что не разрешили смотреть на нее.
Немота наступившего предвечернего часа.
Потом опять – Татьяна, водолазы. В действиях водолазов многое кажется неправильным: они слишком медленны, как будто некого больше спасать. Но ведь спасают они души тех, кто остался на берегу реки. Матери нужно тело девочки, запутавшееся в речных водорослях.
– Ну вот же она! – вдруг вскрикивает Татьяна, когда водолаз уже начал погружение и ритмично, как дюгонь, дышит над водою: Хр-рр! Хрр-рр!
Мы подбегаем туда, куда показывает Таня, и там, по виду, правда что-то светлое в воде, но так вроде бы и было весь день. Косой свет солнца делает реку совсем темной. Водолаз в надежде только на чудо («я же здесь проходил»!) проходит несколько метров в ту строну по дну и оказывается у берегового куста.
– Есть! – орет он в какую-то свою систему допотопной связи, но так, что все мы понимаем. – Есть!
Он берет это беловатое, что всплывало с утра, и за руку волочет туда, где уже лежит Маша… Спасатели вытаскивают на берег второе тело и укрывают сверх простыни каким-то покрывалом…
– Слава богу, – плачет Татьяна, – я уже не надеялась…
Водолаз выходит из реки, снимает тяжелый медный шлем. Видно, что он очень устал. С трудом стягивает с себя резиновый комбинезон, бахилы…
В это время на взгорке возле реки показывается грузовик.
– Сюда, сюда! – орем мы.
За рулем – деревенский мужик, которого тоже, видно, колбасит от всего этого. Тоже удовольствие небольшое – в воскресный день трупы в морг возить.
Но, слава Богу, вернулись Лизка и Мишка.
Откидываем борт. Кузов грузовика выстлан мятой соломой, как будто в нем недавно перевозили коров.
– Ребята, теперь помогите поднять тела в машину, – просит кто-то из водолазов.
Ну конечно. Я спускаюсь к воде, беру простыню, в которую завернута Маша. Не тяжело. Не страшно. Мы с Мишкой, сопя, поднимаем ее по обрывистому берегу и забрасываем в кузов. Легкая. Дитя.
В кузове немедленно оказывается Татьяна, откидывает край простыни, безмолвно смотрит в лицо ребенка. Зеленые сопли, как водоросли, торчат из носа. Она вытирает их, и видно, как становится чудесно хорошо лицо ее дочери.
В это время мы с Мишкой поднимаем вторую девочку. Ноша потяжелее. Мы не разглядели ее и только там, в кузове, видим белую, размягченную водой кожу и прелестное лицо, на котором запечатлелось выражение то ли испуга, то ли недоумения…
Таня безутешно плачет, сидя рядом с дочерьми на соломе.
– Пора, пора, – говорит деревенский шофер, – пока до Кувшинова, а там с бумагами возня…
Я плохо соображаю. Понимаю только, что дело, за которым мы ехали сюда, сделано.
Грузовик уходит, взвывая передачами на обрывистом склоне речной долины. Потом скрывается в полях.
– Спасибо, – говорит Татьяна, как будто мы помогли что-то исправить, – большое вам спасибо, родные мои…
Горе сделало ее очень чуткой. Господи, как же с Володькой они вернутся сейчас в этот дом?! Я не представляю, ей богу, не представляю. В лучах заходящего солнца мы уезжаем со страшного берега. С нами в машине в Рязань возвращаются водолазы.
Мы приезжаем на станцию, они сдают дежурство, сбрасывают резиновый комбинезон в кучу таких же, вместе с поясами, опоясанными свинцовыми грузами.
– В хорошее лето до двадцати человек в день, – говорит наш водолаз, приготовляясь отправляться домой на велосипеде, – тонут по-любому, на ровном месте. Вот такая беда.
Никогда не думал, что эта беда погубит моего брата. Я так и не видел его. Он лежит в морге в Кувшинове, и я увижу его только на похоронах. Наверное, он, как и все мертвецы, будет не похож на себя. Татьяна говорила, что в последнее время один глаз у него почти ослеп, а шрам на щеке скрывала борода.
Мы прощаемся со спасательной станцией, с плакатами «спасение на водах» и, наконец, устремляемся в обратный путь.
У первого же ларька останавливаемся.
– Мне шоколаду, чипсов, и еще что-нибудь пожрать, – говорит Мишка. – А тебе?
– Мне три бутылки пива и спички.
Я забиваю трубку травой и делаю глубокий затяг.
Малость легчает.
Мы измочалены до невозможности. Мишка ведет машину, так и не выпив свой кофе. Я палю шмаль и припиваю пивом. Дорога налетает красными огнями тяжеловесных фур и временами вспыхивает желтым пламенем населенных пунктов. Вернее, пивного ларька в центре каждого неизвестного городишки.
Я бы поцеловал Лизку, да Мишка будет против. Просто он не понимает, что нас осталось четверо, четверо на всей планете. Хотя Наташка в Австралии, может, и не в счет.
Мы входим в поворот и тут…
– Стой! – Едва успеваю заорать я. – Тормози!
Танк. С изржавленной броней, похожей на шелудивую шкуру, стоит он на дороге. И двое людей – третий в люке – с бельмами, вместо глаз, опаленных нашими фарами, больше всего похожие на покойников, только что восставших из могил, орут:
– Прорвались! Прорвались! Вы нам верите?!
– Прорвались! – ору и я, пытаясь выскочить из машины… – Как же вы? Хотя, конечно, я верю!
– Тогда как нам проехать на Дюссельдорф? – спрашивает командир, устало шевеля губами.
– Поверните направо, на запад, – говорю я, потому что один знаю, кто эти покойники, и не боюсь их. – Сейчас вы жмете на юг. Вам нужен компас… Утром определитесь по солнцу…
– С кем ты говоришь? – поворачивается ко мне Миша. – Там никого нет! Мы чуть не расколотили машину…
– Танк, – говорю я, потому что вижу танк впереди ясно, как свои собственные руки. – Этот танк…
– Да какой танк, к чертовой матери, тебя уже просто глючит!
– Меня глючит?
– Да.
– Ну, если ты не врежешься в него, я поверю тебе.
Миша спокойно заводит мотор и трогается. Мы проходим сквозь танк, как сквозь туман, и вновь оказываемся на темной дороге.
– Ладно, – говорю я, – я потом тебе объясню, что это было.
Но Мишка все равно не поймет.
– Ну вот что, – посерьезневшим голосом говорит Миша и прикуривает очередную сигарету. – Лучше вот что скажи: ты сегодня совсем развоплотился или все-таки думаешь поправляться?
– Я в порядке, ты видишь… Впрочем, объясни, в чем дело.
– Мне нужен помощник. Ты сможешь торговать холодильниками?
– Думаю, да.
– Это монотонная работа.
– Я думаю, мне понравится их развозить.
– А ты хоть раз видел нормальные холодильники?
– Знаешь, мне понравятся любые, кроме морозильников морга. После этого случая ты должен меня понять.
Минут десять мы едем молча.
Время чаепития
Днем к Геку пришли полицейские и сказали, что хотят забрать у него собаку. Мол, она пожила у него достаточно долго, и теперь они хотят ее обратно. Гек стоял у входа в цех, в тени. Заметив хозяина, собака, как назло, встала со своего места и уставилась на троих прибывших чужими черными глазами. Когда он впервые увидел ее в треугольнике серой тени у входа в полицейский участок, она показалась ему плоской, будто вырезанной из картона, но, скорее всего, дохлой, и он еще подумал, какого черта она валяется здесь, где и так все, кроме камней, пахнет тленом усыхающей жизни; но, когда его шаги зазвенели по ступеням участка, собака открыла живой, черный, как маслина, глаз и шевельнула ухом; причем не острым, гиеноподобным ухом, как у всех местных собак, а отвислым, в кудельках желтой шерсти благородным трансваальским ухом. Тогда никто из полицейских не спросил, зачем Геку эта умирающая собака, меж ребрами которой непонятным образом умещались желудок, легкие, кишки и сердце, бесполезно гоняющее взад-вперед пинту перегретой, загустевшей крови, но и он не сказал им, что забирает ее навсегда. Вот они и вернулись за ней. На солнце ее короткая шерсть светилась золотыми иголочками, да и вообще у нее такой был холеный и заласканный вид, что полицейские некоторое время ошарашенно молчали, пораженные лоском, который можно придать бесхозному псу. Но потом лейтенант, потоптавшись, сказал:
– На окраине городка произошло несчастье, герр Гек. Бабуины в это время года небезопасны… Знаете, они подстерегли маленькую девочку возле магазина, и, когда она захотела помочиться, два самца… – лейтенант замялся, будто сомневаясь, стоит ли сообщать белому столь ужасающие подробности, но не сумел выдержать паузы, – они изнасиловали и съели ее, герр Гек. И нам нужна собака, чтобы выследить этих обезьян.
– У кого из вас сегодня день рождения? – спросил Гек, не выходя из тени.
– У начальника участка. Откуда вы знаете, герр?
– Надо сделать ему подарок, – прочувствованно сказал Гек. Теперь он должен был отойти в глубь цеха, чтобы снять со стены одну из этих штуковин, одновременно следя, чтобы кто-нибудь из полицейских не схватил собаку. – Это позабытое оружие народа гереро, секрет изготовления которого фактически утрачен…
Лейтенант взял в руки кожаные ножны, похожие на высохший стручок гигантской акации, и с силой выдернул из них кривой серый меч убийственной остроты. Взгляд его скользнул по собаке.
– Что до собаки, лейтенант, – перехватив этот взгляд, сказал Гек, – то вопрос надо решить окончательно. Я привязался к этому псу. Кроме того, я кормил его, я вложил в него свой капитал…
– Да! Да! – восхищенно согласились полицейские, глядя на округлившееся тело собаки.
– Поэтому я не могу отдать его просто так. Но я могу выкупить его, а обезьян возьму на себя.
Лейтенант напряженно ждал, когда Гек назовет цену.
– Пять долларов.
– Десять, – с полицейской серьезностью уточнил лейтенант.
– Хорошо, десять.
Он отдал деньги, по-приятельски козырнув лейтенанту, и, глядя вслед полицейским, вдруг поймал себя на том, что даже со спины он чувствует переполняющий их ни с чем не сравнимый восторг халявы, который делал этих трех долговязых парней в выгоревших униформах неожиданно похожими на тех отбившихся от настоящего деревенского дела мужиков, которых он помнил с детства. В половодье они ловили унесенные рекой чужие лодки, а потом возвращали хозяевам за червонец или за бутылку, так же вот мелко радуясь и суетясь в предчувствии выпивки…
Вечером он выгнал из гаража машину и, пролетев не больше десяти километров по дороге, нашел обезьян. Стая, как всегда, сидела на шоссе. Она целыми днями сидела на шоссе, выклянчивая подачки у проезжающих. Обезьяны не уходили с асфальта, пока им не бросали что-нибудь: вокруг была пустыня, и это был их способ выжить в ней. Гек подъехал поближе и остановился, осветив стаю фарами. Закат еще догорал над пустыней, но свет фар уже отразился в глазах обезьян красноватым огнем. Он увидел, как от общей зеленовато-серой массы сгрудившихся тел отделились два крупных самца – вожак и шестерка. В одной пустынной гостинице ему показывали уникальный череп бабуина, который, по преданию, весил 240 килограммов. Сам череп был поменьше медвежьего, но клыки были и длиннее, и острее.
Гек поднял ружье и выстрелил. Сначала в вожака. Потом в шестерку. Стая вдалеке пришла в движение, отраженным ужасом розовых глаз гипнотизируя Гека. Он развернулся и поехал назад, с неожиданной легкостью думая, что к утру ни от вожака, ни от шестерки не останется и следа.
Негр Костя, в тельняшке и белых шортах, начальник зверинца и гаража, заметив, что хозяин приехал в неплохом настроении, сел на ящик, взял гитару и, закусив зубами трубочку, пропел по-русски, неистово свингуя, любимую песню Гека:
– Иду, па-пам, курю, па-пам…
Видимо, наведался к Крису и Анни.
– Слушай, – сказал Гек Косте, хотя тот, кроме нескольких по-птичьи заученных куплетов, знал по-русски едва ли два десятка слов, – все просто: убиваешь сначала вожака, потом шестерку. А я все сделал наоборот: попросил их отправить меня сюда… Я не боялся. Просто хотел начать новую жизнь… Верил, что можно начать сначала, не поставив точки.
Костя рассмеялся. Видно, курево крепко его зацепило, и он, подтянув струну, иным, глухим и страстным, голосом опять пропел:
– И-ду, па-пам, ку-рю, па-пам…
– Завари-ка чаю, – попросил Гек. – И то больше толку, чем от твоего пения… Зеленого. Сбегай за пивом. Сегодня должен зайти старина Рау…
Они выпьют пива и станут вспоминать… Почему-то оба привыкли рассказывать друг другу о временах, которых ни вернуть, ни описать невозможно. Наверно, так поступают все, выброшенные прибоем жизни на чуждый берег…
Теперь-то Гек понял, что в рай они вторглись, должно быть, слишком грубо – и он, и брат, и все, кто был потом, – и тем самым сгубили его. Нет, они не хотели губить, они хотели только рая. И когда он впервые высадился на подмосковной платформе «Сады» с этюдником на плече и докторским саквояжем, увидел деревянный станционный павильон, одновременно похожий на вокзал и на зал для чайных церемоний, вдохнул аромат отцветающего шиповника и смятых ветром берез, он только подумал, что если все получится, то это будет убежище что надо, наилучшее убежище от всего. Прежде всего от недавнего ужаса Петербурга, куда он приехал, чтобы стать художником, но не стал… Зато выскользнул: из сумрачной ловушки коммуналки, влажных рябых труб, щербатого паркета, перебранок соседей, пьяных наездов вечно недовольной жены и капризов ребенка – его ребенка, – рожденного для бесконечной недоли, как и все здесь, согласившиеся жить на дне этого города. Однажды он вышел из дому и понял, что не вернется. Ему сделалось легко, будто он умер и родился заново. Но, как оказалось, он готовился к новой жизни, ибо захватил и докторский саквояж, в котором лежали краски и сменная красная рубаха, и мольберт, купленный ему еще бабушкой – давно, во времена детства, когда он и получил свое прозвище – Гек.
Гек спустился с платформы и по асфальтовой тропинке пошел в глубь поселка. Первый дом он пропустил; но второй, с большим окном в сад на втором этаже, заворожил его, и он загадал, что если сдается второй этаж, то он соглашается, не торгуясь. Тогда в Подмосковье вдруг стали сдавать дачи на зиму; что-то изменилось в привычном ходе вещей; поэтому хозяева, обычно уезжающие на зиму в город, стали пускать в свои дома постояльцев – то ли как сторожей, то ли как плательщиков каких-никаких денег. Как обращаться с зимними дачниками, никто не знал, поэтому отношение к ним было избрано любезное: Гек отвык от такого, а может быть, никогда ничего подобного и не знал. На втором этаже против окна стояли кровать, стол, немецкий сундук и велосипед с мотором марки «Рига» – такие он тоже помнил неясно, но трепетно, как все из детства.
Хозяин дома был пожилой доктор, который, заметив саквояж Гека, сразу спросил: «Вы врач?» Отрицательный ответ не расстроил его, зато очень воодушевил жену – красивую, но неизбежно стареющую женщину, для которой слово «художник» почему-то звучало магически. Они проводили его наверх, извиняясь то за сундук, то за мотопед, которые, для удобства жильца, некуда было убрать. А он смотрел в окно на кроны яблонь, усыпанные яблоками, на рябину у чайной беседки, на могучую желтеющую лиственницу за соседским забором и понимал, что в этом мире он будет счастлив и краски, привезенные им с собой, наконец, воплотятся во что-то.
До середины сентября хозяева пили чай в беседке под рябиной, и на соседнем участке другие люди так же пили чай, только под сиренью; и Гек, освоившись в доме и научившись гулять в поселке, заговаривать и знакомиться с людьми, все силился понять, откуда он выпал и куда попал, пока, наконец, до него не дошло – не только день и год, но и час стал ему ясен…
«Сады» были учреждены как садоводческое товарищество в 1938-м, но до войны здесь успели выстроить только контору с магазином да несколько дач на главной улице: эти первые дачи были еще очень похожи на деревенские избы – то ли потому, что их владельцы и в самом деле были выходцами из деревень, то ли потому, что никто еще толком не знал, что такое настоящая дача. И хотя рядом был целый поселок писательских дач с верандами, мансардами, ломаными крышами и прочими излюбленными приемчиками старомосковской дачной архитектуры, до войны никто в «Садах» не мог и вообразить себя обладателем подобной роскоши. И только пройдя войну, повидав Чехию и Германию, люди вернулись сюда, четко зная, что нужно сделать, чтобы жить по-человечески. И они сделали это. Из чего они только не строили свои виллы! Кто-то раздобывал железнодорожные шпалы, кто-то бракованный пережженный кирпич, кто-то немного строевого леса или изломанный, израненный осколками снарядов лес, которым за бесценок торговали тогда лесничества. Свои дома люди строили сами, по нескольку лет ютясь в землянках, времянках и в деревянных ящиках из-под импортных станков, но они привыкли к лишениям и шли напролом к своей цели. В конце концов, каждый из них выстроил свою дачу: с терраской, мансардой и балконом, выходящим на сад с чайной беседкой возле куста сирени и подросшими уже после войны яблонями. И вот когда дело было сделано и в один прекрасный день обитатели «Садов» отложили свои молотки и пилы, и настало это время – время вечернего чаепития под сиренью после войны…
Гек почему-то особенно отчетливо запомнил ту первую осень своей свободы: она была мягкая, золотистая; он сидел у окна и пытался писать, или просто дышал красками, или гулял допоздна, глядя, как люди сгребают и жгут опавшую листву, укрывают опилками розы, осторожно, при помощи специального приспособления, похожего на сачок, снимают антоновку, варят в тазах варенье из прочих сортов или прореживают загустевшую крону постаревших яблонь садовой пилой, замазывая спилы варом, похожим на запекшийся вишневый сок…
Однажды он перешел рельсы и через лесополосу вышел в поле: за полем белыми кубиками вставал недалекий город. По желтой скошенной стерне, к темной промоине лежавшего посреди поля пруда бежал цыганенок с синим воздушным шаром. Табор стоял прямо в перелеске возле железной дороги, но и табор, вероятно, ощущал торжественный покой времени вечернего чаепития – весной в правление неизменно приходил цыганский барон и делал заявление, что никаких инцидентов не будет. Заявление принималось председателем в устной, но соответствующей торжественному случаю форме – после чего цыгане разбивали свои шатры в лесополосе и жили все лето, не причиняя никому беспокойства. Впрочем, тогда никто не знал беспокойства – тогда здесь даже заборов сплошных не было, не то что собак. То есть были всякие Дружки и Жучки, любимые детворой, но настоящих сторожевых, а тем более бойцовых собак никто не держал; и самым удалым псом в поселке был красавец Пират с шерстью цвета огня, что любил гулять ночью и, подпрыгнув, заглянуть в глаза прохожему своими прозрачными желтыми глазами.
Звук этого мира тоже был иной. Гек вслушивался, не веря, что в нем нет трещины, в которую просачивается скрежет и гвалт внешнего мира – но нет, в ту осень ничто не нарушало тишины. Больше того – тишины бесконечного полдня, затянувшейся сиесты, когда не работает ни один механизм, когда даже молоток и топор, стукнув пару раз, смущенно замолкают на целые недели. Наверно, в ту осень время здесь и вправду остановилось – это была последняя услада тех, кто построил дачи и веровал, что все здесь устроено и ныне, и присно, и во веки веков. Стройка закончилась. Они забили последний гвоздь и желали теперь просто жить, радуясь плодам рук своих, счастливому баловству маленьких внуков и бесконечному разнообразию природы… И даже любовь хозяев Гека, поздняя любовь поздно встретившихся в жизни людей принадлежала именно этому времени, ибо была нацелена на тихое счастье, а не на трудности и преодоление, которые, конечно же, были в жизни и того и другого, но, видимо, просто надоели им.
Проснувшись и укрывшись до подбородка одеялом, Гек часто лежал и слушал звуки дома и за окном: скрип половиц и более гулкие, медленные скрипы стареющего дома, хлопанье дверей; потом – резкий сигнал сойки, дробь дятла; гудок маневрового тепловозика, который ровно в полдень собирал на обед рабочих железной дороги; деликатный, вполголоса разговор хозяев, даже среди дня боящихся разбудить своего постояльца. Так он едва не проспал первый снег, лежа под своим одеялом, а когда подбежал к окну, то обомлел: невесомые снежинки парили меж деревьев медленно, будто под водой, и этот беззвучный снег уже покрывал кроны яблонь и все плотнее затушевывал узор травы, хотя голая земля еще долго дышала, не желая остывать, и в проталинах открывалась то жесткая сухая трава, то зеленый чистотел…
Такое бывало только в деревне у бабушки, куда мать отправляла их с братом на каникулы. Но тогда, в детстве, Гек не видел никакой красоты. С братом они целыми днями торчали на речке, ловили рыбу, купались, плавали на плоту или вместе с деревенскими возились с двигателем очередной заезженной «макаки», на которых деревенские мотались в рабочий поселок на танцы. Парней в деревне было всего пять-шесть, и им всегда угрожала драка, потому что на танцах полно было девчонок, причем отличных, но деревенских к ним старались не допускать. Дело тянулось уже давно и должно было чем-нибудь разрешиться. Однажды их кликнули – типа: «Эй, сказали, – как вас там – Чук и Гек – собирайтесь быстрей, авось сгодитесь на что-нибудь!» Но они не сгодились, ибо парни из рабочего поселка готовились к встрече, и, когда деревенские на своих храпящих мотоциклах подрулили к танцплощадке, их попросту окружила кодла человек в пятьдесят с палками, как будто они приехали сюда только для того, чтобы свалить назад сквозь шквал ударов. Вот когда Серега Рыжий достал из-под ватника обрез и спокойно произнес: «А ну, расступись, кому жизнь дорога!» И те расступились. Все. Растворились во тьме. Остались только брошенные ими девчонки на освещенной площадке да местный ансамбль, окаменевший в предчувствии выстрела. И Серега выстрелил. Геку показалось, что небо со звоном лопнуло у него над головой, мотоциклы зарычали, словно пантеры, а седоки не спеша удалились в свою непроглядную деревенскую ночь, плюясь папиросным огнем и обливая трусов грязной руганью…
В городе после каникул Чук и Гек одновременно записались в секцию бокса, но Гек на первой же тренировке умудрился сломать руку, а Чук через год уже выступал в областном чемпионате за город… А поскольку рука у Гека заживала медленно, бабушка на свою пенсию купила ему этюдник и краски, чтобы он не очень унывал и учился рисовать. В конце концов, Чук сел еще до армии по какому-то пустяковому делу, а Гек поступил в художественное училище. В отличие от матери и отца, он не переживал за брата, просто понимал, что теперь им по-разному придется выбираться из этой дыры – умирающего города, окруженного выработанными шахтами.
Труднее всего Геку было привыкнуть к тому, что есть жизнь, устроенная по-другому; жизнь и время, в котором единственным значимым часом остается час вечернего чаепития, когда Павел Дмитриевич стучал к нему и приглашал спуститься: «Пожалуйте, чаю с вареньицем…» Но, раз уж Гек умер, ему надо было воскреснуть и учиться жить заново, заново чувствовать и рисовать. Ведь рисовать он разучился и поначалу не мог изобразить прекрасный снежный мир, окружающий его. Он мучился с красками и с углем, покуда однажды не залил лист бумаги черной тушью, смешанной с клеем, и стальной иглой не принялся выковыривать черноту всей своей прежней жизни, которая до сих пор залегала на сердце, опутывая его мелкими, тоньше паутины, корешками. Он работал, как хирург, выскабливая волокна боли, и так на листе постепенно проступали рисунки: пестрая птица на ветке, распустившейся алым цветком, прекрасная женщина с глазами ребенка и какими-то нездешними чертами лица; лицо с двумя парами глаз, похожими на рыбок; олень. «Что это вы рисуете?» – как-то удивился Павел Дмитриевич. Гек не знал, он только хотел, чтоб ему не мешали.
– Ну, это… Африка, – сказал он.
Больше всего он боялся, что что-то произойдет, кто-то постучится, войдет и прошлое настигнет его, и он разучится делать то, чему научился. Ну конечно же – стучат! Впрочем, не к нему. Кто-то из соседей, возбужденный шепот: «Павел Дмитриевич, Павел Дмитриевич, вы слышали ужасную новость?»
Шепот затихает за дверью гостиной, но потом вновь возобновляется, когда, подустав от вскриков хозяйки, мужчины выходят на терраску в зимний сад покурить.
– Действительно, с тех пор как этот Нетопыренко обманом завладел домом Грушина, в их семье происходят одни несчастья.
– Причем с мужчинами.
– А эта Грушина, его дочь, случаем, не ведьма?
– Нет, что вы, Пал Дмитрич! А вы в такие вещи верите? Очень чистая, интеллигентная женщина, потому и не смогла сопротивляться этой мрази! Просто он поставил телефон в ванной и мокрой рукой снял трубку…
– А сам Нетопыренко тоже ведь утонул в ванне, мне рассказывали. На производстве – в ванне с кислотой. Несчастный случай…
– Да, ужасно. Сначала он, потом, вот, сын. На месте внука я продал бы дом.
– А есть еще внук?
– Непутевый, говорят, какой-то парень, пьяница…
Гек подивился, что это залегает так близко даже здесь: тьма. Он не слушал, он не хотел знать подробностей, ибо приехал сюда избавиться от прошлого, в котором тоже было довольно тьмы. И он неустанно скоблил и скоблил чернение сердца, пока однажды оно не засверкало, словно обработанное кислотой серебро. Это случилось в день, когда, выйдя на улицу, он вдруг встретил ту, о ком мечтал всю зиму. Прекрасную женщину с полинезийскими чертами лица и глазами, как у ребенка.
Когда я снял дачу в «Садах», все уже изменилось; у Гека была возлюбленная и трехмесячный малыш; Павел Дмитриевич умер; жена его продала половину участка и вложила деньги в финансовую пирамиду, которая через несколько месяцев лопнула, не оставив следа, если не считать темных мешков под глазами хозяйки. А главное, появился Чук, которого в Садах все звали «миллионер». Я видел его лишь однажды у колодца, осенью, когда переливал воду в ведро. Час был ранний, в прозрачном тумане торопились на электричку люди. Вдруг напротив остановилась машина. Я поднял голову и увидел там, за стеклом, Гека и еще кого-то, похожего на него, только гораздо массивнее. Гек улыбнулся, помахал рукой, и они поехали, оставив меня с ведром в руке и скверным чувством, что меня показали. Чук ведь не просто вернулся, отсидев очередной срок, он стал большой шишкой: не то что братва, но и большие братья двигали его, и всякий, кто хоть что-нибудь смыслил в искусстве рукопашного боя, слышал о Чуке, и он знал о каждом, кто хоть что-нибудь смыслил. Когда Гек впервые привез его в «Сады» в час вечернего чаепития, тот вдруг затих, будто силясь припомнить что-то, а уезжая, сказал: «Да, благое место». Вскоре он снял дачу на Патриаршей горке – обычную по мерке этих мест, с сортиром во дворе, а в «Садах» откупил у Воскобойниковых половину самого большого в поселке дома на главной улице. Хозяева считали, что им повезло, потому что он дал цену, в то время, когда все жались на деньги; но хорошую цену он заплатил и за соседний участок, где стоял крошечный домик пенсионера Глухова. Воскобойниковы с нетерпением ждали, когда он переедет, потому что им любопытно было узнать, как живут настоящие миллионеры. Они рассудили, что половины дома ему хватит с лихвой, а что до соседнего участка, то, наверно, миллионеры любят простор и им на пол-участке действительно как-то несподручно. Но Чук не спешил переезжать. Однажды он появился и объявил, что заасфальтирует всю главную улицу до поворота на шоссе, если каждый домовладелец внесет в это дело хотя бы символическую плату. Чук принимал и 20, и 100 рублей, и в один прекрасный день асфальт действительно был грамотно уложен на хорошенько отутюженную щебенку по всей улице, за исключением одного квартала, где владельцы домов решили не подчиняться предложению миллионера и ответили, что не заплатят ни копейки.
Тому не жаль было ни денег, ни этих людей. Потому что в один прекрасный день по улице пошли один за другим КАМАЗы с кирпичом, бетонными блоками и калиброванным брусом и разделали непокрытый участок дороги так, что ни одна машина, не протащившись как следует брюхом по этим колдобоинам, не могла добраться до своих ворот. Воскобойниковы не без удивления, но с любопытством следили за приготовлениями. И так в одно прекрасное утро они увидели, как из домика пенсионера Глухова, отданного строительным рабочим, вышли четыре мужика в оранжевых комбинезонах и исполинскими бензопилами Black & Decker к вечеру попросту отпилили половину дома, причитавшуюся миллионеру. Ничего подобного «Сады» не знали, потому что всегда были тихой идиллией коммунизма и не представляли себе преображающей мощи капитала. Через пару месяцев на месте старой половины дома выросла новая – но что это была за половина!.. Рядом с нею дача Воскобойниковых, когда-то бывшая предметом их неистощимой гордости, смотрелась, как жалкая избушка, достающая крышей едва ли до половины глухой стены высоченного трехэтажного дома с просторной галереей, глядящей на закат. Проклятый миллионер не только отгородился от них глухой стеной, не прорубив в их сторону хотя бы крошечного оконца, чтобы знать, как живут-поживают его соседи, садоводы Воскобойниковы, но и украл у них все послеобеденное солнце, целиком присвоив его себе.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































