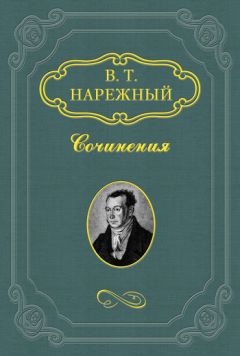
Автор книги: Василий Нарежный
Жанр: Литература 19 века, Классика
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 40 (всего у книги 46 страниц)
Глава XII
Неудачные затеи
Погода переменилась. Настал прекрасный день, и хотя мне не хотелось так скоро оставить доброго, великодушного, умного Ивана, но, сохраняя благопристойность и боясь ему наскучить, я благодарил его за приятельский прием и просил из особенной милости объявить мне имя свое, дабы память оного сохранил я до гроба. «Я могу тебе, – отвечал Иван с улыбкою, – почти то же сказать, что сказано было некогда апостолу Филиппу: толико время был еси со мною и не познал меня, Филиппе![96]96
…Толико время был еси со мною и не познал меня, Филиппе! – Евангелие от Иоанна, 14, 9.
[Закрыть] Куда идешь ты отсюда?» – «На родину в Орловскую губернию». – «Хорошо, и мне хочется посетить Киев, пойдем завтра, а сегодня останься у меня, наступает кроткий, прохладительный вечер, и мы можем наслаждаться им в здешнем саду. Не умен тот, кто, проведши неделю под кровлею, не спешит освежиться чистым воздухом, напитаться ароматами цветов и деревьев, любоваться, взирая на звезды божии и в глубине сердца поклоняться державному обладателю вселенныя!»
Пред закатом солнечным вошли мы в графский сад, который как обширностию, так и изяществом достоин был особенного внимания. Светлые ручьи струились с искусственных гор в каменные водоемы, окружаемые древними кленами и липами. Аллеи украшались редкими статуями, в приличных местах разбросаны были беседки на английский, италиянский, китайский и прочие вкусы. Прошед множество песчаных дорог и дорожек, достигли мы угла по правую руку сада возле почти самого дома графского. Там переплетены были между собою акации, у подножия коих росли ночные фиалки, незабудки и маргаритки. Под сводом деревьев стоял деревянный диван, по сторонам которого были мраморные бюсты на каменных подножиях Петра Первого и некоторых друзей его. Иван, подходя к дивану, снял шляпу, поклонился изображению Петра и, севши, сказал: «Вот величайший из владык земных! Данное ему прозвание Великого, кажется, мало выражает его величество».
Поговоря несколько времени о сем незабвенном государе со всем жаром молодости, он заключил благодарение всевышнему, что он время от времени осчастливливает Россию такими повелителями. Потом остановился, помолчал и тихо запел известный стих из псалма:
Тут вынул он из кармана несколько колен флейты, которая от давнего времени, давши несколько трещин, была связана нитками; но сие не мешало моему Ивану затянуть какую-то песенку в таком же тоне. Когда перестал и я отдал справедливость искусству его игры, несмотря на недостатки инструмента, взял флейту из рук и к немалому его удивлению задудил песенку, но едва успел кончить половину куплета, как загремел в воздухе звук роговой музыки, происходящий из дома. У меня от такой нечаянности выпала флейта из рук, а Иван, послушав несколько, сказал: «Видно, у Владимира гости; ничто нам не помешает слушать, и тем более удовольствия, что мы, быв уединены, не привлечем внимания и любопытства от сволочи знатных дураков, которые, увидя человека в платье без золота и серебра, так удивляются, как будто бы видели морского зверя». Когда роговая музыка замолкла, раздалась инструментальная, сопровождаемая хором певчих. «Пир не на шутку», – сказал Иван, пряча в карман свою флейту, и, задумавшись, слушал внимательно, изъявляя движениями лица удовольствие. Около часа продолжалось наше занятие, как мужской голос позади нашей беседки нас рассеял. Мы оглянулись и, будучи совсем неприметны, увидели сквозь ветви дерев двух мужчин. Один был невелик ростом, отменно пузат и весь в галунах; другой в армейском мундире, с превысоким тупеем; Иван, рассмотрев их, сказал мне на ухо:
– Это старый бригадир, охотник до собак, вина и проч., и сын его, выпущенный капитаном из сержантов гвардии, хотя он и до сих пор стрелял из ружья по дворовым гусям. Послушаем их разговоры.
Отец. Перестань, повеса, врать! можно ли тому статься?
Сын. Пусть я и повеса, – в угодность вашу; но зато молод, хорош, воспитан, ловок, резов: словом, способен пленить самую несговорчивую…
Отец. Ха, ха, ха! молод, хорош! Что толку в красивом щенке?
Сын. Браво, батюшка! Какое сравнение! самое бригадирское.
Отец. Да, таки-так! ну чего будет девка искать в тебе? Стана ли? как засохлый репейник, на которого с головы ты и походишь. Лица? как повялый огурец! А то ли дело я? Обнять ли? так есть что. Поцеловать ли? есть во что. Она хочет ли обнята быть? – вот тут уж есть чем; ух! Да я тебе сейчас и пример покажу: не ты ли, молокосос, вертелся, кривлялся, прыгал, увивался и черт знает что ты ни делал, чтоб прельстить Юлию, дочь сельского моего управителя. Ну что, взял? Я все это видел, – и хохотал – ха, ха, ха! А как я, да, самый я, как только принялся, ан Юлия и растаяла! Сперва было, правда, позаупрямилась, но мы знаем, как нуздать ретивую лошадь, и Юлия, наконец, сдалась, да сдалась в полной мере! Ну что скажешь, прелестник?
Сын. А давно ли это было?
Отец. С неделю! Да! Говори же, ловкий, пригожий человек!
Сын (шаркая, хохочет). Честь имею, милостивый государь батюшка, поздравить вас с величайшим счастием и отличием в пожилых ваших летах!
Отец. Ага!
Сын. Желаю вам и впредь наслаждаться такими преимуществами! По чести завидно! а я как преданный ваш сын не замедлю повестить во всем околотке, что бригадир, батюшка мой, и то считает за счастие, когда кое-как вползет в крепость, которую капитан, сын его, взял приступом, выломал ворота и сделал всякому прохожему свободный и пространный вход.
Отец. Как, что?
Сын. А так же, что я более месяца наслаждался уже прелестями Юлии – и клянусь вам в том, как честный человек и капитан. (Убегает.)
Отец. Ах, она непотребная! Не я ли дал отцу ее, бедному отставному маиоришке, убежище, жалованье, стол, – словом, все, хотя под тем видом, что он мой однополчанин и когда-то зарубил турка, целившего в меня, как я спал за кустарником. Виноват ли я был, что, выпивши лишнее для придания себе храбрости, против воли заснул на поле сражения? Ах негодная! Это все добро делал я для хорошенькой его дочери; а она, проклятая, – о! сейчас долой со двора, до нитки оберу, – и ступай к черту.
После сих слов он поспешно удалился. Сребристая луна взошла на небе, тень разлилась по саду и заслонила нас с Иваном, который хотел что-то сказать, но, услыша разговор женский, замолчал. Опять устремили мы глаза и внимание и услышали следующее.
Одна. Нет, никогда не прощу! Возможно ли, чтоб я видела в тебе такую дуру, нелюдимку, неотесанную куклу! О! Если бы я знала, что такие несчастные следствия выйдут от воспитания в монастыре, никогда бы эту статую туда не отдавала. Слава богу, я не нищая. Муж генерал и тысяча душ крестьян!
Другая. Что же мне делать, маменька? я не знаю.
Одна. Дура, что тебе делать? тебе девятнадцать лет, а ты еще не знаешь, что делать? Не приметно ли, что молодой граф около тебя трется? Он не щадит всех возможных сентиментов, а его слушают, о небо! если бы я была в эти лета! Что он говорит тебе, когда находит случай?
Другая. Что меня любит!
Одна. Хорошо! еще что?
Другая. Просит назначить…
Одна. Очень хорошо. А ты?
Другая. Ничего!
Одна (с сердцем). Если я еще такой же ответ услышу, то увидишь! С этой минуты ты ни в чем не должна отказывать графу, – слышишь? ни в чем; он молод, хорош, богат и камер-юнкер.
Другая. Но если он после не возьмет меня?
Одна. Так возьмет другой, а граф по знатности своей не оставит его вывести в люди. Ведь чем же и отец твой вышел?
Другая. Но если другой не найдет во мне того, что составляет честную.
Одна. То я этой честной дам добрый урок, как повиноваться матери, которая всеми силами печется о ее счастии. Поди от меня и обойди кругом; я вижу, кто-то сюда идет!
Дочь ушла. Иван и я подвинулись на самый край дивана; и он шепотом сказал мне:
– Вот два примера наилучшего воспитания. Отец спорит с сыном о первенстве в приобретении какой-нибудь распутницы; а мать, – о боже, как гром твой не поразит ее!
Тут притащился высокий, средних лет мужчина в драгунском полковничьем мундире. Полная луна играла на багровых его ланитах, он немножко пошатывался и потому часто опирался то об деревья, то о противостоящий решетчатый забор, призывая в помощь при каждом шаге черта и такую его мать. Подошед к прогуливающейся госпоже, остановился, поглядел пристально, потом оборотил ее к месяцу лицом, чмокнул, примолвя:
– Это ты! Я боялся ошибиться!
Она. Перестань, полковник, когда мы встречаемся наедине, ты всегда дерзок.
Он. Так и надобно!
Она. Пойдем, неравно муж…
Он. Твой старый дурак? Он сидит в углу и как добрый семинарист проповедует, как он бирал батареи! не надобно говорить, что делал, а надобно делать. Итак, я с вашего позволения хочу атаковать здесь, в сию минуту, крепость самого приятного местоположения.
Она. Тут есть деревянный диван, – такая темнота!
Он (входя вместе). На что много свету? Однако берегись, чтоб не оцарапать личика, а то двойная для мужа потеря.
Она. Вот я уж и на скамье! сюда, правее.
Он (идет, спотыкается об угол скамьи и падает). Чтоб сто тысяч чертей побрали того, кто эту скамью поставил. Я головою прямо об угол.
Она. Ничего, ничего, вставай; я помогу. Не я ли тебе столько раз говорила, что можно воину иногда повеселиться и погулять по одержании победы, а ты всегда горазд до начатия сражения. Что?
Он. Ну, я сел. А ты?
Она. Как жестко, ну да так и быть!
Он. Нет! хоть я и кавалерист, однако ж знаю, что такое учтивость! Пособи-ка мне скинуть мундир.
Они начали трудиться в сем деле, которое тем было труднее, что господин драгун шатался, однако, наконец, успели.
Тут Иван, дернувши меня за руку, легонько свистнул.
Она. Ах! что такое? свист?
Он. Пусть кто хочет свистит! Ба, еще свист. Кто тут? выходи! Нет никого! Это нам послышалось. Куда ты? что за дьявольщина? только было…
Она. Сс-сс! Я слышу тихие голоса, да и тень вдали видна. Молчи! бога ради!
Он. Как? я? Драгунский полковник? Однако и подлинно говорят: смотри же, ни слова!
Тут приблизилась еще пара; и по голосам узнали мы Володю и дочь почтенной госпожи, соседки нашей.
Володя (таща ее). Сюда, сюда, милая Наташа! В сем мрачном гроте воздвигнем мы олтарь любви.
Наташа. Боже мой! Вы меня задушите. Постойте. Я сама пойду. Ах, как темно!
Володя. Не бойся! Страстный любовник твой с тобою!
Володя в темноте набрел на госпожу генеральшу, которая, испугавшись, бросилась в сторону и стукнула лбом прямо в лоб драгуна. Сей заревел, вскочил и, наткнувшись на Володю, сшиб его с ног; а сам, на полете за ним же, уцепился в волосы честной матери, и все растянулись на земле! Наташа в беспамятстве, желая скрыться, бросилась прямо на меня и, ощутя существо движущееся, ужаснулась и упала без чувств на катавшихся по земле. Мы не успели подать ей помощи.
Тут-то началась настоящая комедия. Когда все копошились подобно змеям, я, сострадая о бедной Наташе, вскочил, схватил ее за руку и вытащил из круга трех ратоборцев, которые начали уже свои действия. Драгун, который был сильнее прочих двух, зажмуря глаза, опускал тяжелые мышцы свои куда попало. Володя, получа две-три изрядные пощечины и несколько тумаков, озлился и также неробко защищался. Госпожа генеральша давно бы встала, но, по несчастию, так запуталась за шпоры драгунские, что никак ее могла того сделать. Володя и госпожа, видя, что нет сил терпеть более, прибегли к последнему средству слабых, то есть кричать что есть силы и просить помощи.
Иван, который до сего был без дела, желая унять бунт каким бы то ни было образом, встал на диван, чтобы голос его казался снисходящим свыше, произнес громким голосом:
– Перестаньте! Аз бо глаголю вам! – Ужас напал на ратующих. Языки побежденных и руки победителя окостенели. Иван, чтоб больше оглушить их, продолжал:
– Хощу – да кийждо из вас восстанет в безмолвии и отойдет восвояси.
Они, может быть, бы то и учинили, как вдруг на углу беседки показались люди с факелами и свечами и мгновенно предстали на место сражения. Граф Владимир, окруженный толпою гостей, осматривал с удивлением предметы; а сопровождавший его старик с обнаженною шпагою говорил:
– Не опасайтесь, граф, ничего; я с вами! О! и не таких врагов укрощал я! – Но когда осмотрел он пристальнее всех нас, задрожал, побледнел и произнес со стоном: – Боже мой! Жена, дочь – и в каком состоянии! Что это значит?
И в самом деле было чему подивиться. Госпожа была растрепана, с растерзанным подолом, выпачканным об ваксенные сапоги драгунские; а по обе стороны носа были выведены усы от нафабренных усов драгунских. Дочь ее была вся тоже в беспорядке.
Володя походил на чертенка; а драгун на самого сатану.
– Что это значит? – спросил граф Владимир у Ивана, все еще стоящего на скамье в ораторском положении, и сей отвечал ему:
– Спросите эту барыню! Всю комедию сию сочинила она и видела ее от начала до конца. Она приказала дочке своей оказать милость твоему Володе, а сама для оказания такой же милости сему господину полковнику очутилась здесь; не зная последнего, Володя привел сюда же и свою любезную, – это начало, а конец…
– А, конец я сам понимаю, – вскричал с яростию муж и устремился к драгуну, который, схватя его за руку, сказал холодно:
– Постойте, господин генерал, и выслушайте! Может быть, вы теперь что-нибудь обидное думаете насчет чести моей и супруги вашей? Так знайте, что ошибаетесь! Третий день уже, как я беспрерывно пьян; а пьяный да старый неопасны в таком случае! Из сего вы должны заключить, что теперь уже третий день, как супруга ваша не нарушала должной к вам верности. Клянусь в том честию драгунского полковника; а если вы не верите, спросите у своей супруги, – она поклянется вам даже честию армейской генеральши.
Не слушая ответу, взял он под мышку мундир и оставил всех оторопелых. Володя скрылся за ним, там генеральша, и печальный муж, взяв дочь за руку, повел в покои, говоря:
– На что мне чины, на что мне богатство, когда я столько злополучен!
Иван, слезши с своей кафедры, подошел к графу и сказал дружески:
– Слышал ли ты, Владимир, последние слова бедного мужа и отца? Когда чины и богатство не делают людей счастливыми, на что же искать их мне и другим мне подобным, которые и без них столько довольны, следовательно столько счастливы, сколь можно быть на земле?
Вместо ответа граф, пожав у Ивана руку, сказал:
– Прощай, доброй ночи. Поутру увидимся. Мое присутствие нужно теперь в доме!
Мы расстались и пошли с Иваном в нашу хижину.
Глава XIII
Два суда
Едва я проснулся рано поутру, Иван, вошед в почивальный мой чулан, сказал:
– Пора быть готову. Кто собирается в дальнюю дорогу, не должен ждать восхождения солнца. Мы идем вместе. Между тем как я получу на письмецо мое к Владимиру ответ, ты оденешься.
В самом деле, когда я вошел в хижину, нашел там нашего мальчика и Ивана, читающего ответ. По прочтении развернул он узел и, отбирая некоторые вещи, говорил:
– Спасибо! Вот рубашка, два платка, новая Псалтырь в шестнадцатую долю. Это вещи нужные в дороге. Но это что за сверток? – Он развернул и высыпал на стол горсть полуимпериалов. – Ба, ба! на что мне столько этой дряни!
Он, отсчитав четыре монеты, сказал мальчику:
– Прочие отнести назад. Но постой, постой! Я и забыл, что сбираюсь в путь не один. Гаврило! может быть, тебе нужнее будут деньги, так возьми к себе остальные!
Мне и подлинно горестно было смотреть, как он столько золота отдавал назад. Итак, не заставляя себя просить вторично, а особливо Ивана, который никогда не прашивал, я начал в карман укладывать золото, проговорив ему, что я имею домик на родине, а потому надобно обзавестись хозяйством. Я успел отчасти узнать нрав его и нимало не благодарил, боясь, чтобы он не отнял данного. Взваля на плечи свои ноши, в коих сверх всего нужного помещено было довольно съестного и баклага с вином, мы пустились в путь.
Солнце румяное показалось на небе безоблачном. Жаворонки парили в воздухе, коноплянки прыгали по бокам дороги. Все свидетельствовало радость и наслаждение. Веселая стрекоза чирикала в траве, и трудолюбивый муравей выползал из норки на дневную работу. Вскоре показались землепашцы с женами и детьми. Кто вооружен был серпом, кто – косою, кто – граблями и вилами. Веселые песни их были издалека слышны, которые, мешаясь с пением птиц, журчанием насекомых, шепотом трав, цветов и листьев древесных, составляли гармонию гораздо для меня, а особливо для Ивана, приятнейшую, чем вчерашняя графская музыка. Будучи в восхищении, мы шли бодро и не чувствуя усталости до тех пор, как солнце подошло к средней точке своего течения и пот показался на лбах наших. Иван, оборотясь ко мне, сказал: «Видишь ли, как все твари божии в природе постигают употребление своего времени! Они знают, когда веселиться, когда покоиться. Не слышно более жаворонка, не видно коноплянки, – всё отдыхает, отдохнем же и мы».
Своротя с дороги, вошли мы в березовый лесняк, поели взятой с собой провизии, выпили по глотку вина и покойно разлеглись на траве. Иван сказал: «Отдыхать не всегда значит то же, что спать. Буде тебе хочется, я могу теперь пересказать кое-что о себе. Чего не успею, кончу дорогою, нам должно быть к ночи в Киеве, а остается верст тридцать».
Я изъявил ему благодарность за доверие, и он начал следующее:
– Я родился в малороссийской Украине от дворянской фамилии и по окончании первого домашнего ученья послан был в Киевскую академию; воспитываясь несколько лет, быв не без дарований, я порядочно разумел уже латинский и польский языки, а со временем стал быть отличаем в философии и богословии. Когда достиг я двадцатилетнего возраста, то слава обо мне гремела по всему Киеву. Следуя давнишнему обычаю, там введенному и который, может быть, и доныне соблюдается, в праздничные и воскресные дни говорил я в церкви проповеди с кафедры и приводил в восхищение тамошних именитых граждан и гражданок. Ничто меня так не прославило, как две проповеди, замысловатейшие из всех бывших и возможных. Следствия велеречия моего были удивительны. В том же месяце три именитые гражданки, девицы, стеня под тяжестию кулаков родительских, вопияли, что и сами не знают, отчего чрева их воздымались; и пять воров, ведомые на площадь для выполнения приговора над их спинами, говорили смиренно при стекшемся народе: «Помяни мя господи, егда приидеши во царствии твоем».[98]98
Помяни мя, господи, егда приидеши во царствии твоем. – Евангелие от Луки, 23, 42; слова одного из распятых вместе с Иисусом Христом разбойников, уверовавшего в божественное происхождение Христа.
[Закрыть] Хотя был я и учим наукам и во всем руководствуем монахами, однако никогда не мог привыкнуть к их образу жизни. Сколько праведные отцы ни уговаривали меня вступить к ним в собратий, я никак не склонился и по случаю болезни моих родителей оставил ученость и ученых, богословие и богословов и отправился в деревню. Умирающий отец мой сказал мне: «Иван! Выслушай последние слова мои, и буди благословение мое с тобою! Будь всегда справедлив и нелицемерен. Не надейся на князи и на сыны человеческие. Люби простоту и убегай суетности. Не отягощай низших тебе, – ибо они братия твои!»
Я поклялся в душе исполнить сие завещание. По нем остался я наследником нового дома с прекрасным садом, прудами, пашнями и притом двухсот творений, называемых крепостными, не включая быков, коров, овец и бесчисленного множества кур и гусей.
Размышляя долго и притом по всем правилам логики, заключил я, что и крепостной человек есть точно человек мне подобный, имеет все преимущества души и тела, точно как и я пред другими животными, а потому бессмертную душу и свободную волю. Посему казалось мне, что стеснять последнюю – значит оскорблять первую и тем противиться высокому создателю той и другой. Основавшись на таких глубокомысленных началах, хотел я исправить прежнюю несправедливость предков моих и в первый праздник сказал превитиеватую проповедь собравшемуся народу, в которой, объяснив им право их и преимущества, яко таких же человеков, просил не отягчать себя лишним повиновением моим прихотям и, буде я приказывать стану что-либо недостойное человека, всегда напоминать мне, что они такие же чада господни.
Речь сия имела больше следствия, нежели прежние в Киеве. Народ провожал меня до дому с радостными восклицаниями и благословениями, называя отцом и благодетелем. День проводил я в упоении радости, а сон представлял мне лестные картины слыть благотворителем человеков.
Месяц и другой прошли довольно сносно, хотя день ото дня замечал я более перемены в моем доме и деревне и, к несчастию, перемены к худшему. Самые воздержные поклонники шинкам и дверям вдовьих изб стали посещать оные, прежде скрытно, а потом и явно. Эти два начала, пустив глубоко корни, произрастили таковые же отрасли. Бесчинство, похабство, леность и вообще разврат воцарились в сельце моем. Я говорил еще несколько проповедей, доказывая, что хотя человек и одарен свободною волею, но что воле этой предписаны границы; однако удачи было мало: мужики, слыша, что я настраиваю пение свое на другой лад, уходили в начале проповеди из церкви прямо в шинок, напивались, дрались, мирились, опять напивались и опять дрались. Во всем селении не было ни одной взрослой девки, которой бы имя не было опятнано и которая стыдилась бы того, не было отца семейства, который бы об нем пекся; не было мужа и жены, которые бы во что-нибудь ставили взаимную верность. И такого-то добра натворил я премудрыми проповедями в течение двух с небольшим годов. Одно обстоятельство несколько сделало перемены. Народ, собравшись на перекрестке, повздорил с десятским и поколотил его. Обиженный бросился к тестю своему, сотскому, и требовал мщения. Сотский, покачав головою, отвечал: «Что ж делать, мы все равны!» Недовольный десятский плюнул ему в глаза и побежал к старосте, который на ту пору угощал какую-то вдову и, следовательно, занявшись другим делом, не вошел в разбирательство и вытолкал челобитчика в шею. Сей собрал партию молодых людей, пришел в дом старосты, вытащил на двор, поколотил весьма неумеренно, и после все пошли, распевая казацкие песни. Таким образом начался бунт, стоивший моим подданным много крови, волос, зубов, синяков, рогов и проч. Хотя видел я, что, монархию свою превратя в анархию, совершенно ослабил пружины, которыми укрощается неистовство ярящейся черни, однако, ревнуя о спасении стремящихся в погибель, я вмешался в толпу и возгласил: «Выслушайте меня!» – «Кого? тебя? – закричали все, – ты-то и зачинщик всему злу!» С сими словами посыпались на меня палочные удары, провожавшие до самого дома, где заперся я и поставил стражу из дворовых людей, которые на сей раз из прихоти взяли мою сторону.
Дело такого рода не могло остаться в тайне. Оно, переходя от одного к другому, дошло до воеводы; сделано исследование, и вскоре после оного явился ко мне дьяк с воинскою командою.
– Государь мой, – сказал он, вошед ко мне, – радуйтесь, дело ваше решено, и по определению канцелярии над вами, так как неспособны управлять своим имением, поставлены опекуны, люди честные, добросовестные, именно – я и…
– Опекуны? – вскричал я, – надо мною?
– Так, – отвечал он, – но не над особою вашею, а над имением!
– Мне его ненадобно, – сказал я, – и от всего отступаюсь. Оставьте меня в покое и на своей воле; а с имением делайте что хотите, я уступаю его тому, кто первый захочет взять на себя тяжкую сию обузу.
– Господи боже! – сказал тихонько дьяк. – Вы судите здраво, как редкий воевода; но по силе установлений вы не имеете права никому передать своего имения, – оно родовое. А разве посредством продажи, – то дело другое. И то правда, крестьяне незавидные, пьяницы и воры, однако я найду совестного купца, который даст вам хорошую цену, и притом наличною монетою, а не обязательствами, по которым редко сполна получить удастся; и такового купца вы видите пред собою.
Что долго говорить! Мы скоро сладили; я продал село за две тысячи серебряных рублей и оставил его, вздыхая от глубины сердца, что, желая сделать добро людям, наделал столько зла. Дьяк, как я слышал после, тут же пересек всех, правых и виновных, не оставлял деревню посещать чаще, всякий раз сдирал кожи с крестьян и чрез два года сделал их по-прежнему трудолюбивыми и трезвыми крестьянами. «Боже мой, – говорил я, – неужели такова натура человека, что одним игом гнетущим можно заставить его идти прямою дорогою! Неужели без узды всегда будет он вскарабкиваться на утесистые горы, дабы оттуда тем стремительнее ниспасть в пропасть?»
Сбыв так выгодно достояние предков моих, размышлял я, что должен начать в новом своем состоянии? Говорили мне, что столицы суть источники счастия, но не скрывали и того, что для достижения оного надобно уметь кланяться, ползать, пресмыкаться. Это совершенно мне не нравилось, и я поклялся остаться навсегда тем, чем произвела меня высочайшая мудрость, то есть свободным человеком. Посему решился я посетить опять Киев и, нанявши Харька[99]99
Малороссийское название Харитона. (Прим. В. Т. Нарежного).
[Закрыть] с телегою и лошадью, выехал из деревни. Харько был седой старик и считался самым честным человеком во всем околотке; а потому я во время дороги рассуждал с ним с братскою доверенностию и уважением.
На третий день нашего пути, когда солнце приближалось к полудню и мы с Харьком, остановись близ дороги в дубовом леске, пообедали, я лег у корня на траве и крепко заснул. Пробудясь, как ни старался привстать, но не мог; а Харько, поглядывая на меня с улыбкою, сокрушал своими челюстями окорок ветчины.
– Что это значит, – вскричал я, – что не могу встать?
Он. Потому, что ты плотно привязан к дубу!
Я. Кто же привязал меня?
Он. Я!
Я. Зачем?
Он. Чтобы мне уехать с твоими деньгами!
Я. Проклятое серебро! но я тебе добровольно отдаю все, только освободи меня!
Он. Я уж сед, а ты хочешь обмануть меня. Нет, дружок, меня не проведет и жид. Пусти только тебя, так меня же свяжешь, да еще и в суд отвезешь! Нет! оставайся с богом; он пошлет к тебе человека, который освободит тебя из неволи.
Старый сей бездельник снял передо мною шляпу, начал кланяться, подражая деревенским боярам, сел в телегу и поехал. Но не успел проехать пяти сажен, остановился, опрометью соскочил, и на лице его изобразился страх. В скором времени наскакало к нам человек около полсотни конных, с длинными копьями, длинными карабинами с предлинными усами. Я и сам не знал, что об них думать?
Когда герои спешились и нас окружили, то малорослый человек, весь обвешанный кинжалами и пистолетами и отличный по красному кафтану, спросил у Харька:
– Кто ты, откуда и куда?
– Милостивые государи, – отвечал старик, – я простой крестьянин и наряжен отвезти в город сего человека, который, к несчастию, сошел с ума и непомерно зол. Для того я его и…
– Для того-то надобно и освободить его, – сказал грозно предводитель. – Добрые, мягкие люди ни к чему не годны на этом свете, где все забыто, честь, совесть, правда!
Меня отвязали; и когда заставили сказать о себе истину, то я без всякой утайки объявил обо всем. Малорослый герой показал грозный вид. Глаза его горели огнем гнева и мщения, и каждый волос на усах его шевелился. Наконец сказал он толпе окружающих его:
– Братья и товарищи! Мы клялись взаимною верностию и правосудием неба быть верны и правосудны. Думали ли мы, что сегодни будем исполнителями священной воли вышнего!
После сего приступили к Харьку с вопросами: и оказали себя не менее искусными в разведывании правды, как самые опытные приставы тайной канцелярии.
Он повинился и, повалясь в ноги пред старшиною, просил помилования.
После некоторого молчания старшина, опершись на ружье свое, произнес следующее решение:
– Знал я и уверился, что многие богатые люди, избалованные счастием, исполнены лжи, коварств, наглостей и всякого рода несправедливостей; знал я, что они попирают законы или обращают их только к погибели нижней части народа; знал я, что они облиты были потом, кровию и слезами несчастных, – все сие знал я и восхотел быть судьею по праву, данному мне природою, по праву сильного! Но никогда не воображал, что и сия низкая часть народа, забыв закон божий и царский, может быть столько же злобна и несправедлива, как и часть, ее угнетающая. Преступление старого плута сего явно, да будет и суд над ним и осуждение наше также явны. Повесьте его на суку древесном.
Несмотря на мои просьбы, несмотря на вопли и рыдания Харьковы, он исправно был повешен и скоро предал грешную душу свою кому принадлежать должна по смерти. После чего начальник судей сих сказал мне:
– Ты ступай своею дорогою, деньги твои с тобою. Вдобавок выслушай наставление: никогда не вверяйся человеку, который ниже тебя в чем бы то ни было, ибо зависть и корыстолюбие всегдашние спутницы нашей жизни. Остерегайся людей более, нежели медведей, – и поверь в том мне, Гаркуше, славному атаману сих храбрых витязей!
Тут все сели на лошадей и ускакали.
Я не мог собраться с духом, узнав имя страшного судии Харькова. То был знаменитый разбойник с многочисленною шайкою, который сделался ужасом целого округа. Особенно свирепствовал он противу дворянства. Злодейства его превышают вероятие; и бедные дворяне, от рук его пострадавшие, едва ли не были бы во святых, если бы не прошла на то мода. Но при всем том, он был самым праведным судиею между мною и Харьком.
Я не смел и прикоснуться к висельнику, а потому, севши в телегу, поехал; но и я также не отъехал двадцати шагов, как увидел скачущую прямо на меня команду. По приказанию начальника я остановился и на первый вопрос: встретил ли Гаркушу, отвечал: «Да!» Меня осмотрели и при виде серебряных денег все вскрикнули радостно: «Ага! Это из шайки его!» Когда я собирался рассказать им похождение свое, то новые герои не были так терпеливы, как прежние. А увидя висящий труп Харька, подняли вопль и мгновенно решили, что я – вор и разбойник; что я задавил крестьянина, чтоб воспользоваться его деньгами, и проч. и проч. Что могли подействовать мои уверения в противном? Меня вновь связали, положили на телегу вместе с Харьком – и повезли в город с таким хвастливым торжеством, как будто бы пленили самого разбойничьего атамана.
Не буду говорить о тюрьме, куда меня в городе посадили; ни о пяти месяцах, употребленных судом на отыскание заблудшей истины. Довольно, что меня выпустили идти, куда господь управит стопы мои, нага и нища, как вышел я из первоначальной темницы, утробы матери моей.
Вышед из города, с должным благоговением предал я анафеме и серебро и горячих его любителей и поклялся никогда не иметь его более, сколько необходимо на продовольствие одного дня. До Киева шел я, как древний патриарх – если чувствовал голод, входил в первую избу и спрашивал хлеба. Буде мне отказывали, что, однако же, было не более двух раз, я входил в другую и получал желаемое. Достигши Киева, колыбели моей учености, явился к знакомым монахам и мирянам, рассказал свои приключения и возбудил в последних сожаление, в первых громкий хохот. Однако ж и сии, насмеявшись довольно простоте моей, дали мне место службы – быть учителем моральной философии при тамошней академии, и я охотно принял звание педагога.









































