Текст книги "Смерти нет"
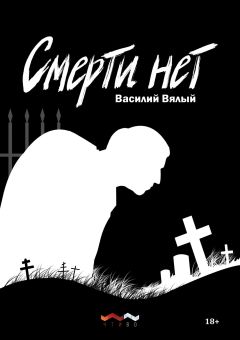
Автор книги: Василий Вялый
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 4 (всего у книги 15 страниц) [доступный отрывок для чтения: 5 страниц]
VI
«Почему они все за мной следят? – сторож огляделся по сторонам. – Вот теперь художник. Вроде, на первый взгляд, воспитанный, тактичный молодой человек… Со скульптором подружился, – горбун вздохнул. – Ни к чему хорошему эта дружба не приведёт. Похоже, художник что-то мне хотел сказать. Тогда почему не подошёл? Стесняется? Боится? Хотя и сам я, надо признать, не стремлюсь к разговорам – о чём мне с ними говорить? О футболе, о женщинах, о политике? Они всегда эти темы поднимают, – Квазиморда взглянул на мастерские. – Так я в этом ничего не понимаю… О смерти? А что о ней можно сказать?» – сторож уверенно передвигался между могил…
Он остановился у холмика, сплошь заваленного венками. Отодвинул один из них, тот, что прикрывал прислонённый к кресту портрет. С фотографии, задорно улыбаясь, смотрел мальчик. Лет десяти, не больше… «Он, кажется, похож на разбившихся в автокатастрофе супругов, что похоронены в другом конце кладбища, – подумал Квазиморда. Он опустился на корточки и вгляделся в детское лицо. – Да, действительно очень похож…»
Жизнь Славы Ковальчука в одночасье беспощадно разделилась на две совершенно не похожие друг на дружку половинки – до аварии и после неё.
Вполне нормальная, среднестатистическая, обеспеченная – по брежневским временам – семья иногда ездила отдыхать к Чёрному морю на своей «копейке». Славкин отец – инженер крупной фабрики, мама – воспитатель детского сада подведомственного той же фабрике. Жили дружно; чадолюбие было далеко не последним, что связывало супругов. Если не первым…
Глава семейства редко бывал дома, и Славка почти всё время находился рядом с мамой, и дома, и на её работе в детском саду. Когда же у отца случался редкий выходной, то они, как правило, проводили его вместе: ходили в парк или в поход, часто бывали в кино. Изредка баловали себя театром или концертом эстрадной звезды. Славке было радостно, тепло и уютно рядом с родителями.
День накануне поездки он почему-то особенно запомнил. Все были немножко возбуждены предстоящим путешествием, хотя до Геленджика было не более ста пятидесяти километров. Три часа езды. Отец ещё вчера подготовил машину к поездке и теперь ходил вокруг неё, в который раз проверяя, достаточно ли накачаны шины, исправны ли тормоза, залиты ли в баки бензин и масло. Он постукивал ботинком по колёсам и, довольный проверкой, отходил от автомобиля на несколько шагов.
– Эх, Славка! Смотри не проспи утром, а то без тебя уедем, – отец хватал его подмышки и подкидывал высоко-высоко. Раз за разом Славка взлетал над его головой, касаясь макушкой яблоневой ветки. Было совсем не страшно, даже наоборот – восторженно-приятно. Хотя Славке и хотелось смеяться, он неправдоподобно хмурился и ворчал:
– Ну хватит, не маленький уж…
– Вырос сын, – хохотал отец и ставил его на землю.
Мама же, напротив, была чем-то удручена и печальна.
– Петечка, а может, всё-таки не поедем? – она трогала отца за рукав рубашки и умоляюще заглядывала ему в глаза. – Ну куда мне ехать в таком положении? – мама гладила свой округлившийся живот и, задержав взгляд на Славке, спрашивала отца:
– Ему-то когда скажем, что у него скоро братик будет?
– Сестричка, – смеялся отец, и глаза у него искрились. Он целовал маму в щёку. – Вот вернемся домой и скажем.
Проснулись очень рано, чтобы не ехать по жаре. После скорого завтрака двинулись в путь. Славка, прижавшись к тёплому маминому боку, почти сразу задремал. Монотонно урчал автомобиль, слегка постукивала какая-то железка в багажнике. Любимый певец мамы Лев Лещенко уверял в преимуществах именно его соловьиной рощи. В глазах у Славки, словно в калейдоскопе, мелькали разноцветные, разной интенсивности и размера кружочки и квадратики. «Хорошо-то как…» – подумал Славка сквозь полудрёму и улыбнулся. Вдруг что-то загрохотало. Оранжевый шарик стремительно увеличился в размерах и стал невыносимо ярким. Кто-то очень сильный и злой больно схватил Славку за плечо и оторвал от мамы. Руки у него были такие же крепкие, как и у папы, но не тёплые и бережные, а холодные и цепкие. Они тащили Славку по острым камням и жёсткой земле, в его тело впивались колючки и сухие ветки, в лицо сыпался горячий белый песок… Наконец руки расслабили узловатые пальцы и бросили свою жертву на пенёк. Славка больно ударился об него спиной и закричал. Тут же всё исчезло, и темнота навалилась на него тяжёлым, пахнущим лекарством покрывалом.
Через неопределённые промежутки времени Славка открывал глаза и пытался спросить у незнакомых людей, где он находится, но не успевал: жуткая боль пронзала его тело, и он проваливался в глубокую страшную яму, откуда ему было не выбраться. Но было и по-другому: он с родителями едет куда-то в машине… Может быть, на море… И кругом так красиво! Цветут деревья, поют птицы, а мама и папа смотрят на него и улыбаются. Славка вглядывается в их лица и хочет узнать… Нет, это не родители… Скорее всего, воспитатели из детского сада, ведь они в белых халатах. Но мамы среди них нет. Они что-то говорят, но он их не понимает.
– Бедный мальчишка… Он ведь ещё ничего не знает…
– Господи… Сирота, да ещё калека. Какая же у него будет жизнь?
– Он хоть ходить-то будет?
– Я слышала, главный сказал, что вряд ли – сильно повреждён позвоночник.
– Несчастный ребёнок… Сколько ему?
– Говорят, седьмой годок пошел.
– Эх, Господи, неведомы дела Твои…
И сердобольные санитарки принялись убирать палату.
«О ком это они? И где этот несчастный ребёнок, которого они жалеют? Почему эти тёти в белых халатах смотрят на меня так, словно это обо мне? И что я должен им сказать в ответ? Да разве это важно? Ох, как снова болит спина… Где моя мама? Мамочка, мне больно! Ну где же она?!» – Славка стонал и пытался повернуться на бок. Он вскрикивал от резкой боли и снова летел в жуткий колодец. Иногда приходила в голову мысль, что это ему просто снится, а он немножко прихворнул. Сейчас подойдёт мама, даст таблетку, и наутро всё пройдет.
Его пребывание в больнице превратилось в бесконечный тягостный поток, который прерывался на несколько часов после вечернего укола. Через десяток секунд после инъекции Славку подхватывал феерический цветной вихрь и неизменно забрасывал в недалёкое беззаботное прошлое…
Он в десятый раз проверяет содержимое своего новенького портфеля, перебирает пахнущие свежей краской учебники, хрустящие белоснежные тетради, гремящие в деревянном пенале карандаши и ручки. Через две недели он пойдёт в школу, в первый класс. Славка складывает свои сокровища обратно в портфель и хочет положить его в шкаф. Полка находится высоко, и Славка подвигает стул.
– Давай помогу, – улыбается папа.
– Нет, я сам, – поспешно возражает Славка, словно ожидает от отца какой-то каверзы. Пыхтя, он влезает на стул и ставит портфель на верхнюю полку.
За окном палаты забрезжил рассвет. Зачирикали проснувшиеся воробьи. Невдалеке зазвенел первый трамвай. По Славкиной щеке поползло что-то щекотно-тёплое и, достигнув полуоткрытого рта, оказалось ещё и солёным.
Теперь, опершись на две подушки, Славка может вполоборота сидеть в кровати. Прямо сидеть мешает нарост на спине. Он образовался после второй операции, и, как говорят врачи, мог быть более крупным, если бы операций не делали. С ног недавно убрали гипс, но ходить ему пока не разрешают. Да Славка и боится идти – ноги стали тонкие и белые. Три страшных бордовых шрама – на правой ноге, и один, не более изящный – на левой. Славка осторожно потрогал их пальцами; шрамы на ощупь были шершавые и очень чесались.
Вчера к его кровати подходили несколько врачей. Консилиум называется. Старенький седой дедушка, которого все называли профессором, щупал Славкин небольшой горб, клал на него указательный палец одной руки и стучал по нему согнутым пальцем другой. Старичок недовольно хмурился и что-то спрашивал у коллег. Высокий худой доктор, указывая авторучкой на Славкину спину, говорил непонятные слова: «…репозиция дисков исключена». Ему вторила женщина-врач: «… возвратить позвонки на прежнее место невозможно, – она показывала рентгеновские снимки и при этом не отрывала взгляда от профессора, – во-первых, это технически очень сложно, а во-вторых, есть опасность возникновения осложнений…» Худой тут же подхватывал, повторяя заученные выписки из лечебной карточки: «…нейродистрофические изменения необратимы и деформация… э… – он дотрагивался длинным холодным пальцем к Славкиному наросту, – э… будет возрастать, потому что кроме травмы позвоночных дисков, нарушена нормальная иннервация некоторых мышц спины».
Профессор долго сидел, не шелохнувшись. Затем хлопнул ладонями по своим коленям и решительно поднялся с кровати.
– Будем оперировать, – он улыбнулся и прикоснулся к Славкиному плечу, – не возражаете, голубчик? – Потом обернулся к врачам. – Это какая будет операция по счету?
– Третья, профессор, – ответила женщина-врач.
– Будем оперировать, – повторил старичок и пошёл к выходу. Остальные врачи двинулись за ним.
Но ни третья, ни четвертая операции успешными не оказались. Жуткие изнуряющие боли в позвоночнике прошли и уже почти не беспокоили Славку. Но нарост на спине не уменьшался. Он стал твёрже и даже немного увеличился в размерах. Шли, вернее, едва передвигались дни, недели, месяцы. Славка стал привыкать к своему недугу. Спать он мог теперь только на боку или животе. И приучился к тому, что, надевая рубашку, её приходилось одёргивать сзади.
Вопреки страшным прогнозам врачей он стал ходить. Но начинать приходилось заново. Первое время, с помощью медсестры, Славка опирался на костыли и делал неуклюжие, скованные страхом движения. Однако много внимания калеке не уделяли, не из-за черствости, а потому что медперсонала, особенно санитарок, в больнице катастрофически не хватало. Вскоре и костыли Славка тоже отложил в сторону и медленно ходил по коридору, держась за скользкие, крашенные голубой масляной краской стены.
Телесная боль уходила, душевная нарастала с каждым днём. Ему перестали давать на ночь снотворное, и с наступлением темноты тяжеловесно накатывалась не по-детски беспощадная бессонница. Лечащий врач, Славка никак не мог запомнить его имя, как-то ответил на его настойчивые, временами истерически-слёзные вопросы о папе и маме, что он, Славка, вместе с родителями попал в очень тяжелую аварию. И они тоже сейчас находятся в больнице. В другой, для взрослых. Они…
Славка, неожиданно для себя, перебил доктора и спросил:
– Они живы?
Врач на мгновение замер и, увидев в открытую дверь медсестру, крикнул:
– Наташа, вы не видели, где я оставил свой стетоскоп? – он поднялся с кровати и быстрым шагом вышел в коридор.
Каждый понедельник в отделении был обход. Свита врачей под предводительством профессора с преувеличенным достоинством неспешно перемещалась из палаты в палату, задерживаясь у кроватей тяжелых больных. На сей раз к Славке старичок не подошел, а лишь задержал на нём пронзительный взгляд слезящихся линяло-голубых глаз.
– Доктор, скажите ему, – у самой двери профессор тронул за рукав длинного, указав глазами на Славку.
Врач вздохнул и несколько раз кивнул. Когда все вышли из палаты, он подошел к Славкиной кровати и присел на неё, откинув простыню. С минуту посидел молча, что-то внимательно разглядывая за окном.
– Ты знаешь, – врач раскрыл папку с документами и тут же закрыл её. – Ты уже взрослый, и поэтому мы ничего от тебя не скрываем, – он слегка коснулся плеча больного.
«Ещё одна операция», – тоскливо подумал Славка. В спине тяжело и надрывно заныло. Но он ошибся.
– Мы ничего от тебя не скрываем, – повторил доктор и посмотрел ему в глаза. – Твои родители умерли, Славик, – он хотел сказать что-то ещё, но не стал.
«Умерли… Как это – умерли?! А что же ему, Славке, теперь делать? – беспокойными длинными пальцами мальчик теребил край одеяла.
Врач, словно прочитав его мысли, заговорил быстро и непонятно. Движения его стали суетливыми.
– Ты у нас находишься почти год, и надо сказать, дела твои неплохи, – доктор встал и подошёл к окну. – Хорошо ходишь, боли в спине прекратились. А нарост… – он снова раскрыл папку и достал из неё какую-то бумажку. – Через некоторое время, при стечении определённых обстоятельств, мы планируем сделать ещё одну операцию. После неё искривления позвоночника практически не будет заметно.
Из сказанного Славка понял только одно – папы и мамы у него больше нет. Сквозняк из-под двери шевелил застиранную штору на окне, холодил узкие, словно чужие, ступни. И от этого казалось, что съёживается сердце. Доктор продолжал что-то говорить…
– В общем, – врач повернулся к Славке, заглянул ему в глаза и повторил: – Ты у нас находишься уже почти год, и состояние твоё заметно улучшилось, – на его лице возникло подобие улыбки. – Поэтому мы тебя выписываем, а так как… э… другие родственники пока не объявились, мы оформили документы на твоё размещение в специнтернат, – доктор захлопнул папку. – Завтра за тобой приедут.
В дорогу Славку готовили недолго; нищему собраться – только подпоясаться. Хохлушка кастелянша собрала в кладовке кое-какую одежду и обувь. Тихо всплакнула, завязывая шнурки чужих поношенных ботинок:
– Шо ш цэ такэ творицца на свити билом? – она разгладила тёплой шершавой ладонью Славкины вихры. – Жив соби хлопчик, жив, и вдруг – на тоби!
Кастелянша взяла его за руку и отвела в приёмное отделение, где их уже ждала представитель интерната.
VII
Я часто вспоминаю череду не самых удачных событий, которые так или иначе повлияли на то, что мой последний приют стал и местом для работы.
Жилище холостяка – объект весьма неоднозначный. Изнеженная плоть сибарита, переступившего порог моего дома, затрепетала бы в отчаянии, ибо свою квартиру я давно превратил в художественную мастерскую. Бытовые островки цивилизации затерялись среди непригодных для нормального существования атрибутов изобразительного искусства. То есть кухня, телевизор, кресло, кровать, разумеется, были, но постороннему человеку их надо было ещё отыскать, ибо пространство жилого помещения дерзко оккупировали подрамники, холсты, мольберты и прочий художественный хлам. В раскрытых этюдниках, весело поблёскивая разноцветными глазками красок, лежали палитры; на столах и подоконниках, топорщась щетиной, словно дикобразы, стояли кувшины с кисточками. На весь этот творческий бедлам, саркастично улыбаясь, – мол, во всём этом скарбе лишь наличие гранёного стакана было обосновано, – поглядывал гипсовый Диоген. И ещё было много картин… Они, почти полностью закрыв собой узор обоев, висели на стенах; доверчиво прислонившись друг к другу стояли на полу, загромоздив проход; решительно обживали прихожую, обездолено ютились на балконе; впитывая гастрономические ароматы, устраивались на кухне; а самые любимые из них стыдливо жухли красками, расположившись подле кровати создателя.
Этюдов я писал много, но лишь единицам из них суждено было стать законченными картинами. Вдохновение, словно аппетит, быстро насытившись удачной композицией, мягким колоритом или дерзкой идеей, стремительно и настойчиво покидало меня. На то, чтобы доработать набросок, «долепить» его объём и цвет мне никогда не хватало не только времени, но зачастую и желания. Этюды, в тщетной надежде явиться миру законченными полотнами, постепенно заполоняли квартиру. Иногда, как довольный выбором коллекционер, я медленно ходил по своей маргинальной галерее полуфабрикатов и мысленно дописывал свои работы. Завершённые моим воображением картины искажённо мерцали красками в тусклом свете небольшой лампочки и гордо взирали на мир. Особенно я любил одну из них. Это был пейзаж с видом на кладбище. В сюжете наброска едва ли просматривалось что-то мистическое – я был молод, и трепет перед потусторонним был совершенно чужд моей ясной и чистой душе. Но невероятный, холодящий разум контраст между жизнью и смертью, часто раздирая моё праздное или творческое любопытство, спрашивал одно и то же. – Что же там, за чертой? Кто сможет ответить на вечные вопросы человеческого ума – почему, как, куда и где? Зачем происходит это «юридически допустимое» явление – смерть? Кто придумал прерывание, прекращение всего любимого, знакомого, желанного? Каков смысл этого ошеломляющего вылета в неведомое, внезапного конца всех планов и замыслов? Я брал этюдник и брёл к городскому кладбищу. Делал углём набросок, не спеша разводил краски на палитре и почти ни о чём не думая, накладывал на холст мазок за мазком. Низенький, побелённый известью кирпичный забор категорично отделял пространство мёртвых от города живых. По эту сторону заграждения сновали чем-то озабоченные, весёлые или грустные люди, урчали машины, жизнеутверждающе шелестели на ветру листья огромных лип. А там? Хотелось бы знать…
Левая – здравствующая – сторона этюда, где не было места для печали и уныния, получилась в мажорных, светлых тонах, а на правой, где было изображено кладбище, помимо моей воли возникали унылые, даже мрачные оттенки. От столь резкого контраста колорит полотна упорно не хотел складываться в гармоничную цветовую гамму. Я приходил на это место уже несколько раз, но работа не шла. Приближалась городская выставка, и я хотел среди прочих своих картин выставить и эту.
Однажды я решил прийти на этюд поздно вечером, когда краски мира уже не так ярки и вызывающи. Когда лишь свет луны придает им определённую тональность. Я стал под фонарём, раскрыл этюдник и долго разглядывал набросок. Затем выдавил краски на палитру и вдруг почувствовал за спиной чьё-то присутствие.
– Там не так страшно, как ты нарисовал.
Я обернулся и увидел перед собой горбатого человека. Его возраст определить было сложно, так как большую часть крупного лица прикрывала тёмно-синяя фетровая шляпа. Я не стал поправлять незнакомца, замечая, что картины не рисуют, а пишут, и спросил:
– А вы откуда знаете?
Он неопределённо пожал плечами и через некоторое время сказал:
– Жизнь и смерть – это одно и то же.
До меня не сразу дошёл смысл сказанного, ибо вначале я принял слова горбуна за простую банальность скучающего прохожего.
– Одно и то же? – я положил кисти на этюдник. – Вы хотите сказать, что мы не умираем?
– Ну, наверное, такое тебе в любой церкви скажут, – горбун внимательно рассматривал набросок. – Я хотел сказать, что смерть ничуть не хуже жизни.
– Вполне возможно, – я кивнул на кирпичный забор, – но там, по-моему, не у кого об этом спросить.
– А ты пробовал? – незнакомец наконец отвёл взгляд от холста. Лицо его, и без того неприятное, стало отталкивающим.
– В каком смысле? – по моей спине пробежал холодок.
– В прямом, в каком же ещё, – буркнул горбун и побрёл к кладбищенским воротам.
«Что ему понадобилось в приюте теней в такое позднее время?» – подумал я и от чего-то поёжился.
Дома я уравновесил цветовую гамму картины, и полотно «заиграло». Я дописал ещё несколько холстов и решил отправить их на выставку.
За время работы вернисажа мне несколько раз делали предложение купить пейзаж с видом на кладбище. Несмотря на то, что деньги для меня тогда были нелишними, я почему-то отказывался, хотя суммы называли вполне приличные. После закрытия выставки мои произведения получили невероятно плохие отзывы в прессе. «Сюрреалистические выкрутасы», «целлулоидный декор», «мёртвые пейзажи». – Последний термин заинтересовал меня, показавшись очень точным. Тема мистики постепенно вытесняла другие жанры моего творчества, так как я начал замечать в устройстве бытия неочевидные и даже пугающие вещи: вокруг безобразный хаос жизни, а там, за забором лишь шёпот лип и запах хризантем, так любимых вдовами. Пронзительная пустота в квартире, безысходность, бессмысленность усилий стали настолько полными, что само существование начинало меня тяготить. Привычный и, казалось, обустроенный уклад моего бытия вдруг стал невероятно, до отчаяния, тусклым. Видимо, отношение к собственным успехам или неудачам определяется ещё и теми жертвами, на которые пришлось пойти ради достижения цели.
С тех пор я довольно часто бывал на кладбище и делал там зарисовки с натуры. Даже если погода была не совсем пригодна для этюдов – шёл дождь или сыпал снег – меня буквально притягивала сюда какая-то сила. На маршрутном такси я приезжал на кладбище и часами бродил по его сумрачным аллеям. Не совсем понятное влечение приводило меня в некоторое замешательство, и я решил обратиться к знакомому психиатру.
– Ничего страшного, друг мой, – приятель ободряюще похлопал меня по плечу. – Я иногда прописываю своим пациентам лечение кладбищем. Место для раздумий самое подходящее. Люди, к сожалению, не придают значения простым вещам. А нужно всего лишь поймать попутный ветер и пройтись по главной аллее погоста, – врач достал из пачки сигарету, щёлкнул зажигалкой и увлёкся монологом. Лицо его при этом стало важным и многозначительным. – Ежедневный ритм утомляет, каким бы он ни был. Современный человек достаточно быстро изнашивает свой психический потенциал – неудачи на работе и в постели, семейные разборки, суета, нехватка времени, – он, как мне показалось, с досадой стряхнул пальцем пепел и махнул рукой. – Думаю, ты меня понимаешь.
Конечно, не по всем позициям, но, безусловно, я понимал.
– Отыскав некоторое облегчение в футболе-рыбалке, а также призвав в спасители алкоголь, или, предположим, женщин, мой пациент попадает в ещё большую беду. Представь, – хохотнул приятель, – естественно, что импотент со временем становится алкоголиком, а рыбак – бабником. Смешно, правда?
– Невероятно, – кивнул я и поинтересовался более близким мне вариантом: может ли алкоголик стать бабником?
Врач посмотрел на меня с профессиональным интересом и продолжил:
– А там, – он указал рукой в окно в сторону кладбища, – тишина и покой, умиротворение и ликование победителя.
– Ликование победителя? – я не был уверен, что правильно его расслышал.
– Ну да. Ты разве никогда не ощущал, замечая похоронную процессию, тихую, едва заметную радость оттого, что и на этот раз не ты? – приятель вопросительно взглянул на меня. – Старуха с косой вновь прошла мимо твоего дома.
Я промолчал и стал вспоминать свои ощущения при виде покойников. Надо признаться, что радости, даже тихой, я не ощущал, но, насколько помню, корвалол мне не требовался. Впрочем, один случай капризная память нехотя вернула.
Когда я был студентом, то очень нетрезвым возвращался домой с одной вечеринки. Наступила поздняя ночь, улицы были совершенно пустынны. Я почти подошёл к своему дому и, заглянув в открытую калитку соседей, заметил прислонённую к стене крышку гроба и несколько венков. Помимо своей воли я зашёл в дом и увидел сидящую подле гроба вдову. Кроме неё и покойника в комнате никого не было. Она и её муж были едва мне знакомы. И вот теперь, – уже не помню, как звали хозяина, – он навечно застыл в монументально-унылой позе. Женщина, оглянувшись на мои шаги, слегка кивнула и снова обратила взор на мужа. Я стал мучительно и безрезультатно припоминать события, хоть каким-то образом связанные с покойным. Кажется, пару раз я давал ему закурить и один раз за что-то послал в пешее эротическое путешествие. Больших по значимости событий, хоть убей, я не мог вспомнить.
Вдруг совершенно непроизвольно слёзы потекли из моих глаз. Я с трудом крепился, чтобы не заплакать всерьёз. Однако вскоре всхлипы нарушили звенящую тишину комнаты, и я уже громко рыдал, не сдерживая себя. Вдова удивленно взглянула на поверженного горем соседа и, поднявшись со стула, принялась меня утешать. Таким рыданиям, полагаю, позавидовали бы профессиональные плакальщицы – лишь лицо своё я не раздирал ногтями. Самое странное заключалось в том, что мне совершенно не было жалко ни умершего соседа, ни вдову. Скорби я никакой не испытывал, но эмоции буквально захлестывали сознание. Мои стенания были столь убедительны и искренни, что женщина вывела меня на улицу, где я немного успокоился, и попросила сигарету. Мы молча закурили. Я достал из кармана носовой платок и вытер глаза. Вдова затушила окурок о кирпичную стену, щелчком швырнула его в кусты и пошла в дом. В дверях остановилась и, слегка повернув голову в мою сторону, сказала:
– Ох, и козёл же он был!
– В данной ситуации я не вижу ничего особенного, – врач улыбнулся моей последней фразе. – Как известно, алкоголь – сильный эмоциональный возбудитель, вот твоя психика и не выдержала напряжения в неординарной обстановке.
– Скорее всего, – согласился я. – А может, это выпитая водка глазами выходила.
– Так что ничего страшного: гуляй по кладбищу, думай о бренности бытия, размышляй о вечном, – словно не услышав моей ремарки, банально завершил разговор приятель и похлопал меня по плечу.
«Ну да, – подумал я. – С одной стороны, если не обдумывать жизнь, то и жить незачем, но с другой – когда не думаешь, то многое становится ясным».
В который раз убеждаюсь в том, что поход к психиатру – бесполезное занятие: люди зачастую чувствуют и совершают поступки не в соответствии с фактами, а исходя из субъективного отношения к этим фактам. Предположим, я могу допустить мысль, что вино и женщины в избытке – это плохо. Но какими бы вескими доводами передо мной не манипулировали, вряд ли мысль перерастёт в стойкое убеждение. Надо не только прислушиваться к советам докторов, но и, повинуясь внутреннему голосу, учиться нарушать некоторые их запреты.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































