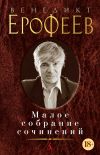Текст книги "Москва – Петушки. С комментариями Эдуарда Власова"

Автор книги: Венедикт Ерофеев
Жанр: Литература 20 века, Классика
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 13 (всего у книги 46 страниц) [доступный отрывок для чтения: 15 страниц]
6. Москва. Ресторан Курского вокзала
6.1 С. 12. – Спиртного ничего нет, – сказал вышибала. И оглядел меня всего, как дохлую птичку или как грязный лютик. —
Традиционная для литературы и искусства сцена унижения маленького и беззащитного человека ничтожеством, наделенным властью. У Достоевского есть наблюдение:
«…Поставьте какую-нибудь самую последнюю ничтожность у продажи каких-нибудь дрянных билетов на железную дорогу, и эта ничтожность тотчас же сочтет себя вправе смотреть на вас Юпитером, когда вы пойдете взять билет, pour vous montrer son pouvoir. „Дай-ка, дескать я покажу над тобою мою власть“… И это в них до административного восторга доходит… En un mot, я вот прочел, что какой-то дьячок в одной из наших заграничных церквей, – mais c’est tres curieux, – выгнал, то есть буквально выгнал, из церкви одно замечательное английское семейство, les dames charmantes, прелестных дам, пред самым началом великопостного богослужения – vous savez ces chants et le livre de Job… единственно под тем предлогом, что „шататься иностранцам по русским церквам есть непорядок и чтобы приходили в показанное время…“, и довел до обморока… Этот дьячок был в припадке административного восторга, et il a montre son pouvoir…» («Бесы», ч. 1, гл. 2).
А у Мандельштама есть такое признание лирического героя:
У меня не много денег,
В кабаках меня не любят.
<…>
Я запачкал руки в саже,
На моих ресницах копоть,
Создаю свои миражи
И мешаю всем работать.
(«У меня не много денег…», 1913)
Из обилия параллельных «ресторанных скетчей» мне приглянулся хронологически близкий (1955) «Москве – Петушкам» классический самиздатовский текст Абрама Терца, где, хотя к герою относятся диаметрально противоположно, дух советского ресторана передан точно:
«У Константина Петровича началась новая жизнь. Заходит он между делом в ресторан „Киев“ и едва переступает порог, уже бегут напомаженные официанты, восклицая отрывистыми голосами, наподобие ружейных выстрелов:
– Жалст! Жалст! Жалст!
У каждого над головою поднос, который непрерывно вращается, а там разные вина – красное и белое, или есть еще такое: „Розовый мускат“. Одним словом – вся гамма к вашим, Константин Петрович, услугам.
– Нет, – говорит Константин Петрович усталым голосом и отстраняет их вежливо ручкой, – я решительно воздерживаюсь… Плохо себя чувствую и ничего мне в жизни не надо. А давайте мне водки – белая головка – 275 грамм и микроскопический бутербродик из атлантической сельди. Только хлеба черного в бутербродик тот не кладите, а кладите батон с изюмом, да чтоб изюм пожирнее.
И сейчас же официанты – в количестве трех человек – откупоривают цветные бутылки и щелкают салфетками в воздухе, полируя бокалы и рюмки до полного зеркального блеска и обмахивая попутно пылинки с узконосых своих штиблет.
А как выпьешь для порядка 275 грамм, все чувства в твоей душе обостряются до крайности. Ты явственно различаешь и склизлый скрежет ножей, от которого ноют зубы и передергивается спинномозговая спираль, и колокольный звон стекла, пригубленного на разных уровнях, и монотонный мужской припев: „Будем здоровы! С приездом! За встречу! С приездом!“ – и вопросительное хохотание женщин, которые чего-то ждут, беспрестанно вертя головами, и охорашиваются нервозно, как перед свадьбой.
В мимике официантов проглядывает обезьянья сноровка. Они прыгают между кадками с пальмами, растущими повсюду, как в Африке, и перекидываются жестяными судками с дымящимися борщами или, изогнувшись над столиком, точно над бильярдом, разливают все что хотите в стаканы – падающим, коротким движением» («В цирке»).
6.2 С. 13. Бефстроганов —
классическое горячее блюдо советского общепита, лишь отдаленно напоминающее своего прародителя – boeuf Stroganov; советский бефстроганов представляет собой полоски говядины, тушенные в соусе (иногда с добавлением соленых огурцов); подавался в советских ресторанах, кафе и столовых с гарниром из гречневой каши, риса, картофеля или макаронных изделий.
6.3 …послушать Ивана Козловского… —
Послушать – здесь, разумеется, по радио. Иван Семенович Козловский (1900–1993) – известный советский тенор, в 1926–1954 гг. солист Большого театра, обладатель многих правительственных наград, включая три ордена Ленина и Государственную премию СССР, – одним словом, «певец-лауреат». Исполнял партии в операх, литературные источники которых так или иначе входят в контекст «Москвы – Петушков» (Юродивый – «Борис Годунов», Фауст – «Фауст», Ленский – «Евгений Онегин», Лоэнгрин – «Лоэнгрин», Альмавива – «Севильский цирюльник»), а также как режиссер ставил «Паяцев» (см. 6.8). Арии в его исполнении звучали по радио. В воспоминаниях современника находим (о юбилейном вечере К. Паустовского в 1967 г.): «…Предоставили слово народному артисту Союза ССР Ивану Семеновичу Козловскому, „образцовому тенору“, как называли его» (Свирский Г. На лобном месте: Литература нравственного сопротивления (1946–1976). Лондон, 1979. С. 417). В других мемуарах есть следующая запись: «В дни моей юности в России, я думаю, не было никого, кто не знал бы Ивана Козловского, голос его все время звучал по радио, престиж оперы был чрезвычайно высок – он же был лучший солист Большого театра. Мне кажется, впрочем, что тембр голоса у Козловского не очень приятен, и лучшая партия его – это партия Юродивого в „Борисе Годунове“: „Пода-а-йте копеечку…“ Сейчас, вероятно, его стали забывать» (Амальрик А. Записки диссидента. Анн-Арбор: Ardis, 1982. С. 27).
6.4 …что-нибудь из «Цирюльника». —
То есть что-нибудь из оперы итальянского композитора Джоаккино Россини «Севильский цирюльник» (1816). Фрагменты оперы регулярно включались в репертуар советских музыкальных радиопрограмм в 1950–1970-е гг., но и раньше, до советских времен, арии из «Цирюльника» были музыкальным фоном праздного времяпровождения. Например, у М. Кузмина: «Зачем „Севильский брадобрей“ / На пестрой значился афише» («Новый Ролла», ч. 3, гл. 3), «И пели нам ту арию Розины: / „Io sono docile, io sono rispettosa“» («Из поднесенной некогда корзины…», 1906). Попутно замечу, что, возможно, Веничка хочет послушать из «Цирюльника» именно эту каватину Розины из второго акта оперы: героиня Россини признается, что она «так безропотна, так простодушна», то есть очень близка по натуре герою поэмы.
Опера как таковая занимала особое место в жизни советского человека, тем более в «дотелевизионную» эпоху (1950-е гг.). Современник Ерофеева, знакомый с «Полетом шмеля», «Севильским цирюльником», Гуно, Римским-Корсаковым, Вагнером и иже с ними, Юрий Нагибин вспоминает:
«С чего началась моя меломания? Не знаю. Но разве могу я сказать, с чего началась фантиковая болезнь или упоительные трамвайные путешествия на окраины Москвы? Мига пленения не замечаешь, а потом кажется, будто так всегда было…
В раннем детстве меня, как полагается, водили на „Сказку о царе Салтане“, на „Золотого петушка“ и для общего развития – на „Князя Игоря“. Последний был просто невыносим: сплошное пение, и никаких событий. <…> В „Сказке о царе Салтане“ я с нетерпением ждал полета шмеля, о чем был заранее предупрежден, но когда полет – вполне сносный – состоялся, смотреть стало нечего. <…> Вообще я был твердо убежден, что хуже оперы на свете только балет. <…> Опера надолго исчезла из моей жизни. Попал я туда снова уже одиннадцатилетним, после только что перенесенного крупозного воспаления легких. В эту-то пору нового освоения бытия я вдруг оказался в филиале Большого театра на „Севильском цирюльнике“. <…> Я помню себя направляющимся ранним весенним подвечером в компании таких же меломанов к Большому театру. Вернее, к филиалу Большого – там ставили мелодичные оперы Россини, Верди, Пуччини, Гуно, которые мы по молодости и незрелости предпочитали монументальным творениям Римского-Корсакова, Вагнера, Мейербера, преобладавшим на главной сцене. Конечно, мы не оставляли вниманием и Большой, ведь там шли „Евгений Онегин“, „Пиковая дама“, „Кармен“, но предпочитали филиал, как станет ясно в дальнейшем, не только из-за репертуара. <…> Чем была для нас опера? Развлечением? Удовольствием? Нет, чем-то неизмеримо большим. Мы жили сурово и деловито. Шумный двор почти весь год был бессменной декорацией нашего скудного досуга. Никто из нас не видел ни моря, ни гор, ни чужих городов. Опера уводила нас в пленительный, яркий мир, исполненный благородства» («Меломаны»).
6.5 С. 13. Царица небесная! —
Восклицание, формально обращенное к Богоматери, а неформально – всего лишь сетование. Например, у Горького: «Бабушка осторожно подходила к темным окнам мещанских домишек, перекрестясь трижды, оставляла на подоконниках по пятаку и по три кренделя, снова крестилась, глядя в небо без звезд, и шептала: – Пресвятая царица небесная, помоги людям! Все – грешники перед тобой, матушка!» («В людях», гл. 2); у Бунина: «Тихон Ильич стиснул челюсти. – Ох! – сказал он, закрывая глаза и тряся головой. – Ох, мати царица небесная!» («Деревня», гл. 1); у Фета:
Такой тебе, Рафаэль, вестник бога,
Тебе и нам явил твой сон чудесный
Царицу жен – царицею небесной!
(«К Сикстинской Мадонне», 1864)
6.6 …музыка-то с какими-то песьими модуляциями. Это ведь и в самом деле Иван Козловский поет, я сразу узнал, мерзее этого голоса нет. —
О неприятном, по мнению некоторых, тембре голоса Ивана Козловского см. замечание Амальрика (6.3).
6.7 Все голоса у всех певцов одинаково мерзкие, но мерзкие у каждого по-своему. Я поэтому легко их на слух различаю… —
Здесь без труда усматривается намек на отчаянную конкуренцию в советской оперной элите 1940–1950-х гг. Козловского и другого тенора-лауреата из Большого театра – Сергея Яковлевича Лемешева (1902–1977), обладавшего как множеством правительственных наград и премий, так и не менее слащавым высоким голосом. В 1950-е гг. большие и хорошо организованные группы поклонников Козловского и Лемешева враждовали друг с другом. Раздражаться высокими, ненатуральными и потому «мерзкими» голосами оперных певцов из Большого театра стало проявлением хорошего тона в среде литераторов, нигилистически расшатывающих традиции. Так, до Венички «мерзкий тенор» Леонида Собинова, предшественника Козловского и Лемешева, раздражал Маяковского, причем также ассоциируясь с исполнением арии Лоэнгрина (см. 6.8): «Ваше слово / слюнявит Собинов <…> Эх, поговорить бы иначе / с этим самым / Леонидом Лоэнгринычем!» («Сергею Есенину», 1926).
Формулировка положения сделана под начало романа Льва Толстого «Анна Каренина»: «Все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая семья несчастлива по-своему» («Анна Каренина»).
6.8 C. 13. «О-о-о, чаша моих прэ-э-эдков… О-о-о, дай мне наглядеться на тебя при свете зве-о-о-озд ночных…» <…> «О-о-о, для чего тобой я околдо-о-ован… Не отверга-а-ай…» —
Попурри из популярных оперных арий.
1) О-о-о, чаша моих прэ-э-эдков… – фрагмент арии Фауста (тенор) из Пролога оперы Шарля Гуно «Фауст» (1859; либретто Ж. Барбье и М. Карре по 1-й части трагедии Гёте «Фауст»). Партия Фауста входила в оперный репертуар Козловского. См. также 25.39.
Ах, оставь меня, радость, веселье!
Лети, лети своей стезёй! Лети, лети!
О, чаша моих предков, зачем дрожишь ты?
Зачем в этот миг роковой дрожишь ты
в руке моей?
Примечательно, что Фауст поет эту арию, держа в руке кубок с ядом. Отхлебнуть из него, то есть покончить с собой, Фаусту не удается из-за внезапного появления Мефистофеля.
2) О-о-о, дай мне наглядеться на тебя при свете зве-о-о-озд ночных… – еще один слегка «адаптированный» Веничкой фрагмент из «Фауста» Гуно: ария Фауста из 2-го действия, обращенная к Маргарите.
О, позволь, ангел мой,
на тебя наглядеться!
О, позволь, ангел милый,
наглядеться!
При блеске звезд ночных
глазам не хочется,
о, поверь мне, оторваться
от чудных, чудных глаз твоих!
Как визуальный и звуковой фон происходящих событий опера Гуно «Фауст» встречается в литературе, в частности у Бунина, герой которого, как и Веничка, способен «изнемочь» (см. 17.4):
«Однажды зимой он был с ней в Большом театре на „Фаусте“ с Собиновым и Шаляпиным. Почему-то в этот вечер все казалось ему особенно восхитительным: и светлая, уже знойная и душистая от многолюдства бездна, зиявшая под ними, и красно-бархатные, с золотом, этажи лож, переполненные блестящими нарядами, и жемчужное сияние над этой бездной гигантской люстры, и льющиеся далеко внизу под маханье капельмейстера звуки увертюры, то гремящие, дьявольские, то бесконечно нежные и грустные: „Жил, был в Фуле добрый король…“ Проводив после этого спектакля, по крепкому морозу лунной ночи, Катю на Кисловку, Митя особенно поздно засиделся у нее, особенно изнемог от поцелуев и унес с собой шелковую ленту, которой Катя завязывала себе на ночь косу» («Митина любовь», 1924).
Бунин также упоминал и цитируемую арию, причем исполняемую не вживую, а, как и в «Москве – Петушках», в записи и в «алкогольном» контексте:
«Потом заказали уху и закурили. В старой зале нежно и грустно запела, укоризненно зарычала машина. И композитор, откинувшись к спинке дивана, затягиваясь папиросой и, по своему обыкновению, набирая в свою высоко поднятую грудь воздуху, сказал:
– Дорогие друзья, мне, невзирая на радость утробы моей, нынче грустно. А грустно мне потому, что вспомнилась мне нынче, как только я проснулся, одна небольшая история…
– История небольшая, но, вне всякого сомнения, амурная, – сказал Георгий Иванович <…>
– Амурная? – сказал он холодно и насмешливо. – Ах, Георгий Иванович, Георгий Иванович, как вы будете за всю вашу порочность и беспощадный ум на страшном суде отвечать? Ну, да бог с вами. «Je veux un tresor qui les contient tous, je veux la jeunesse» [Я хочу сокровище, которое вмещает в себя всё, я хочу молодости (фр.)], – поднимая брови, запел он под машину, игравшую „Фауста“ <…>
Он опустил глаза и, мешковато приподнявшись, потащил из серебряного ушата, из шуршащего льда, бутылку, налил себе самый большой фужер. Скулы его зарделись, короткая шея покраснела. Сгорбившись и стараясь скрыть смущение, он выпил бокал до дна, затянул было под машину: „Laisse moi, laisse moi contempler ton visage!“ [Дай мне, дай мне наглядеться на твое лицо! (фр.)], но тотчас же оборвал» («Ида», 1925).
3) О-о-о, для чего тобой я околдо-о-ован… – строка из дуэта Сильвио (баритон) и Недды (сопрано) из оперы Руджеро Леонкавалло «Паяцы» (1892): в конце 1-го акта Сильвио, влюбленный в Недду, жену паяца Канио, уговаривает ее бежать с ним и признается в своей страсти:
О, для чего тобой я околдован,
зачем меня ты покидаешь?!
О, для чего меня обнимала
в пламенных, страстных лобзаньях?!
Если забыла ты те объятья,
я не могу их забыть никогда.
Этой любовью и поцелуями
ты пламень страсти в сердце зажгла!
В финале оперы Канио закалывает его ножом, а затем произносит: «La commedia è finita» (см. 23.9). «Паяцев» в свое время ставил как режиссер все тот же Иван Козловский.
4) Не отверга-а-ай… – мольба эта принадлежит Димитрию Самозванцу из оперы Мусоргского «Борис Годунов» (см. 10.13): в сцене с Мариной Мнишек Самозванец (тенор) поет: «Тебя, тебя одну, Марина, я обожаю, всей силой страсти, всей жаждой неги и блаженства. Сжалься над скорбью бедной души моей, не отвергай меня!» (д. 3, карт. 2).
Примечательно, что к тому же действию «Бориса Годунова» можно возвести и «скучную княгиню-боярыню» (см. 15.16): в своей арии княжна Марина Мнишек (меццо-сопрано) поет (упоминая и князей, и бояр):
Скучно Марине,
ах как скучно-то!
Как томительно и вяло
дни за днями длятся.
Пусто, глупо так, бесплодно!
Целый сонм князей, и графов,
и панов вельможных
не разгонит скуки адской.
<…>
Панне Мнишек слишком скучны
страсти томной излиянья
<…>
И стада бояр кичливых
бить челом себе заставлю.
(д. 3, карт. 1)
Обеих цитат у Пушкина нет – либретто к опере написано композитором.
Кроме того, настоятельная просьба «Не отвергай!» есть и у Вагнера в «Лоэнгрине» (см. 28.2), там эти слова поет Эльза (сопрано), обращаясь к главному герою:
Ах, удостой меня признаньем
и слез моих не отвергай!
(д. 3, карт. 1)
6.9 C. 13. Бефстроганов есть, пирожное. Вымя… —
Стандартное меню недорогого вокзального ресторана. Пирожное – обычно песочное, эклер, «корзиночка» или бисквитное. Вымя – говяжье, вареное или жареное, дешевое блюдо из так называемых субпродуктов (к которым также относятся печень, почки и мозги).
6.10 C. 13–14. Тяжелая это мысль… <…> Очень тяжелая мысль… <…> Очень гнетущая это мысль. Мысль, которая не всякому под силу. Особенно с перепою… —
Мотив тяжкой, гнетущей мысли (см. 39.9).
6.11 C. 14. А ты бы согласился, если бы тебе предложили такое: мы тебе, мол, принесем сейчас 800 грамм хереса, а за это мы у тебя над головой отцепим люстру и… —
Наслоение друг на друга ряда устойчивых парадигм искушения: 1) классической «сделки за чашу» Фауста с Мефистофелем, описанной, в частности, Гёте («Фауст», ч. 1, сц. 3), и 2) модифицированной сцены искушения Христа Сатаной (см. 37.6). При этом слабовольный Веничка не задумываясь предпочитает «чашу», обеспечивающую «вечную молодость».
Кроме того, очевидна отсылка к Достоевскому, у которого Голядкин мечтает о падении люстры: «Вот если б эта люстра сорвалась теперь с места и упала на общество, то я бы тотчас бросился спасать Клару Олсуфьевну» («Двойник», гл. 4).
6.12 – Хересу, пожалуйста. 800 грамм. —
Херес в русской литературе заказывался еще задолго до Венички. Например, у Н. Некрасова помещик говорит:
И мне присесть позволите?
Эй, Прошка! Рюмку хересу,
Подушку и ковер!
(«Кому на Руси жить хорошо», ч. 1, гл. 5)
У Достоевского герой «пил с горя лафит и херес стаканами» («Записки из подполья»).
6.13 – Ну… я подожду… когда будет…
– Жди-жди… Дождешься!.. Будет тебе сейчас херес!
И опять меня оставили. —
У Гамсуна страдающий от чрезмерной чувствительности и деликатности нищий герой «Голода» испытывает в другом общественном месте – скупочной, куда он принес заложить свои пуговицы, – сходные чувства:
«Я вошел, держа пуговицы в руке. Процентщик сидел за своей конторкой и писал.
– Я могу обождать, мне не к спеху, – сказал я, боясь помешать ему и рассердить своим приходом. Мой голос звучал так глухо, я сам не узнавал его, а сердце стучало, как молот.
– Я тут кое-что принес и хотел показать, может быть, они пригодятся… <…>
Старый ростовщик засмеялся и, не говоря ни слова, вернулся к своей конторке» («Голод», гл. 2).
6.14 C. 14. Отчего они все так грубы? А? И грубы-то ведь, подчеркнуто грубы в те самые мгновенья, когда нельзя быть грубым… —
До Венички схожие наблюдения делали пророки: «Огрубело сердце народа сего, и ушами с трудом слышат, и очи свои сомкнули, да не узрят очами, и не услышат ушами» (Ис. 6: 10; Мф. 13: 15; Деян. 28: 27), а также поэты. Вот реплика Звездочета из драмы Блока: «Грубые люди! Оставьте меня» («Незнакомка», видение 2). Страдал от грубости людей и В. Розанов: «Грубы люди, ужасающе грубы, – и даже по этому одному, или главным образом по этому – и боль в жизни, столько боли…» («Опавшие листья», короб 1-й).
6.15 …когда он малодушен и тих? <…> …как я сейчас, тих и боязлив… —
Обращение к лексике пророков: «И еще объявят надзиратели народу, и скажут: кто боязлив и малодушен, тот пусть идет и возвратится в дом свой, дабы он не сделал робкими сердца братьев его, как его сердце» (Втор. 20: 8).
6.16 Никаких энтузиастов, никаких подвигов, никакой одержимости! – всеобщее малодушие. —
Данное заявление сугубо автобиографично. В воспоминаниях о Венедикте Ерофееве постоянно подчеркивается его антиэнтузиазм: «Ему нравилось все антигероическое, все антиподвиги, и расстроенное фортепьяно – больше нерасстроенного» (Седакова О. [О Вен. Ерофееве] // Театр. 1991. № 9. С. 101). Данные антиштампы – откровенный эпатаж по отношению к официальной коммунистической пропаганде, в частности к знаменитому «Маршу энтузиастов» Василия Лебедева-Кумача и Исаака Дунаевского из кинофильма «Светлый путь» (1940), прославлявшего СССР как «страну героев, страну мечтателей, страну ученых». Кроме того, параллельная железной дороге на Петушки и Владимир крупная московская автомагистраль называется Шоссе энтузиастов (в честь первых русских революционеров-демократов, которые следовали этой дорогой – Владимиркой – в сибирскую ссылку). А вот еще заголовки газетных статей времен написания «Москвы – Петушков»: «Октябрьский марш энтузиастов» (Известия. 1969. 8 ноября), «Энтузиастов – десятки тысяч» (Известия. 1969. 24 декабря), «Энтузиасты культуры» (Правда. 1969. 5 сентября), «Энтузиасты технического творчества» (Правда. 1969. 24 сентября); или следующий пассаж из «настольной книги» партийца: «Энтузиазм рабочего класса оказывал моральное воздействие на трудовые массы крестьянства, развернувшие строительство колхозов. Особенно велик был энтузиазм среди молодежи» (История КПСС. М., 1973. С. 412).
Забавная и близкая Веничке параллель приводится Достоевским в разговоре Ставрогина с Шатовым:
«– …И притом Верховенский энтузиаст.
– Верховенский энтузиаст?
– О да. Есть такая точка, где он перестает быть шутом и обращается в… полупомешанного» («Бесы», ч. 2, гл. 1).
Антиэнтузиазм был характерен для многих российских литераторов. Розанов в весьма сходном ключе писал о Льве Толстом: «Толстой прожил собственно глубоко пошлую жизнь… Это ему и на ум никогда не приходило. Никакого страдания; никакого „тернового венца“; никакой героической борьбы за убеждения; и даже никаких особенно интересных приключений. Полная пошлость» («Уединенное», 1912). Он также признавался: «Все „величественное“ мне было постоянно чуждо. Я не любил и не уважал его» (там же). То же наблюдается и у поэтов, например у позднего Фета: «Радость чуя, / Не хочу я / Ваших битв» («Quasi una fantasia», 1889); или у позднего Пастернака: «Мы брать преград не обещали, / Мы будем гибнуть откровенно» («Осень», 1949).
Приведу также характерные примеры поэтизированного, соответственно, Аксеновым и Евтушенко политизированного мироощущения молодого советского человека «оттепельных» времен, антиподом которого является Веничка:
«Я сделаю свое дело, потому что люблю все вокруг себя, Москву и всю свою страну. Масса солнца вокруг и воздуха. Я очень силен. Я еду в институт. Я сделаю свое дело для себя, и для своего института, и для своей семьи, и для своей страны. Моя страна, когда-нибудь ты назовешь наши имена и твои поэты сложат о нас стихи. Я сделаю свое дело, чего бы мне это ни стоило.
В метро люди читают газеты. Заголовки утренних газет: КУБЕ УГРОЖАЕТ ОПАСНОСТЬ! АГРЕССИЯ В КОНГО РАСШИРЯЕТСЯ. В ЛАОСЕ ТРЕВОЖНО. МЫ С ТОБОЙ, ФИДЕЛЬ! ПИРАТСКИЕ НАЛЕТЫ ПРОДОЛЖАЮТСЯ. ОЛИМПИЙСКИЙ ОГОНЬ ПРОДОЛЖАЕТ СВОЙ ПУТЬ.
В темном окне трясущегося вагона отражаемся мы, пассажиры. Мы стоим плечом к плечу и читаем газеты. Жирные, сухие и такие мускулистые, как я, смешные, неряшливые, респектабельные, пижонистые, мы молчим. Мы немного не выспались. Нам жарко и неловко. Этот, справа, весь вспотел. Фидель, мы с тобой! Пираты, мы против вас. Мы несем Олимпийский огонь. Я сделаю свое дело» («Звездный билет», 1961).
Возьмите меня в наступление —
не упрекнете ни в чем,
лучшие из поколения,
возьмите меня трубачом.
Я буду трубить наступление,
ни нотой не изменю,
а если не хватит дыхания,
трубу на винтовку сменю.
(«Лучшим из поколения», 1956)
О советском энтузиазме размышлял и официальный советский писатель, а затем не менее официальный диссидент Виктор Некрасов:
«[Социалистическая] дисциплина построена на страхе… Простите, а энтузиазм? Вспомните. Двадцатые годы. Люди отказывались от всего, ехали… Да, ехали и доехали, как сказал мне один старик-колхозник, когда я пытался говорить ему нечто подобное… Нет энтузиазма, давно нет. Только в газетных статьях о принимаемых приветствиях родному ЦК на очередном митинге или собрании писателей. И романтика БАМа только в „Комсомолке“ да бодрых песнях по радио. БАМ – та же дисциплина. Иными словами, подчинение приказу. Не поедешь – исключим, прогоним, накажем. Есть решение – выполняй. А так как выполнить в большинстве своем невозможно… в дело вступает обман. А обман – отец разложения, растления» («Взгляд и нечто», 1977).
Что касается одержимости, то она в русской философской публицистике имеет прямую связь с не принимаемой Веничкой революцией. Например, у Н. А. Бердяева: «Одержимость идеей всеобщего счастья, всеобщего соединения людей без Бога заключает в себе страшную опасность гибели человека, истребления свободы его духа»; «Одержимость безбожной идеей революционного социализма в своих окончательных результатах ведет к бесчеловечности» («Миросозерцание Достоевского», 1923).
6.17 C. 14. Я согласился бы жить на земле целую вечность, если бы прежде мне показали уголок, где не всегда есть место подвигам. —
«Заочная» полемика с Горьким, автором знаменитой фразы: «В жизни… всегда есть место подвигам» («Старуха Изергиль», 1894), ставшей в СССР традиционным пропагандистским штампом. Очевидна также связь с призывом Сатина «не жалеть человека»: «Я – понимаю старика… да! Он врал… но – это из жалости к вам, черт вас возьми! Есть много людей, которые лгут из жалости к ближнему… я – знаю! я – читал! Красиво, вдохновенно, возбуждающе лгут!.. <…> Надо уважать человека! Не жалеть… не унижать его жалостью… уважать надо! Выпьем за человека…» («На дне», 1902).
Также и апелляция к Достоевскому. Вот реплика Мармеладова: «Ведь надобно же, чтобы всякому человеку хоть куда-нибудь можно было пойти. <…> ведь надобно же, чтобы у всякого человека было хоть одно такое место, где бы и его пожалели!» («Преступление и наказание», ч. 1, гл. 2); и о Раскольникове: «Он вошел на Сенную. Ему неприятно, очень неприятно было сталкиваться с народом, но он шел именно туда, где виднелось больше народу. Он бы дал все на свете, чтоб остаться одному; но он сам чувствовал, что ни одной минуты не пробудет один» (ч. 6, гл. 8).
В Ветхом Завете Давид говорит: «Услышь, Боже, молитву мою… я стенаю в горести моей, и смущаюсь от голоса врага, от притеснения нечестивого; ибо они возводят на меня беззаконие, и в гневе враждуют против меня. Сердце мое трепещет во мне, и смертные ужасы напали на меня; Страх и трепет нашел на меня, и ужас объял меня. И я сказал: „кто дал бы мне крылья, как у голубя? я улетел бы и успокоился бы; Далеко удалился бы я, и оставался в пустыне; Поспешил бы укрыться от вихря, от бури“» (Пс. 54: 2, 3–9).
6.18 C. 14. Я весь как-то сник и растерял душу. —
Розанов писал о себе: «Какой-то я весь судорожный и – жалкий. Какой-то весь растрепанный: / Последняя туча рассеянной бури… / И сам себя растрепал <…> Когда это сознаешь (т. е. ничтожество), как чувствуешь себя несчастным» («Опавшие листья», короб 1-й).
Сникает и герой Гамсуна, хватая при этом себя за горло (ср. 10.2): «Но когда я вернулся в свое жилище, в эту сумрачную дыру, весь вымокший от сырого снега, моя воинственность вдруг исчезла, и я опять сник. <…> я плакал, хватал себя за горло, дабы наказать себя за подлую выходку, и каялся» («Голод», гл. 3). У того же Гамсуна есть конкретно «как-то сник»: «Его злость прошла, он как-то сник и, уронив голову на руки, затрясся как в ознобе от беззвучных рыданий» («Мистерии», гл. 18).
6.19 C. 15. Я ведь… из Сибири, я сирота… —
Как следует из биографических сведений, писатель Венедикт Ерофеев родился в Мурманской области. В 1946 г. отец был арестован и сослан в лагерь, а мать уехала от детей в Москву, чтобы избежать нищеты и возложить материальные заботы по их воспитанию на государство, после чего будущий автор «Москвы – Петушков» оказался в детском доме города Кировска Мурманской области (Фролова Н. [О Вен. Ерофееве] // Театр. 1991. № 9. С. 74, 76); отличные от приведенных сестрой писателя сведений см. в интервью самого Ерофеева: Сумасшедшим можно быть в любое время // Континент. 1990. № 65. С. 411–412; Нечто вроде беседы с Венедиктом Ерофеевым // Театр. 1989. № 4. С. 33.
У литераторов есть схожие признания, например у Достоевского слова Раскольникова в полицейском участке: «Вникните и в мое положение… <…> Я бедный и больной студент, удрученный <…> бедностью. Я бывший студент, потому что теперь не могу содержать себя, но я получу деньги…» («Преступление и наказание», ч. 1, гл. 2); и у Евтушенко: «Откуда родом я? / Я с некой / сибирской станции Зима» («Откуда родом я?», 1957).
В оперном контексте, а также с учетом «бездомности» (см. 4.37) и «унылости» (19.4) вспоминается романс неприкаянного сироты Владимира Дубровского из оперы Эдуарда Направника «Дубровский» (1895), либретто Модеста Чайковского:
Итак, все кончено… Судьбой неумолимой
Я осужден быть сиротой…
Вчера еще имел я хлеб и кров родимый,
А завтра встречусь с нищетой!
Покину вас. Священные могилы,
Мой дом и память светлых детских лет!
Пойду, бездомный и унылый,
Путем лишений я и бед.
(д. 1, карт. 2, явл. 4)
В 1940–1950-е гг. партию Дубровского в Большом театре исполнял Иван Козловский (см. 6.3).
6.20 Все трое подхватили меня под руки и через весь зал – о, боль такого позора! – через весь зал провели меня и вытолкнули на воздух. —
Сцена соотносится с арестом Иисуса Христа в Гефсиманском саду: «Тогда подошли, и возложили руки на Иисуса, и взяли Его. <…> В тот час сказал Иисус народу: как будто на разбойника вышли вы с мечами и кольями взять Меня; каждый день с вами сидел Я, уча в храме, и вы не брали Меня» (Мф. 26: 50, 55; см. также Мк. 14: 46, 48; Лк. 22: 52; Ин. 18: 12); и с шествием Христа на Голгофу: «И плевали на Него и, взявши трость, били Его по голове. И когда насмеялись над Ним <…> повели Его на распятие» (Мф. 27: 30–31; см. также Мк. 15: 19–20; Ин. 19: 16).
У Мандельштама есть предупреждение «маленького человека» Парнока – как и Веничка, слабого, беззащитного, с щепетильным сердцем – о том, что он рано или поздно будет отторгнут от общества: «Выведут тебя когда-нибудь, Парнок, – со страшным скандалом, позорно выведут – возьмут под руки и фьюить – из симфонического зала, из общества ревнителей и любителей последнего слова, из камерного кружка стрекозиной музыки, из салона мадам Переплетник – неизвестно откуда, но выведут, ославят, осрамят…» («Египетская марка», 1927).
6.21 C. 15. О, звериный оскал бытия! —
Модификация газетного штампа «звериный оскал капитализма» (о бездушии и жестокости западных акул большого бизнеса). У Довлатова: «Майн гот! – воскликнул Рымарь. – Это же звериный оскал капитализма!» («Чемодан», 1986). Звериный оскал имели смежные капитализму колониализм и контрреволюция: «…Черные силы империализма организовали контрреволюционный мятеж в Венгрии и агрессию против Египта, еще раз показав звериный оскал колониализма и контрреволюции» (из доклада академика М. Б. Митина на торжественном заседании партийных и общественных организаций и научной общественности, посвященном 100-летию со дня рождения первого в России пропагандиста марксизма, выдающегося деятеля русского и международного рабочего движения Г. В. Плеханова. Большой театр, Москва, 11 декабря 1956 г. // Красная звезда. 1956. 12 декабря).
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?