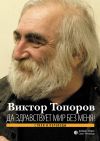Текст книги "Хроники постсоветской гуманитарной науки"
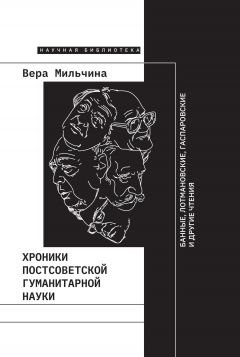
Автор книги: Вера Мильчина
Жанр: Прочая образовательная литература, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 13 (всего у книги 44 страниц) [доступный отрывок для чтения: 14 страниц]
Печальные, но не последние
XIII Лотмановские чтения
«Числа в системе культуры»
(ИВГИ РГГУ, 21–23 декабря 2005 года)[140]140
Впервые: НЛО. 2006. № 77.
[Закрыть]
Лотмановские чтения традиционно проводятся в ИВГИ с 1993 года; в этом году из почтения к «мистическому» числу 13 для очередных чтений была придумана тема «Числа в системе культуры», однако число 13 не удовлетворилось этим знаком уважения и в полной мере оправдало свою зловещую репутацию: в течение месяца с небольшим ИВГИ и вообще вся российская наука понесли три тяжелейшие утраты. Скончались Михаил Леонович Гаспаров, Владимир Николаевич Топоров и Елеазар Моисеевич Мелетинский. Не прибавляю к их именам никаких титулов, потому что в данном случае решительно не важно, кто из них был академиком, а кто нет; эти имена значат гораздо больше любого звания, титула или должности.
Проводить заседания и произносить доклады как ни в чем не бывало в подобной ситуации было бы неуместно. Поэтому весь первый день Лотмановских чтений было решено сделать «поминальным» и посвятить памяти трех ушедших от нас ученых.
Выступления первого дня конференции носили разный характер: некоторые из выступавших говорили в жанре преимущественно мемуарном, другие предлагали вниманию собравшихся научные разработки, непосредственно связанные с деятельностью того или иного из трех ученых, чьей памяти было посвящено заседание. Выступали разные люди, говорили в разном жанре, но уже самый первый текст, прозвучавший 21 декабря, – мемуарный фрагмент о Е. М. Мелетинском, присланный Вячеславом Всеволодовичем Ивановым из Лос-Анджелеса и прочитанный ученым секретарем ИВГИ Еленой Петровной Шумиловой[141]141
См.: [Иванов 2006а].
[Закрыть], задал тему, которая потом в той или иной форме повторялась едва ли не в каждом выступлении: тему борьбы хаоса и космоса, борьбы против хаоса во имя космоса, – борьбы, в которой деятельно участвовали и Гаспаров, и Мелетинский, и Топоров. Мелетинский, по словам Иванова, всю свою жизнь, всю свою жизненную энергию посвятил поискам «осмысленной связи целого»; он трепетал перед хаосом, поскольку видел его всесилие во время войны, но ни война, ни сталинские лагеря не могли истребить в нем веру в силу разума и в необходимость применения строгих методов анализа к исследованию литературы; в хаосе Мелетинский видел личного врага и очень много сделал, чтобы этого врага потеснить.
Выступление Наталии Автономовой было посвящено памяти М. Л. Гаспарова[142]142
Cм.: [Автономова 2006; Автономова 2008: 275–279].
[Закрыть]. Оно носило отчасти мемуарный характер, что не удивительно, потому что Гаспаров приходился Наталье Сергеевне троюродным дядей и она знала его так долго и так близко, как никто из присутствовавших («Приходи, я буду тебя ободрять», – говорил он ей, когда она в студенческие годы решила бросить занятия музыкой и поступить на филологический факультет). Однако родственные отношения вскоре превратились в соавторские. Точнее, по словам Натальи Сергеевны, Гаспаров, бывший неофициальным руководителем ее дипломной работы – сравнительного статистического анализа лексики сонетов Шекспира и их переводов, выполненных Маршаком, – ее руками проверял собственные гипотезы. Проверка принесла результаты, вызвавшие скандал в «благородном семействе» советской официальной науки. Работа Автономовой и Гаспарова неопровержимо доказала противоположность двух художественных систем: шекспировского барокко и маршаковского советского неоклассицизма. Такие выводы никому не были нужны: Гаспарова отстранили от подготовки собрания сочинений Маршака, а Автономовой пришлось забыть об аспирантуре филологического факультета. Однако научное сотрудничество с Гаспаровым продолжалось и после того, как она стала заниматься современной французской философией; в частности, Гаспаров был редактором – опять-таки неофициальным – ее перевода книги М. Фуко «Слова и вещи», выпущенного в 1977 году. Автономова особо подчеркнула ту помощь, какую оказал ей Гаспаров в работе над переводами таких фундаментальных произведений современной французской гуманитарной мысли, как «Словарь по психоанализу» Лапланша и Понталиса или «О грамматологии» Жака Деррида. Это принципиально важно, потому что в умах самой широкой публики укоренено мнение, что Гаспаров не любил новейшую французскую философию по той причине, что не знал ее. Мысль эта, подчеркнула Автономова, ошибочна; критические отзывы Гаспарова о Деррида и Фуко объяснялись отнюдь не плохим знакомством с их работами, а тем, что Гаспаров иначе представлял себе стратегию гуманитарного знания. В философии постмодернизма его не устраивало многое, начиная с вопиющей неточности центрального термина – «деконструкция» (для которой он полушутливо, полусерьезно предлагал выдуманную нарочно для этого случая русскую замену – «раззавязывание»). Философы, впрочем, отвечали ему взаимностью. Автономова выделила два типа неприятия статей и книг Гаспарова в их среде: одни философы, считая Гаспарова слишком приверженным строго филологическим методам, просто игнорировали его работы (при этом широко цитируя других «античников» – таких, как Лосев или Аверинцев), другие (проповедники постмодернизма) не скрывали своего раздражения. В докладе Автономовой в первый – но не в последний – раз на этих Лотмановских чтениях прозвучала отсылка к опубликованной некогда в «НЛО» дискуссии о филологии и философии[143]143
См.: НЛО. 1996. № 17.
[Закрыть], где Гаспаров защищал строгую филологическую науку от субъективного импрессионизма постмодернистской философии. Между тем – и для Автономовой это очень существенно – отношения филологии и философии совершенно необязательно должны строиться на конфликте и неприятии; все дело в том, какая филология и какая философия участвуют в диалоге; именно такой диалогический сборник, написанный сообща филологом и философом, Гаспаров и Автономова планировали выпустить – но не успели[144]144
Об этом проекте см. подробнее: [Автономова 2018].
[Закрыть].
Из троих великих ученых каждый выступавший выбирал того, кто был ему ближе в человеческом и научном плане. Сергей Бочаров говорил о В. Н. Топорове, с которым, по его признанию, постоянно сверялся в собственной деятельности[145]145
См.: [Бочаров 2007: 527–538; статья «Космос В. Н. Топорова»].
[Закрыть]. Бочаров подхватил и продолжил заданную в мемуаре Вяч. Вс. Иванова тему противостояния космоса и хаоса; назвав наследие Топорова «умственным космосом», он остановился особенно подробно на историософском аспекте этого наследия. Топоровская историософия, сказал Бочаров, растворена в корпусе текстов ученого, в его ставших легендарными бесчисленных примечаниях; так вот, одно из таких примечаний (Бочаров назвал его «шоковым») содержит упоминание о до сих пор не оплаченной цене крови в российской государственности. Именно такие прорывы к прямому высказыванию, к философствованию на грани богословия (которое, впрочем, соседствует у Топорова со строгими лингвистическими или историко-литературными анализами) и кажутся Бочарову важнейшей чертой топоровского творчества. При этом, хотя русская мысль всегда существовала и развивалась в обстановке катастрофы, для русского ученого Топорова характерна и принципиально важна «установка на благое». Сам Топоров был для тех, кто его знал и читал, нравственной опорой; не сделавший за всю свою жизнь ни одной уступки господствующему порядку, он, по словам Бочарова, представлял собою ярчайшее исключение. В отличие от создавшегося за годы существования советской власти нового антропологического типа – «советского человека», Топоров оставался (и внутренне, и даже внешне) чистейшим представителем редкого типа – человека русского.
Нина Брагинская, начав свое выступление с трагической ноты – зачем писать и произносить доклады, если нельзя представить их на суд Михаила Леоновича Гаспарова? – тем не менее произнесла блестящий доклад, посвященный менипповой сатире в понимании Бахтина и Гаспарова. Бахтин представил всю историю литературы от Платона до Достоевского как историю менипповой сатиры; Гаспаров с таким подходом был решительно не согласен и сомневался в самом существовании менипповой сатиры; Брагинская анонсировала свое выступление как попытку возразить обоим. Указав на связь бахтинской концепции мениппеи с идеями Ф. Зелинского («славянское возрождение», подробно описанное ею в специальной статье[146]146
См.: [Брагинская 2004].
[Закрыть]), докладчица показала, как, в соответствии с убеждением, что для всякой идеи нужно непременно отыскать древнего предка, Бахтин возводит романы Достоевского к менипповой сатире, которая, с точки зрения филологов-классиков, есть вообще нечто несуществующее, ибо такого наименования жанра античность не знала и впервые оно прозвучало лишь в вышедшем в самом начале XVII века латинском труде гуманиста Исаака Казобона о сатирах – первой книге по истории жанра в истории европейской литературы. Впрочем, как раз Казобону Менипп и Лукиан казались не вполне сатириками, потому что сатириком он считал того, кто высмеивает человеческие пороки и глупость с позиции добродетели и разума, Менипп же и Лукиан – чересчур большие скептики. Но именно скептицизм и выражение иррациональности человеческой жизни, именно провал и неудача автора-моралиста – те свойства, которые оказались востребованы современной постмодернистской культурой. Мениппова сатира вошла в большую силу и, как, перефразировав поэта, выразилась Брагинская, «стала жанром и общается с Богами». Впрочем, современных авторов мениппея интересует не столько как конкретный античный жанр, сколько как образец нового инструментария, предложенного Бахтиным. Бахтин «сконструировал» свою «мениппею», назвав полтора десятка признаков этого жанра, примеры которых почерпнуты из разных литературных произведений; вместе, внутри одного произведения все эти признаки не встречаются никогда, а подчас даже являются взаимоисключающими. Так вот, подобный способ описания оказался чрезвычайно востребован некоторыми направлениями современной науки, например когнитивной лингвистикой. Гаспаров видел в бахтинском конструировании несуществующего жанра пример теоретической агрессии философии против филологии и вставал на защиту этой последней. Бахтину не нужна была мениппова сатира как реальный феномен античной литературы, он не нашел ее в прошлом, но предсказал ее появление в будущем; напротив, Гаспаров отрицал ее существование, но, парадоксальным образом, сам перевел на русский язык произведение, которое Брагинская назвала идеальным образцом этого якобы несуществующего жанра, – «Жизнеописание Эзопа».
Стержнем выступления Мариэтты Чудаковой стала проблема поколений[147]147
См.: [Чудакова 2006].
[Закрыть]. Нынешнюю череду смертей («обвал поколения») она сравнила с рубежом 1960–1970‐х годов, когда после смерти К. И. Чуковского гуманитарная наука стала нести утрату за утратой: умерли В. В. Виноградов, Ю. Г. Оксман, Н. И. Конрад, В. М. Жирмунский. Уход их был особенно трагичен потому, что между этими людьми и поколением Топорова и Иванова, Бочарова и Эйдельмана (людей, родившихся на рубеже 1920–1930‐х годов) зиял провал; поколение Иванова и Топорова вступало в науку, где все официальные формы научной жизни (конференции, научные издания и пр.) контролировались представителями более старшего, «безнадежного», насквозь советского поколения (Лотман и Мелетинский, принадлежащие к нему формально, представляли собой редкие и блистательные исключения). Поэтому поколению Иванова и Топорова приходилось преодолевать громадное сопротивление. Пришедшим чуть позже – поколению Гаспарова и Аверинцева – стало уже легче; им было у кого учиться.
Михаил Реутин посвятил свое выступление В. Н. Топорову и его анализу концепции мистического языка у Майстера Экхарта; докладчика интересовало, какими методами Топоров исследовал практику языка средневекового мистика. Исходя из того, что научный дискурс не был для Топорова готовой и неизменной данностью, что для него этого дискурса не существовало до и вне предмета исследования, Реутин показал, каким образом в качестве «отмычки» к загадкам стиля Экхарта Топоров использовал традиции русского имяславия. Научная линия переплеталась в выступлении Реутина с линией мемуарной; назвав образованность Топорова средневековой, чуждой рыночным отношениям и подчеркнув его внутреннюю свободу «от пошлого и тотального социума», докладчик вспомнил о том, как работал Топоров: не имея компьютера, писал от руки, «прямо набело, как Эразм».
По преимуществу мемуарными были два следующих выступления. Георгий Кнабе, говоривший о М. Л. Гаспарове, вступил в некоторую полемику с известным и широко цитируемым высказыванием Гаспарова о самом себе во взаимоотношениях с так называемой «московско-тартуской школой»: «Мне не нужно было даже товарищей по затвору, чтобы отвести с ними душу: щель, в которую я прятался, была одноместная». Кнабе задался целью показать, что хотя Гаспаров «остерегался сентиментальности и близкого касания», он не был, тем более в период своего становления, абсолютно одинок, что у него был определенный, существенный для него круг общения, и назвал как людей, составлявших этот круг (Виктор Ярхо, Симон Маркиш), так и место, где это общение происходило, – жилище их наставницы Марии Евгеньевны Грабарь-Пассек (две комнаты с книгами и котами), в которой дворянские и простонародные элементы переплавлялись в специфическую атмосферу «интеллигентной коммуналки». О «точечной открытости» Гаспарова и о влиянии на него этой специфической атмосферы и вел речь Кнабе.
Героем мемуарных зарисовок Александра Куделина стал Е. М. Мелетинский. Особенно колоритна была история про вора, который обокрал квартиру Мелетинского, а будучи пойман и приведен милиционерами на место преступления для проведения следственного эксперимента, посетовал на то, что не успел в первый раз рассмотреть прекрасную библиотеку… и попросил у хозяина дома в подарок его книгу с надписью. В результате вор получил в подарок от Мелетинского книгу о вороне.
Виктор Живов не стал ни произносить доклад, ни делиться воспоминаниями. Всякие слова о смерти звучат слишком легковесно, сказал он, и в качестве своего вклада в тризну прочел в собственном переводе стихотворение Катулла, написанное римским поэтом после посещения могилы брата и кончающееся словами: «Братец, привет и прощай»…
Напротив, выступление Константина Поливанова представляло собой полноценный научный доклад, выполненный в жанре, который высоко ценил М. Л. Гаспаров, – жанре анализа одного стихотворения[148]148
См.: [Поливанов 2006].
[Закрыть]. Более того, по словам Поливанова (недавно выпустившего в соавторстве с Гаспаровым книгу о Пастернаке [Гаспаров, Поливанов: 2005]), этот разбор пастернаковской «Встречи» был предметом одного из последних его разговоров с Михаилом Леоновичем. Во «Встрече», и прежде всего в образе ветра из второй строфы этого пастернаковского стихотворения, Поливанов разглядел реминисценцию из поэмы Блока «Двенадцать»; родство пастернаковского ветра, который «воду рвал, как вретище», с блоковским ветром, рвущим плакат, не только бросает новый отсвет на четвертую строфу, начинающуюся со слов «автоматического блока» (Поливанов показал, что подобная игра слов у раннего Пастернака встречается не однажды), но и позволяет увидеть в фигуре «мелькавшего как бы взаправду и вдруг скрывавшегося призрака» самый неожиданный образ Христа в русской литературе.
Сергей Неклюдов говорил о Мелетинском, прежде всего о его потрясающем профессионализме, распространявшемся даже на те области науки, которыми он не занимался специально (по его репликам на заседании китаистов представители этой весьма специфической области гуманитарной науки приняли его за своего коллегу, по каким-то причинам прежде остававшегося им неизвестным)[149]149
См.: [Неклюдов 2009].
[Закрыть]. В выступлении Неклюдова снова прозвучала в полную силу тема борьбы космоса и хаоса; из хаоса Мелетинский создавал пригодную для жизни, стройную структуру. Неклюдов предположил даже существование некоторого изоморфизма между этапами жизни самого ученого и темами его научной работы: если сначала Мелетинский занимался героем волшебной сказки – сиротой, социально ущемленным и обделенным, то затем предметом его анализа стал эпос, главный персонаж которого – культурный герой, космосоустроитель. Первый этап совпал со временем личной обездоленности самого Мелетинского (его научная деятельность была, как известно, прервана арестом и отправкой в лагерь; рукопись его диссертации сохранилась лишь благодаря личной порядочности этнографа С. А. Токарева, который все то время, что Мелетинский находился в лагере, прятал ее у себя), второй – с «устроительной» деятельностью заведующего сектором фольклора в ИМЛИ и создателя научной школы. Мечта Мелетинского о вольном научном сообществе, действующем официально, в 1970‐е годы казалась совершенно неисполнимой (в эту пору семинар по изучению волшебной сказки собирался у Мелетинского на дому), однако в 1990‐е годы эта мечта исполнилась: ученый возглавил Институт высших гуманитарных исследований РГГУ. Неклюдов особенно подчеркнул рациональное и на редкость, даже на зависть спокойное отношение Мелетинского к научной традиции; обладая своего рода иммунитетом к моде, он был открыт всему новому, но никогда не шарахался из стороны в сторону и не отвергал старое только потому, что оно больше не модно.
Татьяна Скулачева рассказывала о том, что такое лингвистика стиха, которой они занимались вместе с М. Л. Гаспаровым[150]150
См.: [Гаспаров, Скулачева 2005].
[Закрыть]. Эта область науки исследует существенные черты стиха в отличие от прозы и взаимодействие лингвистических уровней внутри стиха. Лингвистика стиха изучает закономерности строения строки – единственного компонента, который присущ стиху всегда (именно деление на строки прежде всего отличает стих от прозы). Существуют особенности строения строки, общие для всех языков, и другие особенности, которые видоизменяются в зависимости от того, на каком языке написано стихотворение (например, есть языки, где большая часть слов длинные, и другие – где много коротких слов). Важно и другое: словосочетания, в которых между словами имеется тесная связь (прилагательное и существительное), располагаются в стихотворной строке ближе к границам, а те, где связь между словами слабая (подлежащее и сказуемое), – внутри строки; в прозаическом же тексте все наоборот. Но еще важнее эстетическое, внелогическое членение, которое в любом типе стиха накладывается на членение логическое; именно оно обеспечивает то специфическое воздействие стиха на читателя, которое знакомо всем, но еще совершенно не изучено. В качестве простого, но выразительного примера такого воздействия Скулачева привела известный всем с детства стишок Агнии Барто: «Идет бычок, качается, вздыхает на ходу». Поскольку деревянная игрушка, которой был посвящен этот стишок, давно снята с производства (игрушечный бычок, «дойдя» до края доски, в самом деле падал) и ее никто не помнит, вопрос о том, почему и куда падает бычок, застает читателей врасплох и ответить на него внятно никто не может. Однако воздействие стихотворной формы так сильно, что вопросом этим, собственно, никто и не задается; все воспринимают действия стихотворного бычка как должное.
Дмитрий Бак говорил преимущественно о В. Н. Топорове и его научной манере: едва ли не во всякой работе Топорова от ядра расходятся стремящиеся к бесконечности пучки приложений и комментариев; под пером Топорова все без исключения превращалось в культурный текст (не случайно именно он ввел в научный обиход понятие «петербургский текст», получившее столь широкое хождение); почти всеобъемлющая осведомленность органически сочеталась у Топорова с простодушным вниманием к жизни, индоевропейские реконструкции и реплики бабы Дуси из поселка Комарово, голдсмитовский контекст русской литературы и результаты последнего футбольного матча – ему было интересно и важно все.
Те же самые черты Топорова – сочетание высокой европейской образованности с превосходным знанием дворового фольклора, умение реконструировать и древние мифологические системы, и «петербургский текст» – были отмечены в прочитанном на заседании некрологе Топорову, написанном Вячеславом Всеволодовичем Ивановым[151]151
См.: [Иванов 2006б].
[Закрыть].
Сергей Гиндин говорил о М. Л. Гаспарове, которого знал 40 лет, о том, что Гаспаров был эталоном научной точности и добросовестности, стражем научной порядочности. При Гаспарове было стыдно заниматься словопрениями, было стыдно не знать своих предшественников; после смерти А. Д. Сахарова возникло соображение – впрочем, вполне утопическое, – что российскому обществу необходим «коллективный Сахаров»; коллективный Сахаров, разумеется, не появился и не появится, но потребность в нем есть, – и точно так же есть потребность в «коллективном Гаспарове». Нужен человек, который способен сказать, что на вопрос о русской идее он будет отвечать только после того, как ему докажут, что существует также и конголезская идея (эту мысль вскоре подхватил Г. А. Левинтон, сославшийся на Я. С. Лурье, который доводил до абсурда известную строку Тютчева, заменяя в ней «Россию» на «Уганду»: «Умом Уганду не понять…»).
По мнению Андрея Зорина, тем общим, что объединяло трех ушедших от нас великих ученых (впрочем, говорил Зорин больше о двух из них: Топорове и Гаспарове), была принципиальная невыполнимость задачи, которую они решали. Мы все, сказал Зорин, работаем с конкретными случаями и примерами, Гаспаровым же и Топоровым двигала безумная, утопическая идея описать всё. Вслед за Наталией Автономовой, подчеркнувшей связь (скрытую от читателей) Гаспарова с французской философией, Зорин указал на одну сторону этого контакта – на родство Гаспарова с французским экзистенциализмом, прежде всего с его этикой, понимаемой как героическое служение, как попытка воплотить утопию в жизнь, как стремление стоять на страже крепости, которую либо уже сдали, либо еще не построили.
Георгий Левинтон вспоминал всех троих: Мелетинского, Гаспарова, Топорова – как людей, чья эрудиция выделялась на общем фоне не только количественно, но и качественно. Многие сопоставления текстов, образов, мотивов вытекают из ограниченности нашего знания; человеку, который читал только Пушкина и Блока, ничего не стоит вывести образ ветра в «Двенадцати» из того ветра, который по морю гуляет и кораблик подгоняет, в «Сказке о царе Салтане»… Но тот, у кого в оперативной памяти вся русская поэзия, как у Гаспарова, видит связи и закономерности иначе, и то, что людям менее образованным может показаться специфическим для данного текста или данных двух текстов, предстает в его трактовке как факт самого поэтического языка.
Михаил Андреев говорил о Е. М. Мелетинском как о человеке, обладавшем способностью создавать научно-продуктивную ситуацию; не только идеи его чуждались замкнутости, «звали за собой», но и сам он умел указывать младшим коллегам новые направления для научной деятельности, которые оказывались чрезвычайно перспективны; так, самого Андреева он «выдернул» из чистой итальянистики и «заставил» заниматься исторической поэтикой романа и драмы; сходным образом Инна Матюшина из стиховеда превратилась, с легкой руки Мелетинского, в исследователя, изучающего историческую поэтику лирики.
Павел Нерлер говорил в основном о М. Л. Гаспарове как исследователе Мандельштама и о том, что внес Гаспаров в мандельштамоведение. Особенно подробно он остановился на вызвавшей в свое время резкую полемику книге Гаспарова о гражданской лирике Мандельштама 1937 года, в которой поэт показан как человек, чуждый своей эпохе не идеологически, а стилистически, и на жанре примечания-этюда, который Гаспаров разрабатывал и которым мастерски владел.
В выступлении Михаила Мейлаха разговор о личностях ушедших ученых переплетался с размышлениями об их научном методе[152]152
См.: [Мейлах 2018: 897–899].
[Закрыть]. Начал Мейлах с воспоминаний о Мелетинском; советская власть, сказал он, не ошибалась, когда обвиняла Мелетинского в космополитизме; в самом деле, друзья и коллеги у него были разбросаны по всему миру, от Бразилии до Японии; Мелетинского можно уподобить Стиве Облонскому, у которого, как пишет Толстой, знакомые легко сыскались бы и среди министров, и среди швейцаров. Мейлах, как и многие из тех, кто говорил о Мелетинском, тоже коснулся его борьбы за космос против хаоса; стоически относясь к безумию мира, Мелетинский не допускал агрессивного вторжения этого безумного мира внутрь себя. То же самое, впрочем, можно сказать и о Топорове. Мейлах вспомнил выразительный эпизод: в 1970‐е годы Мелетинский удивлялся, почему он, Мейлах, не эмигрирует; Мейлах спросил совета у Топорова; ответ Топорова был столь же мудр, сколь и уклончив: это, сказал он, решение настолько важное, что каждый следующий день будет укреплять вас в том или ином его варианте. О Топорове Мейлах говорил среди прочего как об ученом, чьи прозрения в области изучения мифологии носили глубоко поэтический характер; он создавал мифологию мифологии, творил миф об основном мире; он сам был тем поэтом, который осуществляет разъятие мира на части и воссоздание его заново. Именно на этом скрещении точного знания и поэтического чувства родилась идея петербургского текста; Топоров, признававшийся, что дома на стене у него висит карта Петербурга, которую он каждое утро в течение десяти минут рассматривает, относился к Петербургу как к живому существу; недаром он мог разглядеть в одной из петербургских рек островок, которого еще лет тридцать назад не существовало и который возник на его памяти.
На этой детали, которую соблазнительно было бы трактовать расширительно и уподобить все сказанное в первый, поминальный день некоему островку памяти, созданному совместными усилиями всех выступавших, первый день XIII Лотмановских чтений закончился.
22 и 23 декабря доклады читались одновременно в двух секциях: параллельно с фольклористской секцией А («Числа в системе культуры») работала историко-литературная секция Б («Varia»). Автор этих строк присутствовала на заседаниях второй секции; именно доклады, произнесенные там, резюмированы в отчете.
Доклад Виктора Живова назывался «Стратегии пророчества: проповедь Стефана Яворского на память Алексея Человека Божия»[153]153
См.: [Живов 2006].
[Закрыть]. Обсуждаемая в докладе проповедь была произнесена 17 марта 1712 года в московском Успенском соборе. На ее материале, а также на материале предшествующих антипетровских проповедей Стефана Яворского (в частности, проповеди на День святого Петра Митрополита, произнесенной 21 декабря 1708 года) докладчик показал, каким образом Стефан прилагал религиозный дискурс к политике. Конкретных обличений в проповедях Стефана немного; барочный стиль лишь усугубляет их смысловую неоднозначность; Стефан допускает прямую историческую актуализацию всего в двух моментах проповеди 1712 года: в упоминании о том, что Россия тщетно ждет мира, и в воспоминании о благочестивом царевиче Алексее, единственной надежде россиян. Эти два момента докладчик назвал «историческими колышками», на которые натянуто все остальное; слушатель был вправе сам применять проповедь к современной реальности или воспринимать ее как традиционный набор общих моральных сентенций. Это обеспечивало проповеднику относительную безопасность, однако столичная аудитория (субъекты истории, к которым, собственно, Стефан и обращался) восприняла проповедь Стефана именно как текст жгуче актуальный и оппозиционный; сенаторы усмотрели в ней призыв к бунту и запретили Стефану проповедовать; сходным образом воспринимал ее и Петр (судя по его пометам на полях сохранившегося списка этой проповеди). Двусмысленные обличения Стефана царь прочел как направленные против себя, и это не удивительно: проповедник словно бы задавался вопросом, кто же именно контролирует историю, царь или Бог, и ответом своим отрицал харизматические полномочия царя.
Кирилл Осповат в докладе «„Письмо о пользе стекла“: наука и поэзия при елизаветинском дворе»[154]154
См.: [Осповат 2007б].
[Закрыть] проанализировал разные контексты знаменитого стихотворного послания Ломоносова: его связь с такими, говоря современным языком, научно-популярными сочинениями, как «Ньютонианство для дам» Альгаротти или «Разговоры о множестве миров» Фонтенеля; его встроенность в систему придворного искусства (адресация к женскому полу, метонимически обозначающему светскую, придворную аудиторию в целом; использование образа «весны зимой» – сквозной метафоры, единого эмблематического мотива елизаветинского царствования); наконец, его связь с традицией высокой дидактической поэзии и переосмысление риторики язычника Лукреция в благочестивом христианском духе (опровергая тезис о кощунственности знания, Ломоносов прямо следует за Лукрецием, однако аргументы античного поэта служат ему для доказательства святости научных занятий).
Доклад Илоны Светликовой назывался «Понятие вкуса в истории интеллектуальной моды XVII–XVIII веков». Докладчицу интересовал прежде всего «вкус» в прямом, физиологическом смысле; казалось бы, этот вкус применяется отнюдь не к нравственным или интеллектуальным объектам, однако уже у Цицерона вкус определяется как суждение о еде и питье, и таким образом постепенно формируется представление о вкусе как способности суждения. Правда, в принятых с античности иерархиях чувств вкус чаще занимает низшее место, но в философии XVII–XVIII веков это понятие вдруг резко поднялось по иерархической лестнице и обосновалось на самой вершине. Докладчица предложила несколько вариантов ответа на вопрос, почему это произошло. Возможно, сыграла свою роль христианская традиция, где внутренние чувства не знают иерархии; возможно, оказал подспудное влияние латинский язык, где для обозначения «вкуса» используются два корня: gusto и sapio, так что sapere (иметь вкус) пребывает в родстве с sapientia (мудростью). Не случайно в «Диалоге простеца о мудрости» Николая Кузанского мудрость – это то, что нельзя ни увидеть, ни услышать, а можно только попробовать на вкус; более того, даже homo sapiens в классификации Линнея – это, возможно, не просто «умный» человек, но и человек «со вкусом» (даже если это слово выбрано Линнеем бессознательно, в нем живет память о собственной этимологии). Итак, по условиям языка вкус оказался близким к мудрости, и если искусство воспринимается как мудрость Бога, то вкус в таком случае представляется созерцанием этой божественной мудрости.
Доклад о вкусе вызвал оживленную дискуссию. Андрей Зорин поинтересовался, нельзя ли возвести рождение вкуса к библейскому соблазнению Адама Евой с помощью яблока, на что докладчица ответила, что эта связь осознавалась литераторами и философами XVII–XVIII веков, о чем свидетельствуют соответствующие эпиграфы из Мильтона. Кирилл Осповат предположил, что повышение статуса вкуса в иерархии можно связать с изменением роли и места еды в придворной среде. Особенно много вопросов было задано докладчице относительно употребленного ею в названии доклада понятия «мода». Зорин интересовался заказчиками и «промоутерами» этой моды (если можно ее считать таковой). Сергей Зенкин утверждал, что для таких категорий, как «вкус», термин «мода» не подходит, поскольку то, о чем говорилось в докладе, отнюдь не мода, а своего рода концептуализация внутренней жизни.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?