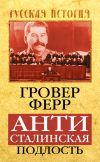Текст книги "Хроники постсоветской гуманитарной науки"
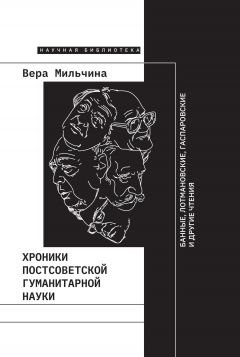
Автор книги: Вера Мильчина
Жанр: Прочая образовательная литература, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 10 (всего у книги 44 страниц) [доступный отрывок для чтения: 14 страниц]
* * *
В кулуарах была выдвинута точка зрения, согласно которой прошедшие чтения свидетельствуют о том, что все их участники, сами того не желая, а может быть даже и не замечая, переместились в пространство постмодернизма, где литературоведение уже ничем не «ведает», а создает свое собственное «письмо», где «жизнестроительные стратегии» Ахматовой важнее ее поэтической продукции, а биография писателя пишется не потому, что он был писатель, а потому, что нам интересно писать биографии. Сама я, пожалуй, сформулировала бы итоги конференции или, скорее, мысли, на которые она навела, иначе. Александр Осповат говорил в своем докладе о праве литературоведа меняться, не быть верным некоей присяге, которой с него, впрочем, никто не брал, и отыскивать новый угол зрения, тем самым, возможно, открывая (или предугадывая) новую дисциплину. Может быть, сам факт, что конференция на тему «Литература и быт» оказалась едва ли не самой яркой и бурной из всех трех устроенных журналом, доказывает, что хотя мы, разумеется, не открыли «нового поворота», но все же угадали какие-то его предвестья.
О чае и матерьях важных
Первоапрельские чтения нло
«Еда и питье в литературе»
(1 апреля 1996 года)[114]114
Впервые: 1996. № 19.
[Закрыть]
Есть сведения: не чай они там пьют…
А. и Б. Стругацкие. «Понедельник начинается в субботу»
Впрочем, пили в самом деле только чай; о нем же немало и говорили. Мероприятие, устроенное редакцией «Нового литературного обозрения», называлось «Еда и питье в литературе» и происходило 1 апреля 1996 года в Российской государственной библиотеке по искусству. Действующие лица и исполнители (по порядку появления и согласно программке).
Безалкогольные напитки – В. Курицын;
Холодные закуски – В. Мильчина;
Коктейль à la russe – М. Айзенберг и Р. Элинин;
Бульон – А. Рейтблат;
Жюльен – С. Зенкин;
Скоромное – К. Рогов;
Фирменное блюдо – А. Чудаков;
Десерт – С. Панов;
Крепкие напитки – К. Поливанов и К. Харер.
Замечательным – и, пожалуй, приятно неожиданным даже для самих устроителей мини-конференции – оказалось соотношение в ней смешного и серьезного. Задумана она была как первоапрельская шутка, поэтому когда в коротком предуведомлении Ирина Прохорова сказала, что редакция «НЛО» решила наконец отреагировать на критику, прислушаться к упрекам в несерьезности и несолидности и в «международный день серьезных людей» поговорить о фундаментальном – еде и питье, то слова эти прозвучали как фарсовое преувеличение. Меж тем о фундаментальном действительно говорили – не больше, но и не меньше, чем на устраиваемых «НЛО» вполне всерьез Банных чтениях. Смеялись, впрочем, тоже никак не меньше.
Но – к делу. Первым – необъявленным – номером программы стало самопроизвольное извержение минеральной воды из бутылки в руках у первого докладчика, вызвавшее поток оригинальных реплик типа «Пьянству – бой!» и «Процесс пошел», после чего собравшиеся приступили к слушанию доклада Вячеслава Курицына «„Москва – Петушки“ как антиалкогольное произведение»[115]115
См.: [Курицын 1996].
[Закрыть].
Вначале докладчик остановился на истории вопроса: впервые в советской печати поэма Венедикта Ерофеева была опубликована в журнале «Трезвость и культура», где многие «метафизические» фрагменты были сокращены, зато все те, что живописали гибельные последствия пьянства, – бережно сохранены. С. Чупринин в журнальном предисловии выразил надежду, что после опубликования книги Ерофеева пьяниц в России станет меньше, а В. Лакшин начал свою рецензию на «Москву – Петушки» восклицанием: «Водка – грозный бич страны!» и привел широкую статистику потребления этого напитка в литрах на душу населения. «Постмодернистская» критика долго издевалась над подобной «антиалкогольной» трактовкой, но докладчик выразил твердое намерение снова к ней вернуться. В основу своего прочтения поэмы Ерофеева Курицын положил схему, которую сам охарактеризовал следующим образом: «придумана не вчера и не кажется мне глубокой» – что, впрочем, не помешало ему преданно ей следовать. Схема эта – оппозиция между алкогольной и наркотической культурами. Первая соответствует литературе модернизма; вторая – постмодернизму. Для первой характерно активистское отношение к внешнему миру, желание его переделать (недаром Веничка, «честный пьяный модернист», устраивает революцию в одном отдельно взятом районе), пренебрежение реальным миром, внятным зрению, и предпочтение про-зрения скрытых, глубинных истин (так Веничка сквозь приемщицу стеклотары прозревает Максима Горького и остров Капри) и, наконец, утверждение цельности личности – пьющего «я». Напротив, в наркотической культуре внешний мир воспринимается как можно более подробно, во всем его вкусовом и цветовом богатстве, но на него никто не оказывает давления, не стремится его преобразовать или проникнуть в его метафизические глубины, что же касается личности, то наркотическая культура ценит не ее цельность, а, напротив, возможность существования одновременно в нескольких ипостасях. Веничка, герой поэмы Венедикта Ерофеева, не совершенно чужд и наркотической культуре, на словах он даже критикует алкогольный активизм (мечтает о стране, где не всегда есть место подвигу), однако эти наркотические интенции не могли быть адекватно выражены в жестких алкогольных формах. Интенции, однако же, имелись; если наркотическая культура основывается на невозможности определить четкие основания для какого бы то ни было высказывания (любому тезису тотчас находится опровержение; систему можно строить на любом основании, и всякая система окажется правильной), то и Венедикт Ерофеев, по свидетельствам очевидцев, обладал ярко выраженной тягой к классификации по случайным признакам: знал наизусть нормальные температуры всех диких и домашних животных, вел дневник грибника – число рыжиков, собранных в такой-то день каждого года, и проч.
Оживленная дискуссия коснулась следующих вопросов: можно ли сказать, что зеленые черти – плод алкогольной культуры, а ангелы – наркотической (Владимир Андреевич Успенский)? можно ли сказать, что Данте (судя по описаниям в его «Комедии») был представителем алкогольной культуры, а Франциск Ассизский – наркотической, причем оба находились в состоянии ремиссии, так как ни у того, ни у другого об алкоголе и наркотиках не сказано ни слова (Наталия Мазур)? Докладчик отвечал, что об ангелах все исчерпывающе объяснено в статье Михаила Эпштейна в газете «Коммерсант-Дейли», сам же он постоянно наталкивается на проблему с точкой высказывания (и, очевидно, с выяснением собственной принадлежности к той или другой культуре?). Николай Александров дал замечательную справку о происхождении выражения «напиться до зеленых чертей» – оказывается, были такие купцы братья Перловы, которые заказали себе специальные зеленые стопочки для серьезных пьянок; от них-то и пошла окраска чертей. Вячеслав Всеволодович Иванов привел некоторые выразительные детали из жизни традиционных наркотических культур: американские индейцы не могли общаться с богом без применения наркотиков, увиденное же в наркотическом состоянии каждый индеец должен был изобразить с помощью разноцветных камешков, ибо видения эти считались достоянием всего племени. Привел Вяч. Вс. Иванов и пример из жизни двух своих друзей: первый (наркоман, впрочем весьма почтенный) спрашивал второго (пьяницу): «А вы все еще водкой обходитесь?» На этой жизнеутверждающей ноте дискуссия завершилась, и аудитория перешла к потреблению холодных закусок, то есть к слушанию доклада автора этих строк «Кое-что о гурманской учтивости и гастрономическом садизме».
Доклад имел два посвящения: Ролану Барту и Сергею Зенкину. Барт был помянут оттого, что когда-то, двадцать лет назад, некоторые из присутствовавших на конференции учились на филологическом факультете МГУ и посещали научное студенческое общество (сокращенно – НСО), которое отличалось от «НЛО» средней буквой, но было с ним сходно по духу: эту официальную организацию «явочным порядком» превратили в неформальную. Так вот, в том давнем НСО автор этих строк делала некогда доклад о французском структурализме и рассказывала, среди прочего, по Барту, о семиотическом значении для французского буржуазного быта рождественской индейки с каштанами. А поскольку в НСО (еще одно важнейшее – особенно в свете описываемой конференции – отличие его от «НЛО») ничем и никогда не кормили, а время было вечернее, то у всех присутствовавших после рассказа об индейке началось бурное выделение желудочного сока; про синтагмы и парадигмы, про диахронию и синхронию все скоро забыли, зато индейку с каштанами припоминали мне очень долго. Значит, сказал бы Зенкин, в том давнем докладе проявились (но, клянусь, совершенно бессознательно) садистские склонности докладчицы. Решив продолжить в том же духе, я заключила свой доклад несколькими рецептами из французских книг начала XIX века, которые, кажется, произвели задуманное действие и вызвали в зале оживление (надеюсь, и аппетит); помянуты были «Бесподобное рагу» (два десятка птичек, каждая чуть больше предыдущей, запеченные одна в другой) и бульон от истощения сил, который «профессор гурманских наук» прописал мужу ревнивой жены, совершенно выбившемуся из сил в процессе опровержения супружеских подозрений. В самом же докладе речь шла об «Альманахе Гурманов», который выпускал в 1803–1812 годах французский литератор (и любитель поесть) Гримо де Ла Реньер, и о том, как неразрывно связана в этом альманахе сфера еды (рецепты блюд) с внешним, «несъедобным» миром[116]116
PS 2019: С тех пор «Альманах Гурманов» вышел в моем переводе отдельным изданием [Гримо 2011]; во вступительной статье развиты тезисы, впервые изложенные в докладе 1995 года; «концепция изменилась» только в одной детали: «Бесподобное рагу» при ближайшем рассмотрении оказалось «Бесподобным жарким» [Гримо 2011: 537–542].
[Закрыть]. В «Альманахе» речь идет о «гурманской империи», где есть свои, «гурманские» «нравственность, учтивость и гигиена» (цитата из подзаголовка альманаха на 1807 год), где благодарность – «не память сердца, а память желудка», где мясо, пропитывающееся при тушении ароматом трав, уподобляется посредственности, которая, общаясь с людьми остроумными, становится от этого общения любезнее и лучше, где человечество делится на две основные категории: Амфитрионов и Гостей, причем отношения между первыми и вторыми регулируются особыми законами гурманской учтивости, и где самое страшное преступление – отказаться принять приглашенных гостей и не прийти в гости, если ты приглашен. Амфитриона не может избавить от исполнения своих обязанностей ни болезнь (стол можно накрыть у постели больного), ни смерть (обед могут и должны устроить вместо него наследники), Гость же может не прийти по уважительной причине (перелом костей, тюремное заключение или смерть – но в этом случае следует представить Амфитриону заключение врача, заверенное у нотариуса, или копию свидетельства о смерти). Гурманская учтивость – утопия идеального общества (просвещенной монархии во главе с Амфитрионом), где дух братства и взаимной предупредительности воцаряется куда скорее, чем вследствие «так называемых республиканских конституций» (так, во всяком случае, полагал сочинитель «Альманаха Гурманов»).
В обсуждении блистал Владимир Андреевич Успенский, рассказавший – к вопросу о гурманстве – эпизод из их с Вячеславом Всеволодовичем Ивановым прошлого: однажды в Ленинграде они пообедали в ресторане, обнаружили, что до отъезда «Красной стрелы» остается еще часа два, которые совершенно не на что употребить, и – к изумлению официанта! – пообедали еще раз – снова по полной программе, снова (после сладкого) начав с салата и опять кончив сладким. Приведен также был афоризм Вяч. Вс., совершенно подходящий к теме конференции: «Еда есть процесс перекладывания пищи с одних тарелочек на другие». Кроме того, в прениях состоялся примечательный диалог культур: на рассказ о пиршествах баснословного начала XIX века и похвальной неумеренности наших ученых современников постмодернизм в лице художественного критика Екатерины Деготь ответил описанием некоей выставки, на которой некий художник разложил по периметру немузеефицированные огурцы и помидоры, которые вскоре стали гнить – то ли в силу своей немузеефицированности, то ли по каким-то более натуральным причинам. Мораль: каждому овощу свое время?
Под видом коктейля à la russe были представлены стихи Михаила Айзенберга, причем сам поэт не без меланхолии заметил, что отбор стихов с требуемой тематикой привел его к неутешительному выводу: еда там поминается только в качестве закуски, и притом очень скудной. В обсуждении наиболее острым был вопрос из зала касательно возможности сидеть, как было сказано в одном из прочитанных стихотворений, между тещей и деверем: ведь теща, заметили знатоки, родственница жены, деверь же – родственник мужа. Выяснилось, что сидел лирический герой, а ему все можно.
Из стихов другого поэта, выступавшего на конференции, Руслана Элинина, запомнились караси, которые «глядят сексуальные сны», и короткое стихотворение, вполне отвечающее тематике собрания:
Белого не хочется вина; красного не хочется вина.
Но, надеюсь, к вечеру пройдет.
Абрам Рейтблат, отнесенный программкой в рубрику «Бульон», рассказал о «Семантике еды в жизни и творчестве Ф. В. Булгарина»[117]117
Сокращенный вариант доклада см. во вступительной заметке к: [Булгарин 1996].
[Закрыть]. В творчестве случались пассажи вполне аппетитные, как то «пирог с рыбою, в котором могла бы выспаться сама хозяйка» (ну очень большой!) и «холодное, которое надлежало разогреть», для чего – не без успеха – прибегнули к наливкам. Случались и вещи, которые, пожалуй, возмутили бы современных феминисток и борцов за права: в доме идеального помещика Россиянинова за столом всем налили вкуснейшей наливки – за исключением детей и дам! Булгарин писал о гастрономии не только в романах, но и в публицистике – например, в созданном им журнале «Эконом» (замечу, что в булгаринской фразе «ресторация Леграна в своем деле то же, что Вольтер и Ривароль во французском языке» различимы следы риторической традиции, в которой полвека раньше сочинял свой «Альманах Гурманов» герой предыдущего доклада). Но гораздо колоритнее оказались примеры из жизни Булгарина и описывающего ее эпистолярия; всеобщий восторг вызвало письмо Фаддея Венедиктовича к его младшему сотруднику Алексею Николаевичу Гречу: справляясь у адресата, здоров ли он после вчерашнего обеда, Булгарин сообщал, что сам не только не здоров, но даже ночью «по уши обкакался», так что пришлось вставать и мыться, но, впрочем, тотчас переходит в письме к делам и обсуждает возможность напечатания в «Северной пчеле» некоей статьи (конечно, поместим, «надо только врезаться»). Булгарина гурманство до добра не довело: за несколько лет до смерти доктор вообще запретил ему есть вне дома даже тарелку супа. Однако докладчик не впал в ненужный ригоризм и не вывел из доклада примитивную мораль, что, мол, лучше быть метафизиком, чем обжорой, тем более что, как он сам тонко заметил, случались в истории и метафизики-гурманы, к числу коих, например, принадлежал В. Ф. Одоевский, сочинитель не только «Русских ночей», но и кулинарных фельетонов (впрочем, под псевдонимом).
Дискуссия завязалась вокруг двух моментов: 1) точно Булгарин описывал в «Димитрии Самозванце» польскую еду или неточно? 2) брал Булгарин у русских рестораторов взятки за похвалы в выпускаемой им газете или не брал? По первому вопросу было решено, что польская кухня чрезвычайно своеобразна (хотя при этом и очень близка еврейской), так что ее ни с чем не спутаешь, а письменных источников касательно XVII века у поляков было предостаточно, и пользоваться ими Булгарин умел. По второму – что взяток Булгарин не брал, а просто писал о тех, кто кормил его бесплатно, куда лучше, чем о тех, кто брал с него деньги. По ходу разговора было высказано несколько ярких соображений: Николай Александров напомнил о своеобразных кулинарных вкусах русского литератора Николая Кетчера, который больше всего на свете любил две вещи: мороженое и ветчину, именно в таком порядке, друг же его Герцен говорил по этому поводу, что он поступает совершенно правильно: сначала кладет лед в погреб, а затем загружает туда провизию; Сергей Панов восхитился проницательностью Пушкина, который задолго до того прискорбного события, что приключилось с Булгариным после совместного обеда с младшим Гречем, написал в своей знаменитой эпиграмме: «…иль в Булгарина наступишь» – и, как всегда, оказался прав.
Кроме того, прозаик Андрей Дмитриев предложил редакции ценный почин: составить показательное меню и пригласить поэтов (а то и прозаиков) описать его в порядке соревнования – у кого аппетитнее выйдет (от себя замечу, что надо бы еще изобрести какую-то машинку для замера слюноотделения у читателей – иначе где взять объективные критерии?).
После перерыва, во время которого пирожки и булочки отчасти успокоили томление страстей и желудков, наступила пора «жюльена». Впрочем, доклад Сергея Зенкина был посвящен не этому, а другому иностранному блюду – наследию Ролана Барта – и носил название «Ролан Барт – семиофаг»[118]118
См.: [Зенкин 1998].
[Закрыть] (то бишь пожиратель знаков, но не буквоед, как предположил один из слушателей).
Речь шла об отношении Ролана Барта к знаковой стороне еды; за академической бесстрастностью ученого докладчик различил невротическое отношение ко всем окультуренным областям человеческой деятельности. Барт сознавал, что сфера пищи, еды – равно как и другие «бытовые» сферы человеческой жизни – предельно мифологизирована, «заражена» знаковостью. Если он при этом никогда не употреблял слова «инфекция», то лишь потому, что во французской культуре, в отличие, например от американской, вообще очень мало развито представление о том, что какие-то продукты, если они доброкачественные, могут быть вредны по причине, например, наличия в них холестерина или какой-нибудь иной пакости. Та «зараженность» пищи, которую столь остро ощущал Барт, – это зараженность съедобных продуктов не природными, а культурными явлениями. Эту мысль докладчик, вслед за Бартом, пояснил на примере «мифологии вина»: вино, писал Барт, используется во французской культуре не по прямому назначению, не как конверсивная субстанция, которая из всех вещей извлекает их противоположность, но как средство, по сути дела, антинаркотическое – лишь для оживления застольной беседы, но ни в коем случае не для отрыва ее от реальности. Вино, пишет Барт в «Мифологиях», объективно вкусно, но «вкусность» вина есть миф, который как раз и изучает мифолог, чей предмет – вторичные, ложные смыслы. Здесь докладчик сделал весьма уместное отступление в область отечественной культурно-питейной традиции, которое затем породило долгую и оживленную дискуссию; в русской культуре про водку можно сказать все что угодно, кроме того, что она вкусная; куда более адекватна ей похвала – «чистая» или «хорошо идет» (фраза, которую докладчик определил как «постпозитивную часть тоста» и «магическую формулу»). Мифом par excellence Барт считал «орнаментальную кулинарию», представленную, например, в женском журнале «Еllе»; в таких блюдах главное – преображение исходного пищевого сырья до неузнаваемости; этому служит культура внешнего покрытия. Плотный «бесшовный» внешний слой (соуса, глазури и проч.) роднит, по Барту, описываемые блюда с летающими тарелками или хитоном Христа, указывая на сакральное происхождение предмета; при разглядывании таких кулинарных картинок происходит некая евхаристия вприглядку, вкушание тотема. Альтернативу европейской кухне Барт видел в кухне японской, своеобразие которой он осознал, лишь побывав в Японии, ибо в 60‐е годы японских ресторанов в Париже не было (тезис, вызвавший искреннее удивление части аудитории, очевидно полагавшей, что Париж – такая земля, где от веку все установилось раз и навсегда и пребывает без перемен). Японская кухня пленила Барта тем, что не знает покрытия, состоит из фрагментов, готовится прямо на глазах у клиента. Если европейское блюдо для Барта – труп, убиенное и набальзамированное тело, то в японской кухне (с ее традицией употребления в пищу сырых продуктов) идея убиения исходного продукта нейтрализуется (не случайно европейским ножу и вилке, которые вонзаются в продукт и калечат его, противостоят в Японии палочки). А когда японский повар прямо на наших глазах убивает заказанного нами угря, он совершает жертвоприношение, искупающее наше дальнейшее поедание этого самого угря. Наконец, еще одно достоинство японской кухни, как ее увидел Барт: если в Европе поедание разных блюд происходит в строго установленном порядке, по протоколу, то в Японии этой, по сути дела, репрессивной культуре (нам навязывают стереотипы поведения) противопоставлена относительная свобода комбинации разных блюд и даже их элементов.
Зенкин закончил доклад цитатой из одной автобиографической статьи Барта, содержащей выразительное кулинарное сравнение: Людовик XVIII требовал, чтобы для него жарили сразу несколько бифштексов, положенных один на другой, но подавали бы ему только самый нижний, пропитавшийся соком всех остальных; с этим бифштексом, веществом одновременно фильтрующим и фильтруемым, и сравнил себя сам Барт, в чем докладчик увидел выражение его мечты о бессмертии.
Дискуссия коснулась двух вопросов: во-первых, как уже было сказано, вопроса о вкусности и/или невкусности водки; во-вторых, строгой очередности или одновременности подачи потребителю предметов его потребления. Горячим сторонником тезиса о том, что водка вкусная, выступил Андрей Немзер, проиллюстрировавший свою мысль богатейшим автобиографическим материалом (от себя замечу, что, на мой взгляд, он напрасно защищал водку от докладчика: тот и не утверждал, что она «невкусная», а говорил лишь, что она «не вкусная» – дьявольская разница!). В качестве третейского судьи был использован Александр Осповат, появившийся в этот самый момент и уверенно объявивший, что вкусной водку называть нельзя, ибо любим мы ее, безусловно, не за это. По поводу очередности замечательно высказался Сергей Панов, напомнивший, что идея выбора чужда русским традициям, вследствие чего на Первом съезде народных депутатов машинка для голосования с тремя кнопками («за», «против» и «воздержался») была отвергнута как слишком сложная, непостижимая уму депутатов и заменена машинкой об одной кнопке, используемой последовательно для голосования по вышеуказанным трем позициям.
Кирилл Рогов (анонсированный под рубрикой «Скоромное») начал свой доклад «Пьяный корабль Петра Первого» с автобиографического признания: «Интереснее было бы говорить не о том, о чем я объявил; я честно пошел в Ленинку, чтобы там списать про всякие блюда, но голодные спазмы в желудке помешали». Впрочем, фигурировали в докладе и блюда, в основном же подзаголовком к нему можно было бы поставить «Их нравы». Речь шла о нравах при дворе Петра Первого, о том, каким образом Петр (по замечанию докладчика, сам не большой любитель того, что делал, и, в частности, не большой гурман, охотно ограничивавший свое меню, особенно в первой половине жизни, просто кашей) насаждал среди своих подданных новую – весьма своеобразную – «столовую учтивость» и культуру вакханалий. «Всепьянейшие соборы» происходили у Петра, в сущности, едва ли не каждый день; пьянки со всеми их малоаппетитными последствиями служили, к ужасу иностранных дипломатов, «нейтральным» фоном общения с царем. Петру, культивировавшему всяческую монструозность, любые излишества (применительно не к себе, а к окружающим) были только в радость; он, например, получал огромное удовольствие, запихивая в рот одному из подданных нелюбимую им пищу (салат и уксус) – а то и любимую (желе), но в таких количествах, каких нормальный организм вынести не может. Пир Петра Первого происходил так: пол устилали сеном, гостей спаивали с особым усердием (подливая, например, в венгерское крепкое водку), Петр в середине пира уходил отдохнуть, но у дверей выставлял стражу, так что уйти никто не мог, даже по естественной нужде (для того и сено!), гости напивались до полного бесчувствия, а Петр, отдохнув, приходил проверить, как обстоят дела. Любопытно, что, в отличие от идеального помещика Россиянинова (см. доклад Рейтблата), женщин Петр не дискриминировал: они пировали в отдельном помещении, но по царскому приказу пили также весьма активно.
«Зачем же все это нужно было Петру?» – осведомился у докладчика Александр Осповат. Порешили, что вакханалии являлись своего рода разновидностью кунсткамеры и что главным мотивом действий царя был просветительский интерес – желание узнать, что человек может и чего не может. Из того же просветительского интереса Петр собственноручно рубил головы – интересно ведь, как это все устроено. По поводу продолжительности петровских пиров с очень интересной репликой-дополнением выступила Раиса Кирсанова: в петровское время если дама садилась, то шлейф ее платья клали на другой стул, и встать она самостоятельно уже не могла. В таких условиях жили не спеша.
Александр Чудаков, предъявленный в качестве фирменного блюда, произнес доклад под скромным, но емким названием «Еда в русской литературе». Основной вывод, к которому пришел докладчик, заключался вот в чем: по-видимому, литература традиционная, реалистическая, литература спокойных, «застойных» эпох говорит о еде очень мало; напротив, литература эпох кризисных – тех эпох, когда в литературе верх берет условная форма, – говорит о еде много и охотно. Например, в постмодернистском тумане если что и вырисовывается ясно и четко, так это как раз описания разнообразных блюд.
Этот основной тезис докладчика был уточнен Андреем Немзером, который обратил внимание аудитории на те «экзотические» отрасли литературы, где еды всегда навалом, – исторический роман или советский антикапиталистический памфлет (в историческом романе, сказал Немзер, вообще было до определенной степени разрешено все то, что в «нормальных» советских романах не поощрялось и даже возбранялось: еда, насилие, секс). Владимир Андреевич Успенский уточнил; можно было изображать процесс приготовления еды, но нельзя – ее потребления (точно так же, как можно было изображать рождение ребенка и даже беременность, но уж никак не то, что им предшествовало).
«Десертный» Сергей Панов начал свое выступление в жанре «виртуального доклада» (термин мой): времени нет, и доклада тоже нет, поэтому я скажу лишь то, о чем должно было быть в докладе. И сказал, на мой взгляд, чрезвычайно содержательно. Назывался доклад «Питийственность карамзинистов», причем питийственность, подчеркнул Панов, – это совсем не то, что вы думаете, ибо карамзинисты пили в основном и прежде всего кофе и чай. Впрочем, кофе в докладе (и в быту карамзинистов) как-то быстро ушло – или ушел? – на второй план, будучи полностью заслонено и оттеснено чаем (противопоставление кофе как взбадривающего напитка чаю как напитку расслабляющему в эту эпоху актуальным не было). В русскую культуру, сказал Панов, чай и кофе внесли именно карамзинисты. Не случайно Карамзин еще в журнале Новикова «Детское чтение» опубликовал два перевода с немецкого: «Кофе» и «Чай»; друг его юности Петров не оценил глубины замысла и удивился в письме: зачем, мол, пишешь о такой ерунде? Но Карамзин знал, что делает. От него эстафету перенял его друг и последователь И. И. Дмитриев, угощавший гостей замечательным чаем, гости же, сами известные карамзинисты, из коих первый – князь Шаликов, прихлебывали чай и восклицали: «Нектар, амброзия!» «Записки в стихах» В. Л. Пушкина, изданные после его смерти тем же Шаликовым, изобилуют разными «чайными» мотивами, как то: «На этих днях в семье твоей явлюся к чаю», «Китайский нектар пить», «В семь часов я буду к чаю, жди меня, любезный мой» и проч. Итак, питье чая для карамзиниста – поведение знаковое; настоящий карамзинист должен хвалить Карамзина, быть добрым человеком и пить много чаю; лишь в этом случае можно будет утверждать, что он проводит время культурно. Любопытна роль чая в карамзинистской сюжетике: сентиментальная повесть чая не знает, так как в эталонное произведение – «Бедную Лизу» – этот мотив не вошел (Лиза с матушкой чаю не пьют…). Зато в сентиментальном путешествии стоит повествователю отправиться в дорогу, как он тотчас встречает какого-нибудь любителя (или любительницу) чая. Увы, следующее поколение не разделило пристрастий старших карамзинистов: «арзамасцы» изменили чаю и стали пить «всякую алкогольную гадость» (дословное выражение докладчика, авторство которого он любезно приписал Олегу Проскурину); что уж говорить о рецензенте «Северной пчелы», который вообще о книге В. Л. Пушкина, изданной Шаликовым (см. выше), отозвался так: толку нет, а видно, что писано большим поклонником чая. Вот обо всем этом, заключил Панов свой доклад, я и думал рассказать.
По ходу обсуждения выяснилось, что самовар изобрели татары, что в 1812 году в Москву пришли французы, а крестьяне по такому случаю утащили из брошенных господских усадеб в свои деревни стулья и запасы чая, что чай в начале XIX века еще не лишился флера аристократизма, а кое-где (но, наверное, не в России) воспринимался как наркотик или, во всяком случае, говоря словами Бальзака, как «возбуждающее средство», что в русской литературе второй половины XIX века чай выступал в роли напитка сугубо метафизического («Миру ли провалиться или мне чаю не пить?») и пошло это все с Достоевского (сказал Евгений Шкловский, а Ольга Майорова уточнила – с В. Ф. Одоевского), и, наконец (сказал Леонид Кацис), что в ЛЕФе тоже демонстративно пили только чай, а об водке ни полслова – подражали, стало быть, старшим карамзинистам?
Эгоистически используя право хроникера высказывать мысли, пришедшие задним числом, «на лестнице», предложу Панову вариант интерпретации изложенных им фактов. В «Трактате о современных возбуждающих средствах» (1839) Бальзак рассказывает о трех англичанах, приговоренных к повешению, которые ради продления жизни согласились, в целях научного эксперимента, питаться сколько хватит сил только шоколадом, только кофе или только чаем. Хуже всего пришлось тому, кто выбрал шоколад: он умер через восемь месяцев, изъеденный червями. Любитель кофе протянул два года и сгорел заживо. Победителем, разумеется, оказался поклонник чая: он прожил целых три года и стал таким прозрачным, что «филантроп мог поставить лампу позади него и читать газету „Таймс“». Как не увидеть здесь указания на исключительную тонкость карамзинского психологизма, позволяющего заглянуть глубоко в душу герою, и на бессмертие карамзинских идей, вспоенных чаем, а не каким-нибудь там шоколадом?!
Последний доклад оказался куда более виртуальным, чем все предыдущие вместе взятые, что, учитывая позднее время, было донельзя гуманно. Докладчики, Константин Поливанов и Клаус Харер, обозначили свою тему как «Виски в русской литературе» и предложили аудитории ряд примеров из русской поэзии от Пушкина до А. Белого и Б. Пастернака, где о виски не говорится ровно ничего, но могло быть сказано кое-что и даже было сказано – в первых, рукописных вариантах, которые все хранятся в семейном архиве К. Поливанова, но по известным обстоятельствам личного характера не были обнаружены ко дню конференции. Однако же докладчики отчетливо помнят, что в рукописях повсюду стояло – виски. Аудитория подхватила добрый почин и стала радостно предлагать докладчикам многочисленные примеры «виртуального виски». Нерешенным остался вопрос, какая из поэм Маяковского в большей степени посвящена виски – «Про это» или «Хорошо!», а также вопрос о субституте виски: для водки «субститут» – чай («чай не водка, – гласит устами Осповата народная мудрость, – много не выпьешь»), для коньяка – кофе, а для виски? Неужели пепси?
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?