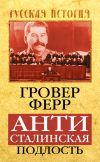Текст книги "Хроники постсоветской гуманитарной науки"
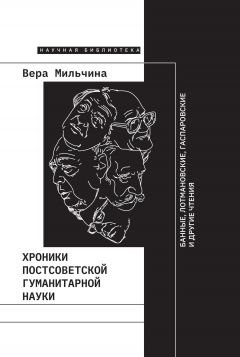
Автор книги: Вера Мильчина
Жанр: Прочая образовательная литература, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 7 (всего у книги 44 страниц) [доступный отрывок для чтения: 14 страниц]
7) Елизавета Пастернак. «Из истории славянофильского сватовства». Эпизод из жизни К. С. Аксакова, забытый исследователями: в 1852 году Аксаков сделал предложение Софье Петровне Бестужевой, мать которой, Прасковья Михайловна, урожденная Языкова, приходилась сестрой жене Хомякова, скончавшейся незадолго до описываемых событий. Таким образом, предполагаемая невеста, хоть и жила не в Москве, была – по родственной линии – достаточно близка к кругу московских славянофилов, однако ж родители ее не согласились выдать дочь за Аксакова и ответили отказом, причем довольно грубым. Аксаковы и Хомяковы еще целых полгода не теряли надежды уговорить строптивых Бестужевых, но дело кончилось ничем. Докладчица чрезвычайно выразительно прочла вслух неопубликованные письма несостоявшейся невесты (жалостливые).
Вопрос Александра Осповата: так что же все-таки было в этом сватовстве славянофильского? Ответ докладчицы: да у меня доклад назывался поскромнее, «славянофильское сватовство» – это мне Панов вписал. (Очевидно, вписывание это стоило Сергею Панову стольких нравственных усилий, что он, к великому сожалению, уклонился от чтения собственного доклада.) Реплика Осповата: а между тем на основании этой истории довольно легко показать, как и в области «семьи и брака» теория у славянофилов расходилась с практикой; теория исходила из того, что именно брак – основа патриархального быта, практика являла убежденного холостяка Самарина и неудачливого жениха Константина Аксакова…
8) Александр Долинин. «Друзья и недруги Набокова в романе „Дар“»[85]85
Многолетние занятия А. Долинина набоковским романом завершились в конце 2018 года выходом 600-страничного комментария к нему; см.: [Долинин 2019].
[Закрыть]. Многообразное обыгрывание в «Даре» мотива ключа – от реальных ключей, забываемых в квартире, до омонимического «ключа в Тибете», и ко всему этому следует добавить еще одно употребление: по жанру «Дар» – едва ли не единственный в творчестве Набокова, да и вообще в эмигрантской прозе, «роман с ключом». «Дар» как злободневный роман, полный микропародий (критик Мортус – Адамович; миротворец Алданов тревожился: даже машинистка узнала в нем реальный прототип). Самоубийство Яши Чернышевского как трансформация двух реальных историй: Алексея Френкеля, застрелившегося в 1927 году в Берлине, в Грюнвальдском лесу, и поэта Бориса Поплавского. Полемика Набокова в «Даре» с литераторами из группы «Числа» (Адамович, Оцуп, Поплавский) с их установкой на «антикультурность», «чувство бездны» и «тягу к смерти». Полемика с теми из современников, кто считал, что в эмиграции писать нельзя, что удел поэта в эмиграции – импотенция, творческая немота. По Набокову же, любая литература есть эмиграция, то есть чудное одиночество. Еще о прототипах: с легкой руки Нины Берберовой все узнают в набоковском Кончееве Ходасевича, забывая, что в романе подчеркнуто: Кончеев молод, начал печататься в эмиграции, не приемлет «петербургского стиля» (характеристики, совершенно не подходящие для Ходасевича). Слова о «темной музыке» кончеевского стиха и процитированные в романе две его стихотворные строки отсылают скорее к Борису Поплавскому или к молодым последователям Ходасевича.
9) Борис Дубин. «Литературный стеб и современные литературные нравы»[86]86
См.: [Дубин 2017]. В примечании к позднейшей публикации этого доклада в виде статьи Борис Владимирович благодарит меня за подсказанную ему формулировку для определения интонации стеба: «„ролевое извинение“ – то есть извинение перед собой и себе подобными за ту или иную, любую из все-таки пассивно принятых на себя, поневоле и с отвращением, ролей» [Дубин 2017: 735]. Я этой подсказки не помню и подозреваю, что Борис Владимирович придал моим словам гораздо более концептуальный вид, чем они имели изначально, но все равно такое цитирование мне чрезвычайно лестно.
[Закрыть]. Посвящается памяти Сергея Шведова. Доклад, пробудивший и возбудивший всех, вне зависимости от предмета литературных интересов. Попытка объяснить источники новой культурной формулы, появившейся года два назад в газете «Коммерсантъ» и скоро прижившейся на страницах других изданий; имеется в виду тотальное, на грани скандала, снижение предмета разговора через сведение его к другим контекстам (один из многих примеров – заголовок статьи о «Списке Шиндлера» в газете «Сегодня»: «Дед Мазай и Зальцы»). Крайняя агрессивность этой формы (своего рода словесный мордобой). Ее преимущественная приуроченность к разговору о большой политике; «цитатные» хулиганские заглавия особенно часты в политических колонках. В чем причины чрезвычайного успеха формулы? Может быть, все дело во внутреннем взрыве самоопределения: раньше те, кто сейчас работает в газетах, развивали свои концепции на кухнях и в курилках, посмеиваясь над властью. Теперь они сами оказались у власти, но не желают видеть себя в роли дающих установки и промывающих мозги, и этот внутренний ролевой конфликт приводит к словесной агрессии против самих себя: «Я это говорю, но я этого и не говорю, я это же отрицаю своим ерничеством». С помощью «стеба» производится дистанцирование от моделей, предопределенных сферой массовых коммуникаций.
Реплика автора этого отчета (прагматическая): а не в том ли дело, что всегда, во все эпохи газетный язык присваивал себе чужие словесные клише и с разной степенью тупо– или остроумия их обыгрывал?
10) Кирилл Постоутенко. «С. П. Бобров: „Odi et аmо“». Сергей Бобров как литератор, постоянно противоречивший самому себе: шлет в подарок М. Гершензону свою книгу «Новое о стихосложении Пушкина» (1915), завернув ее в страницу гранок некоего антисемитского издания (Гершензон отмечает это в своем ответе на подарок и меланхолически добавляет: «А я ведь и сам еврей»), и почти тотчас же в работе «Северянин и русская критика» (1916) вступает в полемику с исследователями, которые объясняют все в литературе «инородческим» засилием. Бобров как мистификатор, заморочивший голову известному пушкинисту Лернеру: в 1918 году он посылает Лернеру продолжение стихотворения «Когда владыка ассирийский…» от имени некоего инженера-электрика Зурова, который видел эта стихи у дряхлой старухи-кухарки, но старуха умерла, а дом сгорел… Письмо пришло из Харькова в Петербург 1 апреля (точно по расчету), но Лернер всему поверил и предал «новонайденные стихи Пушкина» тиснению. Для Боброва этот розыгрыш (в котором он долго не признавался – даже в личных письмах к Венгерову) не был просто шуткой, далекой от его профессиональных интересов; в это же самое время он работал над текстологической подготовкой пушкинской «Гавриилиады», причем его «Гавриилиаду» специалисты считают лучшим из всех тогдашних изданий. Мистификации, сложная система псевдонимов, розыгрыши – все это плод боязни Боброва стать заложником одной идеи, сложная стратегия расподобления собственной личности.
ДЕНЬ ВТОРОЙ
11) Карен Эванс-Ромейн. «Пастернак и С. Бобров»[87]87
См.: [Эванс-Ромейн 1997].
[Закрыть]. Чрезвычайно тонкий – и потому совершенно не воспроизводимый топорными средствами тезисной хроники – интертекстуальный анализ «поэтического разговора» между Пастернаком и Бобровым. Методы цитирования друг друга (Бобров цитирует Пастернака, упрощая, Пастернак Боброва – усложняя).
12) Александр Жолковский. «Еще раз о связях М. Булгакова с Достоевским»[88]88
См.: [Жолковский 1995б].
[Закрыть]. Семь доказательств литературного родства героя «Собачьего сердца» (Шарикова) с героем «Братьев Карамазовых» (Смердяковым).
I. Низкое происхождение (незаконность, «животность»); характерно, что и пес Шарик тоже намекает на свое незаконное происхождение («бабушка согрешила с сенбернаром»). Реплика о Смердякове – «дракон, из банной мокроты завелся». Роднящие двух персонажей гонения на котов (Смердяков любил их вешать, отношение к ним Шарикова в комментариях не нуждается).
II. Культура: пошлость соответствующих претензий обоих персонажей; сходство «теологических» софизмов Смердякова с лозунгом Шарикова («взять все и поделить»).
III. Идеология: отношение к военной службе («белый билет» Шарикова и Смердяков, ратующий за уничтожение всех солдат; роднящая обоих трусость). Оправдание собственного аморализма: Смердяков «не просил» его рожать, Шариков не просил ему операцию делать.
IV. Расстановка сил в романах: соотношение Федор Павлович/Иван близко к соотношению Преображенский/Швондер (противоборствующие «наставники» соответственно Смердякова и Шарикова). Близки по функциям слуга Григорий и доктор Борменталь (помощники в воспитании); Федор Павлович запрещает Григорию подвергать Смердякова телесным наказаниям – точно такие же указания дает Преображенский Борменталю. Двойничество Смердяков/Федор Павлович – Шариков/Преображенский (по слову Шарикова, «профессор весь в меня»).
V. Имена: Смердякова зовут Павлом Федоровичем (инверсированный Федор Павлович Карамазов), Шариков, принимая имя Полиграфа Полиграфовича, как бы пародирует имя-отчество Преображенского: Филипп Филиппович.
VI. Прочие детали: упоминание крючьев у Булгакова и у Достоевского (в дискуссии Федора Павловича с Алешей о крючьях на том свете); парафраза логики Великого инквизитора в рассуждениях Шарика: «я – барский пес, да и что такое воля?»
VII. Еще прочие детали, уже не из «Собачьего сердца»: знаменитая фраза о том, что в Москве чего ни хватишься, ничего нет, восходит к беседе Федора Павловича с Алешей и Иваном о бессмертии и черте, где так же многообразно обыгрывается идея, что «ничего нет», и это лишний раз доказывает, что глава «За коньячком» явилась объектом пристального внимания Булгакова.
13) Николай Богомолов. «Ходасевич в литературных кругах Москвы и Петрограда»[89]89
См.: [Богомолов 1996].
[Закрыть]. Установление различий между вехами литературных знакомств Ходасевича, как он сам их расставил в своих мемуарах и как они видятся современному исследователю. Один из примеров – отношения с Брюсовым. Если судить по мемуарам Ходасевича, двух поэтов связывала теснейшая дружба. Однако сам Ходасевич даже писем брюсовских не сохранил, Брюсов же о Ходасевиче отзывался крайне редко и скупо. Сравнительный анализ московского и петроградского периодов жизни и творчества Ходасевича: Москва была свидетельницей литературного становления Ходасевича, поэтому он не мог занять в ее литературной жизни центральное место; переехав в Петроград, Ходасевич совершил рывок в новое измерение: петроградские слушатели воспринимали его стихи как откровение, на московскую же реальность Ходасевич теперь смотрел свысока, а московские знакомые фиксировали в мемуарах скверные черты его характера.
14) Хенрик Баран. «Якобсон в кругу учеников». Рассказ о профессорской карьере Р. О. Якобсона, которая была весьма непростой: первое постоянное место Якобсон получил лишь в 1937 году, но в Европе особенных возможностей иметь учеников у него не было. В США его встретили только лингвисты, и, как ему показалось, встретили враждебно. Первое поколение учеников Якобсона – плод его преподавательской деятельности на кафедре славистики Колумбийского университета (куда его приняли в 1946 году). Однако в этом университете он оставался недолго и в 1949 году перешел в Гарвард, захватив с собою двенадцать лучших аспирантов, что в Колумбийском университете, естественно, сочли беспрецедентной кражей. Одновременно с преподаванием в Гарварде Якобсон с начала 1950‐х годов был профессором Массачусетского технологического института; готовя в первом литературоведов, а во втором – лингвистов, Якобсон оказался «дедушкой» почти всех американских славистов, которые нередко втягивали его в свои непростые взаимоотношения. Характерный эпизод – дискуссия о книге американского слависта Эдварда Станкевича «Склонение и градация русских существительных» (1968). В 1969 году другой славист, Майкл Шапиро, отозвался на эту книгу разгромной рецензией в журнале «Language». Завершилась полемика в 1971 году публикацией в журнале «International Journal of Slavic Linguistics and Poetics» целых трех тестов: ответа (на 16 страницах) Станкевича на статью Шапиро (что в принципе в Америке не практикуется: отклики на рецензии не печатаются, а если печатаются, то уж во всяком случае в том же самом издании, где была напечатана сама рецензия), ответ Шапиро (тоже на 16 страницах) и обобщающая и отвечающая обоим статья Якобсона, в которой мэтр выбранил «Майкла Шапиро с его небольшим научным багажом» за некорректную полемику и тем продемонстрировал некоторое охранительство: по своим теоретическим структуралистским взглядам Шапиро был Якобсону куда ближе, чем Станкевич (реплика Александра Жолковского: «более Якобсон, чем сам Якобсон»), но блестящий теоретик имел неосторожность в своей статье задеть Е. Куриловича, ученого из поколения Якобсона, и Роман Осипович вступился «за своих».
15) Ада Колганова. «Два поэта русской эмиграции: известный и неизвестный». Известный поэт – С. К. Маковский, неизвестный – Михаил Адольфович Форштетер, язвительный эмигрант первой волны, зарабатывавший на жизнь переводами (в ООН, в люксембургском концерне «Сталь и уголь»), чуждавшийся крикливых заверений в любви к России и втайне сочинявший стихи, в которых продолжал традиции И. Анненского и акмеистов. Их-то после его смерти, в 1960 году, и издал друг Форштетера Маковский.
16) Ольга Майорова. «Диалог мнимых врагов (Лесков и Леонтьев)»[90]90
См.: [Майорова 1994а; Майорова 1994б; Майорова 1995].
[Закрыть]. Анализ несостоявшегося диалога: Лесков выступил против брошюры Леонтьева «Наши новые христиане», а Леонтьев, хотя критику Лескова безусловно читал, на нее не ответил, так что замечания Лескова (например, о надуманности леонтьевского воцерковления) остались неопровергнутыми. Дело, однако, в том, что отношения двух авторов были намного сложнее: Лесков спорил в первую очередь не с Леонтьевым, а – через его голову – с Победоносцевым (употребив дважды в своем тексте слово «победоносный», Лесков намекал, что статьи Леонтьева инспирированы Победоносцевым). С другой стороны, Леонтьеву очень нравился Лесков, но не «либерального» периода (80‐х годов), а Лесков 70‐х годов – нравился настолько, что он уже после бранных статей Лескова похвалил повесть «Запечатленный ангел», иначе говоря, почувствовал глубинное родство с Лесковым, чей либерализм расценивал как наносный, если не конъюнктурный. Вдобавок имелись у двух авторов и сходные особенности бытового поведения: оба демонстрировали склонность к жизнетворчеству (что во второй половине XIX века было редкостью).
17) Галина Зыкова. «Пушкин и Шевырев»[91]91
См.: [Зыкова, 1996; Зыкова 1999].
[Закрыть]. Эволюция отношения Шевырева к Пушкину: в 1841 году Шевырев восхищается «чудным сочувствием», которое Пушкин имел «со всеми гениями поэзии всемирной», а между тем еще в 1831 году он в дневнике отзывается о Пушкине как о пигмее перед Байроном и, мечтая о «каталоге» различных литературных «покраж», который хорошо было бы назвать «Шпион на Парнасе», фиксирует различные заимствования из Державина в творчестве Пушкина. Впрочем, это не помешало ему еще через несколько месяцев сделать в том же дневнике вывод, что предназначение русского народа – не изобретать, но все доканчивать на сцене Европы и, следовательно, «цитатность» – не порок. Цитатно и творчество самого Шевырева; на этом основании докладчица атрибутировала Шевыреву стихотворение «Ворон», анонимно опубликованное в 1830 году в «Галатее» и являющееся парафразой пушкинского «Ворон к ворону летит…» (гипотеза, энергично оспоренная в кулуарах Сергеем Пановым).
18) Лев Мазель. «Война и мир в Московской консерватории в 1937–1941 годах». Блестящий (на уровне лучших образцов устной прозы Ираклия Андроникова) рассказ очевидца о том, как в феврале 1941 года, чтобы «обеспечить максимум правительственного внимания» (то есть получить внеочередные ордена и медали), администрация консерватории задумала вызвать другие вузы на соревнование по сокращению числа кафедр. В консерватории кафедр было много, и отличались они не профилем, а художественными руководителями, кои все были тонкими индивидуальностями и сливаться по этой причине, а также по здравом размышлении не хотели. Некоторые эпизоды особенно колоритны: например, Г. Нейгауза, бывшего директором консерватории в 1935–1937 годах, снимают под тем предлогом, что кузен его, носящий ту же фамилию, руководит немецкой радиосетью. Нейгауз возражает: пусть лучше снимут кузена. Нейгаузу разъясняют: если бы кузен носил фамилию Иванов, снимали бы его немцы, но поскольку у обоих двоюродных братьев фамилия Нейгауз, первыми должны реагировать все-таки не немцы. Или еще: Нейгауз говорит о своем коллеге Гольденвейзере: «Я понимаю, он толстовец и не противится злу, но почему же он так противится добру?»
19) Андрей Зорин. «Из истории Дружеского литературного общества»[92]92
См.: [Зорин 2016: 467–504].
[Закрыть]. Анализ поэтики человеческих отношений на заре XIX века (по мнению докладчика, конференция убедительно продемонстрировала, что литературная жизнь начала XX века изобиловала в основном ссорами и зуботычинами, в начале же XIX века доминировала тема дружества). Распределение социальных ролей в Дружеском литературном обществе (Мерзляков – ученый педант, Жуковский – унылый ангел, Андрей Иванович Тургенев – несомненный лидер, что вызывало бурный протест завистливого Воейкова). Две гипотезы: относительно латентной гомосексуальности кружка (приведенные цитаты из писем замечательны своей двусмысленностью: помнишь ли ты ту ночь, когда мы лежали на постели?.. – пишет один юноша другому; это как минимум можно понимать двояко) и относительно безвременной кончины Андрея Тургенева: всегда упрекавший себя в холодности, в неспособности чувствовать достаточно страстно, он умер от переохлаждения: улегся спать в намокшем от дождя мундире, проснулся в жару и наелся мороженого… – странная парафраза поведения его любимого героя «Вертера», перед смертью гулявшего несколько часов под снегом. В таком случае нельзя ли считать смерть Андрея Тургенева самоубийством?
Гипотеза о самоубийстве особых споров не вызвала, соображение же о латентной гомосексуальности спровоцировало темпераментный монолог Людмилы Щемелевой, настаивавшей на том, что всякую гипотезу следует вводить с какой-либо целью, для данной же гипотезы цели никакой не видно, да и не решились бы члены Дружеского литературного общества «на такое» без литературных прообразов, а значит, лежали они на постели безо всякого умысла.
20) Екатерина Ларионова. «Молодой Пушкин и Александр Иванович Тургенев». Когда Пушкин выходит из лицея, самые разные люди из его окружения охотно берут на себя в общении с ним роль старших, наставников. Николай Иванович Тургенев рад быть ему политическим учителем, Вяземский пока хранит с Пушкиным отношения этикетные, и единственный, кто не пытается Пушкина учить, – это Александр Иванович Тургенев (ему также случается упрекнуть Пушкина за повесничество, но перед другими он его защищает). Поэтому логично, что «Послание к А. И. Тургеневу» выделяется на фоне других пушкинских посланий того времени: условные мотивы переводятся в реально-политический план и возникает тон фамильярной близости, на что в действительности у Пушкина права не было. Пушкин сознательно снимает барьеры, предлагая Тургеневу определенную модель отношений, и Тургенев ее принимает. Внешне они остаются на прежних позициях. Тургенев говорит Пушкину «ты», а тот Тургеневу – «вы», но психологическая основа их контактов – иная. Отношения учитель/ученик для Пушкина были всегда чреваты внутренним конфликтом (ср., например, отношения его с Карамзиным) – с Тургеневым же дело обстояло иначе, и это обеспечило их духовную близость на протяжении всей жизни.
Николай Перцов в своей реплике попытался объяснить докладчице, что, если бы она подходила к своей теме как художник и психолог, она бы поняла, что близости с Тургеневым у Пушкина не было, а была близость с Вяземским, но докладчица от лавров художника уклонилась и настаивала на своей концепции.
21) Елена Пенская. «Литературные скандалы как форма русской культурной жизни». Попытка представить всю русскую литературу «между двумя величайшими скандалами – Крымской и Первой мировой войнами» <sic!> как последовательность скандалов, причем в эту категорию входит решительно все: пасквили, провокации и мемуары провокаторов, Мятлев и Соболевский, бумаги охранки и многое другое вплоть до «идеи антипути в русской культуре».
Пространная (и, на взгляд хроникера, вполне основательная) реплика Абрама Рейтблата, названная кем-то из присутствовавших содокладом: чтобы говорить о скандалах как форме литературной жизни, следует сначала дать хоть какое-то определение понятию «скандал». Скандал – это публичное нарушение общественных норм (так, если на конференции произносится доклад, являющийся грудой фактов без связи, это скандал, поскольку предполагается, что доклад должен исходить из определенного понимания терминов). Следовательно, прежде чем строить историю литературы как последовательность скандалов, было бы хорошо исследовать разницу между скандалом в жизни и скандалом, отраженным в прессе, между скандалом и ссорой и многое другое.
И наконец, 22) Александр Осповат. «Тютчев и Тютчев». Название доклада объясняется тем, что Тютчева невозможно поставить в отношения дружбы или вражды ни с кем из современников; поэтому, чтобы соответствовать теме конференции, докладчику пришлось сравнить его с самим собой. Почти все творцы русской литературы к концу жизни начинали ею брезговать, так что издатель Маркс опасался издавать собрание сочинений Чехова, пока тот не умер: подозревал, что Чехов под конец жизни начнет, как и прочие, заново переписывать Евангелие, а ему, Марксу, придется это печатать. Но Тютчев и на этом фоне случай особый – в излишнем морализме он замечен не был, но от литературы отрешился раньше всех. У него есть поклонники и недоброжелатели, но нет литературных врагов и недругов. У него есть отношения (дружеские) с Фетом, но это отношения не литературные. Диалог с Пушкиным (с которым, однако, Тютчев никогда не виделся), кажется, единственный состоявшийся в жизни Тютчева литературный диалог. Самое важное Тютчев всегда доверял людям, не сравнимым с ним по интеллектуальному уровню и решительно не способным его понять, поэтому трудно отделаться от ощущения, что все, что он говорил о литературе, специально рассчитано на перевирание, а сборник «Тютчев о литературе» не может быть составлен за явным недостатком материала. Разные писатели (И. Тургенев, И. Аксаков) пытались приохотить Тютчева к литературной жизни, навязать ему общение с литераторами, увлечь его выбором журнала, в котором следует печататься, и проч. – но потерпели неудачу. Тютчев – человек, сохранивший и даже утрировавший предания о том, как подобало жить поэту на рубеже XVIII–XIX веков, когда принадлежность к хорошему обществу ставилась выше пиитических страстей. Поэтому предмет его язвительных насмешек – старший (и престарелый) современник Вяземский, который и на склоне лет все пишет и пишет, вместо того чтобы о смерти подумать… – и промолчать. Осповат начал доклад с повторения своего прошлогоднего основополагающего тезиса, что он сам с собой не согласен, но это не помешало ему вполне уверенно ответить на вопрос Рейтблата, поинтересовавшегося: мог бы Тютчев написать на своей визитной карточке «литератор»? Порешили, что ни за что не мог бы.
Чего же я, собственно, домогаюсь от авторов столь замечательных докладов (даже пересказывать было приятно)? Пожалуй, только одного: чтобы рефлексии над изучаемым и обозреваемым материалом было в докладах не меньше, чем простой фиксации: произошло то-то и то-то. По-видимому, для компенсации я сама предалась в своем отчете не совсем подобающим этому жанру размышлениям, но я очень хочу, чтобы на Третьих чтениях – которые, конечно, будут непохожи на Вторые – у меня появилась возможность только и делать, что запечатлевать чужие рефлексии, а свои приберечь.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?