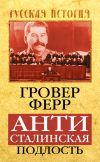Текст книги "Хроники постсоветской гуманитарной науки"
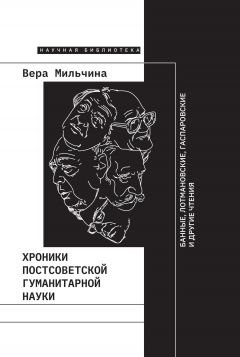
Автор книги: Вера Мильчина
Жанр: Прочая образовательная литература, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 4 (всего у книги 44 страниц) [доступный отрывок для чтения: 14 страниц]
Шестые Эйдельмановские чтения
(18 апреля 1996 года)[44]44
Впервые: НЛО. 1996. № 20.
[Закрыть]
Шестые Эйдельмановские чтения состоялись по традиции 18 апреля 1996 года, в день рождения Н. Я. Эйдельмана, в редакции журнала «Знание – сила». Открыл чтения их бессменный председатель Андрей Тартаковский, совершенно справедливо заметивший, что за шесть лет их существования чтения эти стали необходимой принадлежностью нашей научной жизни, так что, если бы они вдруг прекратились, и участники, и аудитория (и то и другое у чтений более или менее постоянное) почувствовали бы себя обделенными.
Первым прозвучал доклад Игоря Андреева «Самозванство на Руси»[45]45
См.: [Андреев 1995].
[Закрыть]. Докладчик выказал изрядное знакомство с новейшей исторической, социологической, культурологической терминологией (выражения «сакральность», «стереотипы поведения и мышления», «сознание простецов» и проч. звучали в докладе постоянно) и поставленный на научную ногу патриотизм: самозванство, утверждал он, уникальное русское явление, в европейской истории ничего подобного не было, да и «уровень сакральности» там, оказывается, был ниже, чем в России.
Декларированной целью доклада было описать черты средневекового сознания (сознания простецов), которые способствовали возникновению самозванчества. Таковых было названо три: 1) восприятие нового как узнавание старого, то есть поиски в любом новом явлении того, что роднит его со старым; 2) уже упоминавшаяся сакральность власти, сочетающаяся с рецидивами язычества («народное православие»): народ наделяет самозванца и царя сверхъестественными свойствами, в том числе и колдовскими; 3) символизм как стиль мышления простецов (поиски на теле «царей» свидетельств их богоизбранности – «царских знаков»). Все это, по мнению докладчика, обуславливало предрасположенность народного сознания к самозванческой идее: если царская власть сакральна, то противиться царю или тому, кто объявляет себя царем, греховно. Элементами, на которых работала «модель» самозванчества, были названы внушение и подражание, а свойствами, какие народное мышление приписывает царю, – законность, богоданность и справедливость его власти (царь как источник и слуга права).
При внешней связности концепции в ней обнаружились многочисленные внутренние нестыковки, на которые и обратили внимание выступавшие в прениях. Так, Андрей Немзер попытался ответить на те естественно напрашивающиеся вопросы, которые оставил без ответа докладчик, прежде всего на вопрос об отличиях русской ситуации от западноевропейской. Ни в средневековой Франции, где король выступал по отношению к другим феодалам как первый среди равных, ни в средневековой Руси у самозванчества не имелось причин для возникновения: тверскому князю незачем было выдавать себя за князя московского. Затем одна династия, укрепившаяся на престоле, начала страховать себя от переворотов и сильно в этом преуспела; в ответ при первом же династическом кризисе появились самозванцы. Немзер остановился и на не проясненном докладчиком вопросе о «точке зрения» самих самозванцев; в докладе они подчас – быть может, помимо воли говорившего – предстали некими авантюристами, прекрасно сознающими свое «узурпаторство» по отношению к «настоящим царям» и сознательно эксплуатирующими особенности народного мировосприятия; Немзер подчеркнул, что самозванцы были настоящими царями не только для народа, но и для самих себя, что они ощущали себя не жуликами, не подставными лицами, а подлинными государями; в противном случае мы бы имели дело с эпизодами плутовского романа, а не с историей русского самозванчества. Об отличии русской ситуации от европейской говорил в прениях и Андрей Юрганов: по его мнению, в Европе царь обладал мирской властью, религиозная же власть была у папы римского; напротив, на Руси царь был и государем, и святителем, он олицетворял волю Божию. Чрезвычайно важно и то, что русский царь был прирожденным царем, а самозванчество стало возможным, лишь когда произошел «сбой в системе» – прекратилось существование семейства, которое в течение нескольких веков правило страной.
По мнению Юрганова, русские люди были готовы увидеть на русском престоле даже датского принца, лишь бы то был прирожденный государь, Годунов же казался им «рабоцарем», ибо изначально не принадлежал к царской фамилии. Именно идеал прирожденного государя, главенствовавший в сознании народа, и провоцировал появление самозванцев. Впрочем, аудитории эти рассуждения не показались вполне убедительными: ведь и Годунов, и Романов приходились родственниками Ивану Грозному; почему же один считался узурпатором и «рабоцарем», а другому было доверено основание династии? Это можно объяснить влиянием тогдашней публицистики, но никак не «онтологическими» свойствами Романовых и Годуновых.
Доклад Андрея Зорина назывался «Эпические поэмы С. А. Ширинского-Шихматова и шишковская концепция национальной истории»[46]46
См.: [Зорин 2001: 159–186; глава «Народная война»].
[Закрыть]. Докладчик начал с описания того всплеска интереса к истории Смутного времени, который пришелся на 1806–1808 годы, когда были написаны и опубликованы такие произведения, как поэма Ширинского-Шихматова «Пожарский, Минин, Гермоген, или Спасенная Россия», трагедии С. Н. Глинки «Минин» и М. В. Крюковского «Пожарский, или Освобожденная Москва», когда были обнародованы гравюры и эскизы скульптора Мартоса к будущему знаменитому памятнику Минину и Пожарскому и открыта подписка на него.
Легко объяснимо, отчего обострение интереса к патриотической тематике и борьбе с захватчиками-поляками произошло после 1812 года («рифма» двух ситуаций – нашествия поляков на Россию в 1612 году и нашествия французов в 1812 году – нашла позднее отражение в заглавиях двух романов Загоскина: «Юрий Милославский, или Русские в 1812 году», «Рославлев, или Русские в 1612 году»), но докладчик говорил об эпохе более ранней. Своеобразие ситуации, подчеркнул Зорин, состоит в том, что в русской словесности этот официозный канон сложился раньше, чем в реальной истории: Наполеон еще не напал на Россию, еще не сгорела Москва, а отношения с французами уже осмыслялись посредством уподобления их полякам 1612 года. Дело в том, что Польша уже в конце XVIII века воспринималась как агент французского влияния, «троянский конь» Франции в теле Российской империи, а борьба за независимость Польши – как французская интрига, проявление антирусской политики французского «секретного кабинета». Таким образом, в изящной словесности поляки репрезентировали французов, точно так же как татары – турок. Сила этих представлений была так велика, что князя Адама Чарторыйского «автоматически» считали агентом Наполеона только потому, что он поляк, а удаление его из Министерства иностранных дел трактовалось как победа над французско-польским влиянием. Действия поляков в 1612 году изображались как прообраз тотального антироссийского заговора (по-видимому, первым произведением, где польская и французская тема слились воедино, стала ода Державина «На коварство французского возмущения», где, впрочем, изначально речь шла вообще не о поляках и не о французах, а о вполне современных недругах Державина при дворе). Авторы поэм и трагедий 1800‐х годов были довольно хорошо осведомлены о событиях Смутного времени благодаря опубликованным к этому времени летописям, в которых, однако, отсутствует один эпизод, параллель к которому находится лишь в народной песне: после победы над поляками царство предлагают победителю Пожарскому, но он благородно уступает его Михаилу Романову. В поэме Ширинского-Шихматова этот эпизод изложен особенно подробно, причем гипотетическое согласие Пожарского занять трон трактуется как низвержение России обратно в ад, из которого тот же Пожарский ее только что вывел. По мнению докладчика, повышенный драматизм этой коллизии можно объяснить только подразумевавшейся Ширинским и внятной его первым читателям параллелью с Наполеоном: он, подобно Пожарскому, избавил Францию от войн и распрей, спас от революционной анархии – но, в отличие от русского князя, не устранился, не отдал трон «законному владельцу», а воссел на престоле сам. Пожарский же, в отличие от Наполеона, не пошел на поводу у толпы, не стал прислушиваться к «гласу народа» (напоминание о французской революции), но продемонстрировал высочайшую из способностей – способность отказаться от короны. Пожарский предстает у Шихматова Моисеем, толкующим народу слово Божье; таким образом подчеркивается богоизбранность России, причем не как преемницы Греции (идея, популярная в царствование Екатерины II), но как самоценной державы (характерна в связи с этим чисто стилистическая работа Шихматова, изгонявшего из своих текстов реликты греческой мифологии, что приводило подчас к парадоксальной замене «фурий» на… «демонов»).
Валентин Берестов, учившийся вместе с Эйдельманом на истфаке МГУ, назвал свое выступление так: «Чем каждый пушкинист похож на А. С. Пушкина? (Об одном замысле Н. Эйдельмана)». Замысел этот, которым Н. Я. некогда поделился с Берестовым, заключался в том, чтобы написать книгу «Пушкинист» – о том, как каждый пушкинист творит Пушкина по своему «образу и подобию»: у В. Непомнящего, например, Пушкин – набожный православный христианин, а у исследователя более легкомысленного и Пушкин, пожалуй, смотрит веселее.
Берестов решил попробовать применить этот принцип к самому Н. Я. и, взяв для примера его вполне научную и строгую книгу «Пушкин и декабристы», показал, как во многих свойствах, привычках и предпочтениях Пушкина, описанного Эйдельманом, проступает сам Эйдельман – его верность старинному братству (школьным ли, университетским ли товарищам, вне зависимости от их позднейших убеждений и занятий), его остроумие, его нравственный выбор… Впрочем, докладчик, разумеется, не стал абсолютизировать это сходство и на дотошные вопросы из публики, клонившиеся к полному отождествлению Эйдельмана с Пушкиным, ответил четко: «Различия были, и существенные: например, Эйдельман стихов не писал».
Прелестны были мемуарные зарисовки самого докладчика, с которыми он по ходу дела знакомил аудиторию. Например, вспомнив о любимом Эйдельманом способе «летоисчисления» (сколько рукопожатий отделяет меня от Пушкина), Берестов сказал, что его самого, как выяснилось, отделяет совсем немного: он был хорошо знаком с Маршаком, а юного Маршака Стасов водил к сыну Пушкина, который, любуясь окружающим городским пейзажем, сказал задумчиво – впрочем, походя лишив собственного родителя одного из лучших стихотворений: «Да, прекрасно писал Лермонтов: „Брожу ли я вдоль улиц шумных…“». А вот другая зарисовка, на тему об отказе от прямого диссидентства в пользу легального просветительства (проблема, живо волновавшая и Эйдельмана): Берестов советуется с Л. К. Чуковской, что ему делать – прямо бороться с режимом? но ведь тогда он не сможет читать детям стихи в домах отдыха, а это ведь так полезно… и Л. К. отвечает ему: «Конечно, читайте стихи!»
Название доклада Кирилла Рогова – «Московский студент 1820‐х годов»[47]47
Некоторые положения доклада развиты в: [Рогов 1999а; Рогов 1997б].
[Закрыть] – не вполне отвечало содержанию, ибо речь в нем шла не вообще о студенте и не о студенческом быте, а о вполне конкретном студенте, а точнее, по современным понятиям, даже аспиранте – М. П. Погодине в пору, когда он уже окончил университет и работал над диссертацией. Однако аудитория, кроме одного не в меру придирчивого слушателя, вовсе не была в претензии за такую неточность и, забыв о названии, с огромным интересом прослушала богатый уникальным материалом и тонко выстроенный доклад. Главным источником Рогову послужил дневник Погодина, опубликованный лишь частично, меж тем как во многих случаях восстановление полного текста записей позволяет иначе понять их содержание. Речь шла прежде всего о взаимоотношениях Погодина с Тютчевым; соответствующие записи из дневника Погодина опубликованы в тютчевском томе «Литературного наследства», однако купирование фрагментов, не связанных с Тютчевым напрямую, ведет, как показал Рогов, к значительным аберрациям.
Так, перед записью о беседе с Тютчевым насчет Пушкина и оды «Вольность» у Погодина стоят слова о «семеновской истории», историю же эту он обсуждал с двумя знакомыми дамами и сделал из нее вывод, имеющий самое непосредственное отношение к его восприятию пушкинской оды: если бы я, пишет Погодин, был на месте царя, я бы нарушил закон, велящий покарать виновных солдат, и простил их, ибо они хотели блага. Чрезвычайно любопытны были рассуждения докладчика об эволюции Погодина от республиканского патриотизма к патриотизму национальному. Погодин мечтал о правильно устроенном мононациональном государстве, из которого изгоняются все иностранцы и в котором, напротив, объединяются все славяне (включая поляков), причем в обмен на прусскую часть Польши следует отдать немцам Курляндию, ибо эта «немчура» России не нужна (напротив, по плану Пестеля следовало учредить одну гражданскую нацию, все члены которой, вне зависимости от вероисповедания и происхождения, называли бы себя русскими). Еще одна тема, важная для мироощущения Погодина начала 1820‐х годов, – его отношение к просвещению; с одной стороны, для Погодина, честолюбивого плебея, образование было единственным средством получить деньги и славу (он жил частными уроками, а учась в университете, даже списывать конспекты давал за деньги), с другой – влияние Шеллинга, усвоенного сквозь призму московского масонства, и Гёте и Шиллера, усвоенных сквозь призму книги г-жи де Сталь «О Германии», заставляло его отличать современное «неправильное» просвещение от истинного, высшего, тождественного духу благолюбия.
Наконец, докладчик много говорил о борьбе московской и петербургской линий в поэтической сфере: Погодин отстаивает авторитет своего учителя, москвича Мерзлякова, от петербуржцев, выдвигающих Гнедича, а затем выступает, опять же против петербуржцев, на стороне другого москвича, Раича, то есть всякий раз делает «маргинальный» выбор, расходящийся с «мейнстримом». В заключение докладчик остановился на предыстории погодинского альманаха «Урания»: сам Погодин рассчитывал дать ему название «Московская комета», которое (возможно, не без участия Тютчева) было после декабрьского восстания заменено на «Уранию», так как «Московская комета» слишком явно напоминала о бестужево-рылеевской «Полярной звезде». По ходу дела Рогов коснулся также многих других интереснейших пассажей из погодинского дневника (в частности, разговоров об убийстве Павла I), поэтому все присутствовавшие согласились с пожеланием Андрея Тартаковского, чтобы докладчик поскорее опубликовал эти записи отдельно, а затем и весь дневник за 1820‐е годы, на что К. Ю., лучше других сознающий объем предстоящей работы, только пожал плечами.
Доклад Веры Мильчиной и Александра Осповата был посвящен «Истории создания и восприятия брошюры П. А. Вяземского „Пожар Зимнего дворца“»[48]48
См.: [Мильчина 2004б: 364–368].
[Закрыть]. Дворец сгорел 17/29 декабря 1837 года; уже через неделю Вяземский написал на французском языке статью, посвященную этому событию, где перечислил все те вехи русской истории, что связаны с Зимним дворцом, и прославил мужество и энергию, проявленные императором Николаем как в прошлом, в день вступления на престол и подавления декабрьского «мятежа», так и в настоящем, при тушении пожара. Благодаря активному посредничеству А. И. Тургенева статья о пожаре уже в начале февраля 1838 года была напечатана в Париже, у издателя Дантю, отдельной брошюрой, затем перепечатана двумя легитимистскими парижскими газетами и имела в Париже бурный успех среди сторонников сближения России и Франции. Легитимисты ставили русского автора в пример французам: он и французским языком владеет блестяще, не искажая его разными неологизмами (комплиментов по поводу своего французского языка Вяземский вообще получил много – в том числе от таких знаменитостей, как писатель Шатобриан или историк генерал Сегюр), и своего государя любит преданно – не то что легкомысленные французы, зараженные республиканизмом. Брошюра Вяземского нашла себе поклонников среди «благомыслящих» людей и в России; перевод ее был опубликован в «Московских ведомостях», а отрывки процитированы в верноподданнической брошюре А. Башуцкого о восстановлении Зимнего дворца. Однако, по свидетельству современника, в конечном счете «Пожар Зимнего дворца» оказал своему автору дурную услугу: либералы оскорбились его «ренегатством», а царедворцы злорадствовали по поводу этого «падения» бывшего вольнодумца, однако же все равно не считали «падшего ангела» за своего. Наконец, в 1843 году маркиз де Кюстин в своей «России в 1839 году» упомянул брошюру князя Вяземского о Зимнем дворце в самом неблагоприятном контексте; он назвал ее автора царедворцем и процитировал фрагмент брошюры ради того, чтобы доказать правдивость рассказов Карамзина о зверствах Ивана Грозного: царедворец Вяземский пишет, что царедворец Карамзин читал свою «Историю» в Зимнем дворце; значит, рассказанное в ней – правда. Пассажи об исторических преданиях, связанных с дворцом, представляли собой органическую часть взглядов Вяземского (в этой системе все прошлое оценивалось положительно), его похвалы царю (который на сей раз их вполне заслужил, что признал даже критичный Кюстин) были органической частью его представлений о том, что мыслящему дворянству следует вести диалог с монархической властью, направлять ее своими советами. Однако невозможность вести такой диалог с патриотических позиций, не заслужив при этом упреков в предательстве либеральных идеалов и в низкопоклонстве, относится, по-видимому, к числу констант русской политической жизни, и пример Вяземского – лишь один из многих в бесконечном ряду.
Доклад Андрея Немзера назывался «Антиисторизм Лермонтова»[49]49
См.: [Немзер 2004; Немзер 2014: 342–358].
[Закрыть]; докладчик привел разные примеры обращения поэта с историей, из которых самым показательным был анализ стихотворения «Умирающий гладиатор». Додумывая до конца антиномии, встающие перед романтическим сознанием, Лермонтов весьма своеобразно оценивает «рыцарских времен волшебные преданья» – то есть все то, что романтики клали в основу своих эстетических построений. Для него это – «насмешливых льстецов несбыточные сны», не более чем вымысел (пусть и «волшебный»). Лермонтов исходит из того, что прошлого как некоей реальности не существовало, что всякая ушедшая эпоха может «выжить» лишь благодаря поэту, за счет его творческих усилий. Прошлое в произведениях Лермонтова чаще всего идеализируется и героизируется (см. «Песню про… купца Калашникова»), но поэт четко сознает, что такое героическое прошлое – такой же плод его фантазии, как и картины идеального детства – этого прошлого в миниатюре, прошлого не общенационального, а частного.
Завершило чтения внеплановое выступление Игоря Энгельгардта, который прочел отрывки из воспоминаний своей матери Раисы Лерт «На том стою» (М., 1991): в конце 1940‐х годов она работала вместе с отцом Н. Эйдельмана в Радиокомитете и в процессе «борьбы с космополитизмом» была одновременно с ним оттуда изгнана. Сравнительно недавняя история уравнялась в правах с историей XIX века и сделалась возможным предметом рефлексии – ход вполне в духе Н. Я. Эйдельмана.
Седьмые Эйдельмановские чтения (18 апреля 1997 года)[50]50
Впервые: Знание – сила. 1997. № 11.
[Закрыть]
18 апреля 1997 года в седьмой раз прошли научные чтения памяти Н. Я. Эйдельмана. Программа чтений состояла из семи докладов, а открыло их выступление вдовы Натана Яковлевича Юлии Эйдельман, которая прочла собравшимся отрывки из дневников ученого[51]51
Книжное издание дневников см. в: [Эйдельман 2003].
[Закрыть]. Эйдельман впервые начал вести дневник во втором классе, но регулярно заносить записи в дневник стал в 1966 году – в этом году его дочь пошла в первый класс. Две темы – судьба дочери и судьба исторической науки – были для Эйдельмана наиболее важны, им в первую очередь посвящен дневник; они прозвучали одновременно и в самый последний день жизни Эйдельмана: когда выяснилось, что у него инфаркт и нужно срочно ложиться в больницу, он всерьез хотел отложить это «мероприятие» на день, потому что сначала непременно хотел исполнить два данных им обещания: выступить в школе, где преподает дочь, и прочесть доклад в Музее А. С. Пушкина. В дневнике есть блестящие афоризмы: «Уровень разложения общества измеряется не нижним, а верхним пределом чтения: не Михалковым, а Дружининым и Бонди»[52]52
PS 2019: Имелся в виду, естественно, автор советского гимна, но Эйдельман смотрел далеко вперед, так что мысль его остается верной и применительно к следующим носителям этой фамилии.
[Закрыть]; есть яркие штрихи к истории советской цензуры: приводится список авторов и названий, которые Д. Д. Благой предлагал изъять из библиографии «Пушкин за 100 лет», в их число попали не только «подозрительные» Гофман и Оксман, но даже зарубежное издание «Путешествия в Арзрум».
Выступление Юлии Эйдельман прозвучало как своего рода биографический «эпиграф» к чтениям (к нему примыкало выступление бывшего главного редактора журнала «Байкал» В. В. Бараева, продолжившего свои воспоминания о поездке с Эйдельманом по Сибири, начатые на Третьих чтениях).
Научную часть чтений открыло выступление Игоря Данилевского «Что такое Русьская земля»[53]53
Доклад в отчете не пересказан, поскольку одноименная статья Данилевского опубликована в том же номере журнала «Знание – сила».
[Закрыть]. О значении христианской символики в жизни средневековой Руси говорил Андрей Юрганов в докладе «Опричный дворец Ивана Грозного»[54]54
См.: [Юрганов, Каравашкин 2003: 68–115].
[Закрыть]. В 1566 году по приказанию царя в Москве, на том месте, где сейчас располагается научная библиотека МГУ, был возведен Опричный дворец. Если рассматривать эту постройку с чисто светской стороны, возникает множество недоумений: зачем было строить еще один дворец напротив Кремля, к тому же не снабдив эту новую постройку фортификационной защитой (крышами и бойницами)? По мнению докладчика, понять замысел Ивана Грозного можно, если учесть, что в ту пору светская власть была таковой лишь по видимости; государственная деятельность Ивана объяснялась отнюдь не одними политическими соображениями, но и сильными религиозными чувствами, в частности ожиданием конца света, который, как считалось, должен был наступить в 7070 или 7077 году от сотворения мира, то есть в 1562 или 1569 (выбор именно этих дат объясняется тем, что в 1492, то есть в 7000 году от сотворения мира, кончалась церковная пасхалия – счет пасх, а семерка почиталась сакральным числом; поэтому, раз конец света не наступил в 7000 году, следовало ждать его в ближайшие годы, включающие цифру 7). Так вот, Иван Грозный загодя начал готовиться к наступлению этого дня, когда «вместо правды мира будет правда истинная». Именно для этой цели и выстроил он странный четырехугольный дворец, «источником» которого, как показал докладчик, была ветхозаветная Книга пророка Иезекииля (гл. 40 и след.: «Устройство нового Храма»). В точном соответствии с этой книгой у Опричного дворца имелось всего три пары ворот (западные отсутствовали); однако если, согласно Иезекиилю, главные, восточные ворота предназначались для Господа (он должен был войти в них, а царь – в проделанную рядом калитку), то в Опричном дворце Иван сам входил в восточные ворота вместо Господа (не случайно немецкий дипломат Герберштейн, автор «Записок о московитских делах», назвал русского великого князя «ключником и постельничьим Божиим»). Библейские «подтексты» обнаруживаются и в конкретных деталях Опричного дворца: так, двуглавый черный орел, украшавший южные ворота, был изображен не с опущенными крыльями, как орел геральдический, но с крыльями распростертыми. «Прообразом» его выступал «орел летящий» из Откровения Иоанна Богослова (4: 7) – символ возмездия, которое падет на головы грешников во время Второго пришествия. Таким образом, цель, которую преследовал Иван при постройке Опричного дворца, была отнюдь не политическая и не фортификационная: царь реализовал во дворце свои эсхатологические представления; когда же Девлет-Гирей сжег дворец, царь усмотрел в этом знак Господнего осуждения опричнины и отменил ее.
Если в двух первых докладах отыскание религиозной основы мирских событий и явлений было произведено очень тонко и внятно, то с докладом Арсена Гогешвили «Новые библейские параллели к „Слову о полку Игореве“» дело обстояло сложнее. Главный тезис докладчика заключался в том, что язык и стиль «Слова о полку Игореве» состоят из трех слоев – античного, средневекового христианско-героического и библейского. Однако его аргументация не всем в аудитории показалась убедительной, и после доклада возникла дискуссия. Подробно познакомиться с концепцией Гогешвили читатели смогут, прочитав его статьи в номерах 1–4 журнала «Знание – сила» за 1997 год.
Во второй части чтений речь шла об авторах и проблемах XIX века. Открыла ее Наталья Самовер, выступившая с докладом «Русские крестоносцы: Первый пехотный полк Московского ополчения в Отечественной войне 1812 года»[55]55
См.: [Самовер 1999].
[Закрыть]. На основании неопубликованных архивных данных докладчица восстановила историю создания этого полка, его участия в военных действиях (от первоначальной дислокации в Можайске до боев при Тарутине и Красном и пребывания в пограничном городе Борисове), а также обрисовала состав офицерского корпуса: 68 офицеров в возрасте от 72 до 15 лет, в прежней жизни преимущественно гражданских лиц. Наряду с практическими подробностями жизни и деятельности полка докладчицу интересовали психологический и историко-культурный аспекты самого феномена дворянского ополчения. Ополченцы, официально именовавшиеся ратниками, мыслили себя продолжателями дела крестоносцев, бойцами крестоносной рати. Войну они представляли себе как некое подобие парада; они мечтали героически отдать жизнь за отечество, реальность же войны оказалась совсем другой: ратников ждали многодневные переходы без воды и питья, дизентерия и такие «негероические» задания, как срочная доставка лаптей в ушедшую вперед гвардию или сожжение трупов в городе Борисове после ноябрьско-декабрьского наступления русской армии. Ратники сохранили свои хоругви и через год после основания полка, в августе 1813 года, принесли их обратно в Москву, однако с прежним идеальным представлением о войне им пришлось расстаться; не случайно ряды полка так сильно поредели: в Москву возвратились всего тридцать шесть унтер-офицеров и два офицера. В военных испытаниях, резюмировала докладчица, высокая культура ратникам не помогла.
Доклад автора этих строк назывался «Николай Иванович Тургенев в 1830 году». Разговор о декабристе Н. И. Тургеневе, как правило, предполагает рассмотрение его политических взглядов, однако в данном случае речь шла прежде всего о некоем – впрочем, несостоявшемся – событии в личной жизни Тургенева, которое, однако, имело непосредственное отношение к жизни общественно-политической. Тургенев был человек не слишком общительный, не очень светский, поэтому историки до последнего времени пребывали в абсолютной уверенности, что кроме жены, француженки Клары Виарис, с которой он сочетался законным браком в Женеве осенью 1833 года, в жизни Николая Ивановича никаких женщин не было. Однако архивные разыскания помогают понять, что это не так.
В 1829–1830 годах Николай Иванович был весьма увлечен молодой англичанкой Гарриэт Лоуэлл, дочерью английского помещика, с которой, по всей вероятности, его познакомил князь Петр Борисович Козловский, также живший в этот период в Англии и питавший нежные чувства к сестре мисс Лоуэлл, Саре (жене итальянского графа Гвидобони-Висконти, а в будущем возлюбленной французского писателя Оноре де Бальзака). Тургенев всерьез хотел жениться на понравившейся ему английской барышне, однако ее отец, будучи истинным англичанином, традиционалистом и консерватором, вообще с подозрением относился к иностранцам и уж тем более опасался выдать дочь за человека, заочно приговоренного у себя на родине к смертной казни. Как выясняется, не только желанием оправдать себя в глазах императора и русского общества, но и стремлением обелить себя в глазах английской невесты объясняется тот факт, что именно в начале 1830 года Н. И. Тургенев вновь с удвоенной энергией начинает добиваться пересмотра своего дела и даже, поверив дошедшему до него через Жуковского «приглашению» императора, всерьез планирует отправиться в Россию на «пересуд». В мае 1830 года, однако, из письма того же Жуковского выяснилось, что Николай I безопасности Тургеневу не гарантирует и вообще «как человек, а не как император» приезжать ему в Петербург не советует. Дело Тургенева не было пересмотрено, не пересмотрел своего отношения к нему и потенциальный тесть. Женитьба не состоялась, Николай Иванович в результате переехал во Францию, туда к нему стал постоянно приезжать брат его Александр Иванович, автор замечательных «Хроник русского в Париже», которые мы, возможно, не имели бы удовольствия читать, если бы Николай Иванович женился на Гарриэт Лоуэлл и осел в Англии.
Доклад Ольги Майоровой носил название «Митрополит Московский Филарет в общественном сознании конца XIX века»[56]56
См.: [Майорова 1997].
[Закрыть]. Филарет интересовал докладчицу не только как яркая и многосторонняя личность, как человек, оставивший след в самых разных областях религиозной культуры; деятельность Филарета была рассмотрена в докладе как явление, проливающее свет на генезис охранительной политики Победоносцева. Отзывы современников о Филарете крайне разноречивы: в творчестве Лескова он предстает то «чудесным помощником», то ничтожным чиновником; под пером Герцена превращается в символ самодержавного режима (государства, узурпировавшего функции церкви). Но для всех было очевидно огромное значение его фигуры; не случайно после его смерти в обществе задавались вопросом: «Кто у нас теперь будет Филаретом?» В ситуации, когда многие в России боялись «итальянской заразы» – идеи «свободной церкви в свободном государстве», Филарет выступал символом независимой церкви, которая так сильна, что может подчинить себе государство. Победоносцев сознавал это очень ясно, не случайно в 1867 году, в бытность свою наставником наследника престола (будущего Александра III), он советовал своему воспитаннику непременно поехать в Москву на похороны Филарета (наследник хотел поехать, но отец-император не пустил): это означало бы соединиться, слиться с народом, шагнуть навстречу народу и церкви. После смерти Филарета в воспоминаниях очевидцев образ митрополита стал приобретать легендарные, агиографические черты, Филарет постепенно превратился в смелого, независимого носителя истины, дающего ответы на все вопросы. В этих легендах, как и прежде, при жизни, Филарет выступал невольным (или намеренным?) соперником монарха; так, митрополита Московского часто сравнивали с патриархом всея Руси, именовали его «природным патриархом других архиереев». А между тем патриаршество в России отменил еще Петр I и роль патриарха давным-давно принял на себя сам император.
Доклад Сергея Панова носил весьма расплывчатое название «Вокруг А. С. Пушкина», однако посвящен он был вещам совершенно конкретным и чрезвычайно интересным. Панов уже много лет разбирает бумаги, оставшиеся от четы пушкинистов Цявловских; именно некоторые любопытные записи из их дневника Панов и обнародовал в своем докладе. Но главное – изложил и откомментировал своего рода «пушкинистскую новеллу», которую упустили из виду Т. Г. Цявловская и Н. Я. Эйдельман, хотя новелла эта несомненно входила в круг их интересов (мы не пересказываем ее, так как журнал планирует опубликовать полный текст доклада Панова в одном из ближайших номеров[57]57
PS 2019: Статью мне в журнале обнаружить не удалось, но три года спустя вышел с комментариями Панова том пушкиноведческих работ супругов Цявловских; см.: [Цявловские 2000]. Но о чем была новелла? Очень жалею, что не обозначила этого хотя бы в двух словах.
[Закрыть]). Этот виртуозный историко-литературный детектив, выдержанный совершенно в духе Эйдельмана, послужил достойным завершением Седьмых Эйдельмановских чтений.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?