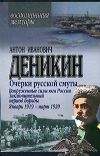Текст книги "Уильям Блейк в русской культуре (1834–2020)"

Автор книги: Вера Сердечная
Жанр: Культурология, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 7 (всего у книги 23 страниц) [доступный отрывок для чтения: 8 страниц]
Тихо пело время… В мире ночь была
Бледной лунной сказкой ласкова, светла… [там же, 81].
Композиция этого стихотворения во многом воссоздаёт дуальность мира и его восприятия, явленную в «Песнях невинности и опыта»: если вначале ночь светла и радостна, то в конце – мрачна и гибельна:
На глухих дорогах мертвенно белел
Пылью гробовою бледный лунный мел… [там же, 82].
Стихотворения Балтрушайтиса из этого цикла воссоздают многие из тем «Песен невинности и опыта». В частности, в них сочетается тема труда и божественного откровения (либо его отсутствия), суровые будни горожанина становятся основой для аллегорического иносказания. Так, стихотворение «Ткач» может быть рассмотрено как своего рода ответ «Трубочисту» Блейка, в особенности учитывая значимость темы ткачества в пророчествах английского романтика:
Вечереет, и невольно
Тень сдвигается к станку…
Что-то грустно, что-то больно —
Уж не саван ли я тку? [там же, 86].
Стихотворение «Колокол» воссоздает тематику церкви, службы и городского населения, которая важна для обоих «Святых Четвергов» Блейка (из «Песен невинности» и «Песен опыта»). А стихотворение «Вечерний дым» предстает мрачным двойником «Зеленого ау» Блейка, воссоздавая и образ играющих детей:
Раскрылась ночь с безмолвием своим,
В ее тени,
Толпа детей, без крова мы стоим,
Одни, одни! [там же, 93].
Образы молота и нити судьбы в стихотворении «Полночь» напоминают о блейковских демиургах из пророческих поэм: кузнеце Лосе и пряхе Энитармон. «Бессонная Пряха», древняя, заклятая, появляется и в стихотворении «Прялка», а также в «Вечерней песне» (из сборника «Лилия и серп»):
В миг пламени веков седая Пряха
Роняет прах, и меркнет вдруг игра [там же, 183].
Наполнен аллюзиями к текстам английского романтика и второй цикл Балтрушайтиса, «Горная тропа» (1912), две части которого снабжены эпиграфами из Блейка. Открывающее стихотворение «Альпийский пастух» представляет собой модернистски-ностальгическое обращение к тому же образу странника со свирелью, который изображен в предисловии к «Песням невинности». Характерно повторение образов свирели, ясного ручья и обращение в песне к Богу:
От неба мой посох,
От неба – свирель…
Вне смертной тревоги,
Как ясность ручья,
От Бога – о Боге —
И песня моя… [там же, 101].
В стихотворении «Дробление» очевидно стремление автора воссоздать, пересказать концепцию времени, весьма близкую блейковской. По Блейку, истинное восприятие времени – это «в одном мгновенье видеть вечность», а разрыв времени на мгновения, его разделение на меры – ложно. Балтрушайтис также пишет о делении времени как о раздробленности мировой гармонии:
И что ни доля, то – дробленье
Невозвратимой полноты…
И каждый-каждый, судя строго,
Своим случайным часом жив,
Отторгнув грудь свою от Бога,
Себя от мира отделив! [там же, 142].
Стихотворение «Комары» во многом повторяет идею блейковского «The Fly»: подобно насекомым, люди охвачены бездумным круженьем:
Пляшет в меркнущем пожаре
Рой вечерних комаров…
Сколько в мире бренной твари,
Богом замкнутых миров!
Как и я, служа мгновенью,
Протянувшись ввысь столбом,
Вьются мошки легкой тенью
В небе бледно-голубом… [там же, 152].
В последнем сборнике поэта, так и не изданном при жизни: «Лилия и серп» – углубляется авторская мифология, звучат эсхатологические ноты. Так, к образу блейковского титана Лоса, кузнеца и пахаря, создающего солнце, напрямую отсылает стихотворение «Хвала рабам»:
Ты средь людей один венца достоин,
Что вырыл плугом солнце из земли [там же, 195].
Этот же образ подневольного демиурга-труженика появляется и в стихотворении «Молот» (отметим близость образного ряда и риторической формы со стихотворением Блейка «Тигр»):
И, содрогаясь в трудных лучах,
Тратя во тьме ли свой жар,
Знал ли, что Богу каждый был взмах,
Каждый удар? [там же, 201].
Балтрушайтис подходит к обожествлению труженика в стихотворениях «Кузнец» и «Зодчим Нови», где повторяется строка «И – да святится Молот твой!». Очевидно, что у Блейка образ пахаря и кузнеца имеет более мифологическое измерение, чем социальное; однако Балтрушайтис так же ведет своих тружеников к великой жатве Страшного суда, как и Блейк:
Свершится мера трепета и бега,
И вы, изведав тень земной зари,
Войдете в свет на брачный пир Ночлега —
Поденщики, жнецы и косари! [там же, 196].
Концепция искусства, по Балтрушайтису, связана с идеей жертвенности (в этом он наследует В. С. Соловьеву с его концепцией «жертвы жизни»); эта жертвенность оказывается связана с идеей поэтического пророчества, ярко выраженной в стихах Блейка. В эссе «Жертвенное искусство» Балтрушайтис пишет: «искусство осуществляется только тогда, когда душа создающего – в деянии творчества и через своё творческое деяние – вовлекается в жертвоприношение себя тайне мира, неизреченной воле вселенской, в жертвенное забвение себя и в жертвенное отречение от себя, целостно и слепо предавая свою одинокую отдельность Неведомому зодчему мира» [Балтрушайтис, 1918–1921, 223].
Кроме того, принципиальным основанием для некоторого единства тематики и поэтики в стихах Блейка и Балтрушайтиса является глубокая религиозность авторов, связанная не в последнюю очередь с переосмыслением роли поэта в построении мира, его искуплении и спасении. Духовный странник, центральный герой лирики Балтрушайтиса, родствен образу Блейка-поэта, который всю жизнь горячо сражался с мельницами непонимания и выстраивал свой странный и страстный мифологический мир.
Несмотря на то, что Блейк был воспринят в дореволюционной России прежде всего как поэт, есть предположения и о его влиянии как художника. Так, Т. Тютвинова указывает на вероятное влияние Блейка-художника на творчество Михаила Ле-Дантю (Ледантю) (1891–1917), в частности, на его картину «Женщина и мужчина» (1910), особенно в композиции и стиле изображения обнаженного тела [Tiutvinova, 2019, 544]. Также она указывает на возможное влияние Блейка на творческую манеру Василия Денисова (1862–1922).
Таким образом, можно утверждать, что на рубеже XIX и XX веков, в эпоху Серебряного века, Блейк оказался актуальным автором, его поэтическое творчество было осмыслено как современное, символистское по своей сути. О нем писали в критике, его переводили, с ним вступали в творческий диалог видные деятели русской культуры, прозаики и поэты.
Анонимный перевод из Блейка в 1912 году: загадка инициалов В. Э.
В 1913 году, опубликовав в журнале «Аполлон» рецензию на «Антологию современной поэзии» (из серии «Чтец-декламатор», Киев, 1912), Гумилев писал: «Указанием недостатков этой в общем приятной книги я и займусь, чтобы читатель мог пользоваться ею, не рискуя попасть впросак. <…> В английском отделе нет ни Китса, ни Стивенсона, ни Теннисона, ни Браунинга, и в то же время есть гораздо более ранний поэт – Блейк» [Гумилев, 2006, 151]. Эта фраза Гумилева помогла отыскать малоизвестные переводы из наследия романтика, не упомянутые в известных нам библиографиях.
Серия «Чтец-декламатор» издавалась в Киеве в 1908–1914 годах. Интересующий нас том, «Антология современной поэзии», стал четвертым в серии. В этом издании были опубликованы переводы трех произведений Блейка. Один из них («Ночь») – в переложении Константина Бальмонта; два, отрывки из «Прорицаний невинности» и «Посвящение» (Dedication of the Designs to Blair's 'Grave'), подписаны инициалами В. Э.
Загадка этих инициалов, однако, не слишком сложна. Не вызывает сомнений, что за ними скрывается Владимир Юрьевич Эльснер (1886–1964). Молодой поэт, известный потомкам в основном как один из шаферов на свадьбе Ахматовой и Гумилева, жил до революции в Киеве и служил письмоводителем и соредактором в редакции «Чтеца-декламатора». Он был другом Гумилева и во многом ориентировался на него в своем творчестве [Мощенко, 2015, 87]. Он издавал собственные стихи, стал одним из первых переводчиков на русский «Пьяного корабля» Рембо и выпустил книгу переводов из немецкой лирики, – довольно точных, хотя и несовершенных и часто неполных. Как писал современник, «Эльснер был любитель западноевропейской культуры, преимущественно немецкой, и имена поэтов современных и старых (Рильке, Стефана Георге, Роденбаха, Новалиса и Тика, Бальдунга Грина, Лохнера и Босха) не сходили с его уст» [Жегин, 1997, 183].
Владимир Эльснер отвечал за выпуск четвертого тома «Чтеца-декламатора», где появились переводы из Блейка. Опубликованный в 1909 году, этот том «Антологии» был переиздан в 1912-м, будучи существенно расширенным за счет переводов Эльснера. В основном он переводил в прозе, создавая своего рода поэтизированные подстрочники.
Несмотря на то, что Эльснер отдавал предпочтение французскому и немецкому, он переводил и с английского. Так, за подписью «В. Ю. Эль-р» появились два его перевода из Суинберна, которые оцениваются как небезуспешные: «созданный В. Ю. Эльснером перевод, несмотря на его прозаическую форму и отдельные избыточные вольности интерпретатора, не до конца понявшего некоторые трудные места в суинбёрновском произведении, достаточно полно передавал как содержательную сторону подлинника, так и его эмоциональную насыщенность» [Комарова, 2013, 160–161]. Таким образом, Эльснер эпизодически переводил и английскую лирику, и можно практически с уверенностью утверждать, что переводы из Блейка в четвертом томе «Чтеца-декламатора» принадлежат именно ему.
Блейка, как и Суинберна, Эльснер переводит в прозе. Он выбрал для перевода сравнительно малоизвестные тексты, хотя первое четверостишие «Прорицаний невинности» стало своего рода символом поэзии Блейка и даже, по формулировке А. М. Зверева, «афористической формулировкой сущности романтизма» – то самое, где, в переводе Маршака, «в одном мгновенье видеть вечность…». Впрочем, этот катрен Эльснер для перевода не берет.
Как и Маршак, который будет переводить «Прорицания невинности» позднее, Эльснер делает выборочный перевод двустиший этого цикла. Точный авторский порядок в цикле не установлен. И Маршак, приступая к переводу, писал: «Это дает и мне право расположить их в том порядке, который представляется мне наиболее естественным и разумным» [Маршак, 1969, 602].
Заслуживает интереса выбор текстов для перевода. Эльснер выбирает в основном строки условно экологической тематики, где утверждается единство природного и человеческого мира. Афористические фразы Блейка отсылают к притчам Соломоновым (к которым восходят и «Притчи ада» из знаменитой поэмы «Бракосочетание рая и ада»); но, пользуясь старыми дидактическими формами, романтик вкладывает в них пророчески-гневное содержание.
Приведем небольшой по объему перевод полностью.
Пророчества невинности
Красногрудая малиновка в клетке приводит небеса в ярость.
Собака, замерзшая у хозяйской двери, предсказывает гибель городу.
Боевой петух, приготовленный к бою, устрашает восходящее солнце.
Каждый стон затравленного зайца вырывает волокно из твоего мозга.
Жаворонок, раненый в крыло, заставляет умолкнуть херувимскую песнь.
Кто мучит живую душу жука, сплетает темную сень в нескончаемую ночь.
Дикий олень, бродя здесь и там, охраняет человеческую душу от горестей.
Накорми собаку нищего и кошку вдовы, и тебе все пойдет впрок.
Мычанье, лай, вой и рев – волны, ударяющие в берега неба.
Летучая мышь, порхающая поздним вечером, – жилица неверующего сознания.
Яд змеи и саламандры – пот с ноги Зависти.
Ревнивая зависть художника – яд медовой пчелы.
Самый сильный из когда-либо изведанных ядов рожден лавровым венком цезаря.
Лохмотья нищего, развевающиеся по ветру, разрывают небеса в клочья.
Копейка, зажатая в руке рабочего, властна купить и продать владения скупца.
Зов проститутки из улицы в улицу – пусть будет соткан саван старой Англии.
Радость игрока, проклятие проигравшего будут плясать у катафалка мертвой Англии.
Кто осмеет веру ребенка, да будет тот осмеян в старости и при смерти.
Если бы солнце и луна сомневались, – они тотчас потухли бы [Блэк, Пророчества… 1912, 49–50].
Не скованный, в отличие от более известных переводчиков Блейка, требованиями рифмы и размера, Эльснер переводит достаточно близко к тексту – и вместе с тем зачастую слишком прямолинейно, грубовато. Кое-где случаются и вовсе казусы: так, во второй фразе в оригинале написано «starvd», оголодавший – то есть собака у Блейка не «мерзнет», а голодает. Немало примеров излишне буквального прочтения – например, «сплетает темную сень в нескончаемую ночь» как перевод «Weaves a Bower in endless Night».
Вместе с тем переводы Эльснера, в силу самой своей точности, дышат той простотой и пророческой страстью, которой порой так не хватает поэтизированному переводному Блейку. Сравнить только подстрочник Эльснера: «Каждый стон затравленного зайца вырывает волокно из твоего мозга», – и не совсем благозвучное двустишие Маршака: «Заяц, пулей изувечен, / Мучит душу человечью». Достаточно точен и следующий перевод: «Зов проститутки из улицы в улицу – пусть будет соткан саван старой Англии» – в то время как Маршак нивелирует смелую метафору: «Крик проститутки в час ночной / Висит проклятьем над страной». Так же буквален по смыслу перевод: «Кто осмеет веру ребенка, да будет тот осмеян в старости и при смерти», – в то время как Маршак смягчает суровый приговор романтика: «Смеющимся над детской верой / Сполна воздастся той же мерой». Или, скажем, двустишие, которое Эльснер переводит дословно: «Лохмотья нищего, развевающиеся по ветру, разрывают небеса в клочья», – Топоров передает совсем неверно, с подменой понятий: «Платье нищего убого, / Но не лучше и у бога».
Вполне добротным подстрочником предстает и «Посвящение» (в оригинале – To the Queen [Dedication of the Illustrations to Blair's «Grave»]). Это посвящение появилось в 1808 году в издании «Могилы» Блэра, одним из подписчиков которого была королева Шарлотта. Публикуемый перевод стихотворения на русский язык на много лет останется единственным, хотя и забытым – вплоть до переводов Виктора Топорова и Дмитрия Смирнова-Садовского, опубликованных уже в начале XXI века.
Посвящение
Смерти дверь – вся золотая,
Очи смертных ее не видят.
Когда же смертные очи сомкнутся
H бледное тело похолодеет,
Душа пробуждается, зря изумленно
В нежных руках золотые ключи.
Могила – небес золотые врата,
У них ожидают богатый и бедный.
Народа английского мать-королева,
Взгляни на злато-жемчужные врата.
Чтоб посвятить королеве английской
Моей души золотые виденья,
Чтоб принести, если дозволит,
То, что я нес на торжественных крыльях
Из необъятных владений могилы,
Колеблю я перед троном крыло,
Низко клонясь к ногам королевы.
Могила родила эти цветы
В безмятежном покое —
Цветы вечной жизни [Блэк, Пророчества… 1912, 50].
Выбор текстов для перевода позволяет предположить, что Эльснер пользовался одним из двух популярных изданий работ Блейка, где были опубликованы и «Auguries of Innocence», и «Dedication…». Это либо сборник под редакцией У. Б. Йейтса (1893; 1905), либо издание под редакцией Джона Сэмпсона (Oxford, 1905).
Напомним, в русском альманахе эти переводы стоят после перевода «Ночи» Бальмонта, и в таком соседстве прозаические переложения В. Э. выглядят неловкими. Он использует неоднородную по стилю, порой архаичную лексику, тяжелые синтаксические конструкции. Однако Эльснер остается одним из первых переводчиков Блейка на русский язык; он сохраняет в своих прозаических переложениях яркую, физиологичную образность оригинала, – впервые Блейк так образно и сильно говорит по-русски.
Таким образом, в историю русской рецепции Блейка должно быть вписано имя поэта Владимира Эльснера, который стал одним из его первых русских переводчиков.
Блейк и Гумилев:
духовные странники
Тема творческого диалога между Николаем Гумилевым и Уильямом Блейком практически не затрагивалась в литературоведении. Свидетельства интереса Гумилева к Блейку до настоящего времени были рассыпаны в отдельных примечаниях, дневниках, переписке. А между тем творчество Блейка-поэта было для Гумилева (во всяком случае, позднего) важной составляющей поэтической вселенной.
Когда именно Гумилев познакомился с английским романтиком и заинтересовался им, точно неизвестно. Однако в 1913 году он уже достаточно знает о Блейке, чтобы отделить его имя от имен писателей конца XIX века [Гумилев, 1913, 72]. Вероятнее всего, более глубокое знакомство Гумилева со стихами английского романтика, уже в оригинале, произошло в 1917–1918 годы, во время его визитов в Лондон, где он общался с такими поклонниками и популяризаторами творчества Блейка, как Борис Анреп и Уильям Батлер Йейтс.
Ахматова отмечает в записной книжке 1966 года сходство «Памяти» Гумилева (1920) и отрывка из поэмы Блейка «Мильтон»:
«См. Блейк. Стр. 29[88]88
Скорее всего, отсылка к 29 странице первого сборника Блейка на русском [Блейк, 1965]. Именно на этой странице, во вступительной статье В. М. Жирмунского, процитирован знаменитый отрывок из поэмы «Мильтон» в переводе С. Я. Маршака:
Мой дух в борьбе несокрушим,Незримый меч всегда со мной.Мы возведем ЕрусалимВ зеленой Англии родной.
[Закрыть]. Сравнить „Память“ Гум<илев>а.Блейк
Мы возведем Ерусалим
В зеленой Англии родной
Гум<илев> („Память“)
Стены нового Ерусалима
На полях моей родной страны» [Ахматова, 1996, 706].
Об этой перекличке в 1958 году Ахматовой сказал Вячеслав Иванов (и сам переводивший Блейка); она посчитала его допущение возможным, «тем более что к тому времени, после поездки в Англию, Гумилев уже знал английский язык и читал английских поэтов» [Иванов, 2000, 234]. Гумилев действительно читал Блейка, и как раз в этот период: Г. В. Иванов вспоминает, как Гумилев, вернувшись в большевистскую Россию, «вставал поздно, слонялся полуодетый по комнатам, читал то Блэка, то „Мир приключений“, присаживался к столу, начинал стихи…» [Иванов, 1989, 444] (рис. 7).

Рисунок 7. Николай Гумилев. 1921. Фото Моисея Наппельбаума.
Дневниковые записи современников Гумилева показывают, что он увлекался не только лирикой Блейка (как большинство его русских современников), но и стремился прочесть его «пророческие поэмы». Процитируем отрывок из дневниковой записи Ирины Одоевцевой, относящейся примерно к 1920 году:
«Но мне доказать, что Гумилев „не ошибся“ во мне, было иногда не по силам. Так, однажды он достал с полки том Блейка и протянул его мне. С Блейком я была знакома с детства и собиралась уже удивить Гумилева своими познаниями:
– Tiger, tiger in the wood…[89]89
Здесь Одоевцева допускает ошибку в цитировании известного стихотворения Блейка.
[Закрыть] – начала я.
Но Гумилев, не обратив внимания на „тайгера“, открыл книгу.
– Вот тут я не совсем понимаю. Вы лучше знаете английский, чем я. Читайте вслух и переводите.
И я послушно стала читать. Я читала и ничего не понимала. Какие-то философские термины, какие-то математические исчисления, извлечение корней – тут же нарисованных. Отдельные понятные слова в непонятном сочетании. Я с трудом прочла полстраницы и остановилась.
– Ну, переводите же!
– Не могу, Николай Степанович. Я ничего не понимаю.
– Почему же вы не понимаете?
– Оттого, что слишком сложно. Я даже не поняла, о чем это.
Гумилев разочарованно развел руками и свистнул.
– Вот так-так! Значит, вы невежественны, как карп?
Я киваю.
– Даже невежественнее карпа, по-видимому, – ничего не понимаю.
– А я всегда был уверен, что поэты самые умные из людей и что философию они постигают, не учась ей. Что ж, я, по-видимому, ошибся. Я очень ошибся в вас.
Я мигаю обиженно и морщу нос» [Одоевцева, 1988, 51–52].
Действительно, Гумилев в советской России – это Гумилев, читающий кроме всего прочего и Блейка. Очевидно, в пророчествах английского романтика его привлекало стремление охватить поэтическим смыслом, освоить, структурировать в слове бег неумолимой истории. Эту близость почувствовал и отметил Г. П. Струве: «кроме стихов „магических“, в „Огненном столпе“ целый ряд стихотворений в совершенно новом для Гумилева духе, стихотворений, отличительная черта которых – то визионерство, те касания к неведомому, к непознаваемому, которые Гумилев-акмеист когда-то как будто осуждал в поэзии символистов. <…> Тут можно говорить уже о влиянии <…> английского поэта-визионера Уильяма Блэйка, с поэзией которого Гумилев несомненно познакомился в свое последнее пребывание на Западе» [Струве, 2000, 578]. О некотором внутреннем творческом родстве поэтов пишет и Вяч. Вс. Иванов: «Отказ Гумилева от риторической поэзии, завещанной XIX веком, не случаен: он и по сути хотел отказаться от многого в завещании этого столетия, оттого искал себе новых путеводителей. Возможно, одним из них был Блейк <…> Блейк был сродни той новой стихии прозрений и озарений, которая в пору восприятия „оттуда льющегося света“ охватила Гумилева» [Иванов, 2000, 233–234].
Несомненно, в диалоге Гумилева и Блейка нужно учесть слова Гумилева, написанные для неосуществленной «Теории интегральной поэтики» в его последние годы (то есть в те же годы, когда он читал Блейка): «Поэт в минуты творчества должен быть обладателем какого-нибудь ощущения, до него не осознанного и ценного. Это рождает в нем чувство катастрофичности, ему кажется, что он говорит свое последнее и главное, без познания чего не стоило земле и рождаться. Это совсем особенное чувство, наполняющее иногда таким трепетом, что оно мешало бы говорить, если бы не сопутствующее ему чувство победности, сознание того, что творишь совершенные сочетания слов, подобные тем, которые некогда воскрешали мертвых и разрушали стены» [Гумилев, 2006, т. 7, 236]. Такое мессианское понимание дела поэта близко пророческой природе поэзии в мире Блейка.
В то же время в текстах Гумилева аллюзий на Блейка отмечено комментаторами совсем немного. Ряд перекличек с поэмой Блейка «Auguries of Innocence» обнаружено в стихотворении «Мой час» (1919); комментарии к ПСС издательства «Воскресенье» составляли при участии Майкла Баскера, Ю. В. Зобнина и др. [Гумилев, 2001, т. 4, 259–260]. Нужно признать, что именно здесь параллели весьма неочевидные. Знаменитое открывающее четверостишие Блейка находит мало параллелей в стихотворении «Мой час». Ср.
To see a World in a Grain of Sand
And a Heaven in a Wild Flower
Hold Infinity in the palm of your hand
And Eternity in an hour [Blake, 1988, 490].
И у Гумилева:
Вот час, когда я всё могу:
Проникнуть помыслом к врагу
Беспомощному и на грудь
Кошмаром гривистым скакнуть. <…>
Но тихо в мире, тихо так,
Что внятен осторожный шаг
Ночного зверя и полет
Совы, кочевницы высот. [Гумилев, 2001, т. 4, 60].
Образ совы имеет весьма разные коннотации: у Блейка это аллегория неверия «The Owl that calls upon the Night / Speaks the Unbelievers fright», у Гумилева – просто высоты: «полет / Совы, кочевницы высот».
Может быть, можно прочесть гумилевское «ни ночи нет, ни утра нет» как аллюзию на строки:
Every Night & every Morn
Some to Misery are Born
Every Morn & every Night
Some are Born to sweet delight
Some are Born to sweet delight
Some are Born to Endless Night [Blake, 1988, 492],
– однако это кажется некоторой натяжкой. И в целом утверждение комментатора о «ряде реминисценций» не находит достаточного текстуального подтверждения при сопоставительном анализе двух текстов.
Однако есть у Гумилева и стихи, напрямую указывающие на Блейка или, в заметной степени, учитывающие опыт его «пророческого» обобщения реальности в мифологических опытах. Гумилев, вероятно, осознавал новизну подхода Блейка к эпосу: «Изменение эпической поэзии после Блейка связано еще и с тем, что неотъемлемым элементом такого эпоса становится современность» [Кукулин, 2013, www] – как и у Гумилева в его поздних стихах. Если говорить о возможном творческом диалоге с Блейком-философом, Блейком-мифографом, то в этом свете можно по-новому увидеть такие стихи Гумилева 1919–1921 годов, как «Естество», «Душа и тело», «Слово», «Заблудившийся трамвай», «Память», «Канцона», «Звездный ужас», «Дева-птица», «Поэма начала».
Так, в стихотворении «Память», открывающем последний сборник Гумилева «Огненный столп», явная аллюзия на Блейка появляется в 12-м четверостишии:
Сердце будет пламенем палимо
Вплоть до дня, когда взойдут, ясны,
Стены Нового Иерусалима
На полях моей родной страны [Гумилев, 2001, т. 4, 92].
Стихотворение Блейка, известное как «Иерусалим» – это один из прологов к его пророческой поэме «Мильтон». Это стихотворение содержит призыв к построению Иерусалима (нового, «небесного» Иерусалима) на земле родины:
I will not cease from Mental Fight,
Nor shall my Sword sleep in my hand:
Till we have built Jerusalem,
In Englands green & pleasant Land [Blake, 1988, 95–96].
Однако для более точного проникновения в смысл аллюзии контекст необходимо расширить: идейно-образная перекличка двух текстов шире, чем простое цитирование двух строк.
Стихотворение Гумилева посвящено проблеме духовной эволюции, перерождения личности в течение жизни. Цитируемый катрен относится к последней «стадии» развития личности: это «угрюмый и упрямый зодчий / Храма, восстающего во мгле». Поэзия рассматривается здесь как строительство Храма, истинного обиталища духа и Нового Иерусалима – образ апокалиптический. Апокалиптические аллюзии пронизывают всю книгу «Огненный столп», что неслучайно в контексте исторических событий. Очевидно, последняя «ипостась» личности лирического героя во многом совпадает с лирическим героем «Иерусалима» Блейка.
Блейк как автор «пророческих книг» воссоздает мировую историю, крайними точками которой оказываются сотворение физического мира и человека (= грехопадение) и Апокалипсис (= избавление). Современное состояние мира Блейк-эпик видит как более или менее «падшее» (Fallen). Но как историк-мифолог, он помнит о былом величии и о будущей славе тварного мира. Именно этим чувством рожден «Иерусалим».
В стихотворении воссоздается апокриф о том, что в Англии бывал Христос: «And did those feet in ancient time, / Walk upon Englands mountains green: / And was the holy Lamb of God, / On Englands pleasant pastures seen!» Блейк говорит о том, что это святое наследие разрушено потомками с помощью «темных мельниц Сатаны»: «And was Jerusalem builded here, / Among these dark Satanic Mills?» Далее лирический герой призывает все свое «духовное вооружение»:
Bring me my Bow of burning gold:
Bring me my Arrows of desire:
Bring me my Spear: О clouds unfold!
Bring me my Chariot of fire! [Blake, 1988, 95].
С этим «воинственным» арсеналом соотносится образ воина у Гумилева – тем, кто ведет «священный долгожданный бой». Образ «колесниц огненных» – из Ветхого Завета: огненные кони уносят на огненной колеснице пророка Илию, живым возносят его на небо. И «луки из горящего золота», и «стрелы страстей» – вероятные первообразы для строки из «Памяти» Гумилева: «Сердце будет пламенем палимо».
Но если «гимн» Блейка заканчивается стремлением «построить Иерусалим» духа, то у Гумилева это строительство – лишь часть духовной биографии лирического героя, после которого случается нечто апокалиптическое: «расцветание» Млечного Пути и следующее «обновление» / смерть души героя.
Эпический размах «пророческих поэм» слышится в стихотворении «Естество» (1919). Мир в этом стихотворении как будто деградирует; совлеченный с природы «покров» (у Блейка есть синонимичная мифологема «Vail») обнажает ее древнейшую, вещно-хтоническую сущность. «В этих медленных, инертных / преображеньях естества» слышится отголосок бесконечных метаморфоз, происходящих с героями-титанами Блейка. И образ поэта, который
единый в силе
Постичь ужасный тот язык,
Которым сфинксы говорили
В кругу драконовых владык [Гумилев, 2001, т. 4, 63],
– тоже весьма близок к блейковскому пониманию поэзии как пророчества, поэзии как магии слова.
Лирический герой обращается к поэту:
Стань ныне вещью, Богом бывши,
И слово вещи возгласи,
Чтоб шар земной, тебя родивший,
Вдруг дрогнул на своей оси [Гумилев, 2001, т. 4, 63].
У Блейка земной шар трясется, сотрясенный брошенной скалой, в «Книге Ахании»:
The globe shook; and Urizen seated
On black clouds <…> [Blake, 1988, 86].
Этот образ поэта-барда, который проникает в суть вещей, и некоего изначального слова, – едва ли не реминисценция на строки «Введения» в «Песни опыта»:
Hear the voice of the bard!
Who Present, Past, & Future sees
Whose ears have heard,
The Holy Word,
That walk'd among the ancient trees [Blake, 1988, 18].
И далее, Бард восклицает, пытаясь потрясти земной шар, вернуть его вспять:
О Earth О Earth return! [ibid.]
Необычный блейковский образ древнего «Святого Слова», Holy Word, весьма вероятно, является источником и для «Слова» Гумилева, в котором развивается тема, затронутая в «Естестве»:
В оный день, когда над миром новым
Бог склонял лицо свое, тогда
Солнце останавливали словом,
Словом разрушали города. <…>
И в Евангелии от Иоанна
Сказано, что слово – это Бог [Гумилев, 2001, т. 4, 67].
Мотивы и образы Блейка прослеживаются и в стихотворении «Душа и тело» (1919). Этот мини-цикл из трех стихотворений, во-первых, отсылает к системе противопоставлений в «Песнях невинности и опыта»; во-вторых, Блейк также задумывался над противопоставлением души и тела и трактовал его необычно [Blake, 1988, 64].
Переклички наблюдаются не только в творческой вселенной Блейка и Гумилева, но и в некоторых теоретических соображениях. Так, для нового литературного течения Гумилев придумал названия «адамизм» и «акмеизм». Первый термин, библейского происхождения, связан с образом Адама, весьма значимым в авторской мифологии Блейка. Правда, у Блейка этот образ связан с «вегетативным», низшим существованием; для Гумилева Адам значит нечто принципиально иное.
«Вот Я повелеваю тебе: будь тверд и мужествен, не страшись и не ужасайся; ибо с тобою Господь, Бог твой, везде, куда не пойдешь» (Нав 1, 9; см. также 1, 6–7) – эти строки из книги Иисуса Навина с «адамизмом» Гумилева первым связал, полушутливо, Р. Эшельман в 1986 году [Зобнин, 2000, 90]. Ю. Зобнин уточняет, что адамизм Гумилева, или «твердая» и «мужественная» поэзия – это позиция Адама до грехопадения, того, кто в своем мощном даровании и мудрости давал имена всему на земле: «Термин Гумилева в этом контексте приобретает ограничительный смысл: не всякое „твердое и мужественное“ мироощущение может стать основанием для акмеистического мировоззрения, а только такое, где источником „твердости и мужественности“ является вера, подобная первобытной вере Адама, еще не пораженного грехом» [там же]. Правда, вывод Ю. Зобнина о том, что адамизм – это «воцерковленный взгляд» [там же, 89], представляется некоторой натяжкой, вернее, некоторым сужением мысли поэта. Вероятно, для Гумилева была важнее изначальная сила Адама как поэта-демиурга, нарекающего первые и истинные имена всему живущему (ср. поэтическую концепцию творения мира в стихотворении «Слово»).
Визиты Гумилева в Лондон в 1917 и 1918 годах были важны для понимания его увлечения Блейком: там он проводил время с Борисом Анрепом, который ввел его в артистические и литературные круги Лондона. Гумилев оставляет у Анрепа записные книжки, награды и некоторые рукописи; этот архив потом будет передан Глебу Струве. Анреп был поклонником и считал себя последователем Блейка: его поэтические и художественные опыты, создание рукописной книги явно говорят об этом.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?