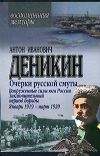Текст книги "Уильям Блейк в русской культуре (1834–2020)"

Автор книги: Вера Сердечная
Жанр: Культурология, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 8 (всего у книги 23 страниц) [доступный отрывок для чтения: 8 страниц]
Важнейший документ, подтверждающий серьезное внимание Гумилева к наследию Блейка, до сих пор, насколько нам известно, не введен в научный оборот. Вернее, в комментариях к собранию сочинений Гумилева издательства «Воскресение» указано, что он переводил поэму Блейка «The Mental Traveller» [Гумилев, 2001, т. 4, 309], однако сам текст перевода в изданных томах не приводится, и более нигде как перевод до данного момента не значится. Между тем, рукописный перевод первой части поэмы «The Mental Traveller», «Духовный странник» (без указания автора оригинала), хранится в Музее Анны Ахматовой в Фонтанном Доме (МА ф. 20, оп. 1, д. 6.; см. рис. 8).

Рисунок 8. Николай Гумилев. «Духовный странник». 1919–1921
Дата не проставлена.
Мы предлагаем расшифровку этого перевода, с соблюдением требований современной орфографии и пунктуации.
Сложности точного воссоздания текста связаны с неразборчивостью почерка Гумилева и с тем, что данный фрагмент существует, насколько нам известно, в единственном экземпляре. При воссоздании текста мы опирались как на текст перевода, так и на много подсказавший английский оригинал. Даже рискуя ошибиться в транскрипции ряда слов, мы считаем важным представить этот яркий, хотя и явно черновой, перевод, спустя почти столетие, – в сопоставлении с оригиналом.
Упоминание об этой рукописи Гумилева встречается в мемуарах П. Н. Лукницкого. В записи от 19 ноября 1925 года говорится: «АА [Анна Ахматова] и Пунин сели на диван. Я стал разбирать автографы Николая Степановича и дал АА автограф „Духовный странник“, разобранный мной сегодня. АА не соглашалась с моим чтением одной и строчек („Какие спели во слезах“), сказав, что правильно: „Какие сеяли в слезах…“ Одно слово так и осталось неразобранным. Пунин долго вертел в руках листок, но и он не разобрал этого слова» [Лукницкий, 1991, www]. Насколько понятно из этой дневниковой записи, «Духовный странник», разбираемый спустя несколько лет после смерти Гумилева, воспринимался как оригинальное стихотворение (иначе было бы логично сверять его с оригиналом Блейка, где в соответствующей строке сказано: «Which we in bitter tears did sow»). Возможно, Ахматова распознала как аллюзию тот стих Библии, который перефразирует здесь Блейк: «Сеявшие со слезами будут пожинать с радостью» (Пс. 125:5).
Впоследствии рукопись попала к М. С. Лесману. В описании его букинистического собрания есть и перечень рукописей, где, в частности, значится среди рукописей Гумилева: «„Духовный странник“ („Я странствовал среди мужчин…“). Б. д. Беловой автограф. 1 л.)» [Лесман, 1989, 296]. Таким образом, уже к Лесману попал только один листок данного перевода.
Оригинал У. Блейка[90]90
Стихотворение приведено по [Blake / Yeats, 1905, 125]. С большой вероятностью Гумилев, лично знакомый с Йейтсом, мог работать именно с этим изданием. В этом издании Йейтса впервые (после издания Гилкриста/Россетти и Йейтса/Эллиса) строфы стихотворения не пронумерованы. Также в данном издании редактор убирает выделение прописными буквами, что мы наблюдаем и в переводе. Однако в издании Йейтса 1905 года по сравнению с рукописным оригиналом Блейка несколько «выправлены» орфография и пунктуация. Также в издании 1905 года первые семь четверостиший стихотворения занимают как раз одну страницу.
[Закрыть]
The Mental Traveller
I travelled through a land of men
A land of men and women too;
And heard and saw such dreadful things
As cold earth wanderers never knew.
For there the babe is born in joy
That was begotten in dire woe;
Just as we reap in joy the fruit
Which we in bitter tears did sow.
And, if the babe is born a boy,
He's given to a woman old,
Who nails him down upon a rock,
Catches his shrieks in cups of gold.
She binds iron thorns around his head,
She pierces both his hands and feet,
She cuts his heart out at his side,
To make it feel both cold and heat.
Her fingers number every nerve,
Just as a miser counts his gold;
She lives upon his shrieks and cries,
And she grows young as he grows old.
Till he becomes a bleeding youth
And she becomes a virgin bright,
Then he rends up his manacles,
And binds her down for his delight.
He plants himself in all her nerves
Just as a husbandman his mould,
And she becomes his dwelling-place
And garden fruitful seventy-fold.
…
Перевод Н. Гумилева
Духовный странник
Я странствовал среди мужчин,
Среди мужчин и женщин, да,
И видел ужас, о каком
Никто не слышал никогда.
Дитя там в счастье рождено,
Зачатое в чумных (?)скорбях,
Так мы с восторгом рвем плоды,
Какие сеяли в слезах.
И если мальчик то дитя,
Оно старухе отдано,
Та пригвоздит его к скале
И выпьет стоны, как вино.
Скует ему стальной венец,
Ладони и ступни пронзит,
И сердце, вырвав из груди (?),
Согреет и охолодит.
И сосчитает каждый нерв,
Как скряга [нрзбр.]
И молодеет с каждым днем,
Тогда как стареется он.
Но вот он юношею стал,
И стала девушкой она,
Теперь надел он кандалы,
И ей душа его верна.
В нее он бросит все мечты,
Как пахарь семя в чернозем,
Она ему цветущий сад,
Она ему родимый дом.
Данный перевод не упомянут в диссертациях, посвященных Гумилеву, по смежным темам [Устиновская, 2016; Шабанова, 2008; Дерина, 2009], и не отражен в научной прессе, а также в монографиях. Таким образом, можно с уверенностью говорить о том, что в научный оборот должен быть введен такой значительный факт рецепции Блейка в русской культуре начала XX века, как перевод Гумилевым первых семи четверостиший поэмы Блейка (возможно, что дальнейшие страницы данного перевода просто не сохранились – либо же еще могут быть найдены). У оригинала «Духовного странника» и его перевода схожая судьба: поэма Блейка также десятки лет оставалась в рукописи (в так называемом «Манускрипте Пикеринга»). Написанная в 1803 году, она была впервые опубликована 60 лет спустя, приложением к биографии Блейка авторства Александера Гилкриста [Gilchrist, 1863, v. 2, p. 98–102].
Почему Гумилева заинтересовал именно этот текст Блейка? Духовное странничество, возвращение в «Индию Духа», которое есть возврат в райский сад, – сквозная тема поэзии Гумилева. Однако у Блейка его могло в этот период заинтересовать стремление эпически обобщить историю как таковую, нарисовать циклическую схему развития и увядания: историософия не могла не интересовать Гумилева, вернувшегося в большевистскую Россию.
Поэмой Блейка восхищался Йейтс, с которым Гумилев познакомился в Лондоне. Йейтс писал: «„Духовный странник“ – это одновременно солнечный миф и история Воплощения. Это также образ времени и пространства, любви и нравственности, воображения и материализма <…>. Таким образом, мысли и мыслитель растворяются друг в друге, труды искусства и опыт любви становятся вратами, через которые духовное проникает в индивидуальное, а индивидуальное – проникается духовным»[91]91
«The Mental Traveller is at the same time a sun-myth and a story of the Incarnation. It is also a vision of Time and Space, Love and morality, Imagination and materialism <…> Thus the thoughts and the thinker melt into one another, the labours of art and the experience of love being the gates through which the mental passes to the personal, and the personal to the mental».
[Закрыть] [Blake, 1893, v. 2, p. 34–36]. Эта история всеобщего взаимопроникновения должна была волновать Гумилева, который вскоре напишет свои самые сильные, глубокие и загадочные стихи.
Этот перевод мог быть выполнен около 1919 года. Именно тогда Гумилев, вернувшийся из Лондона, активно занимался переводами с английского, сотрудничая во «Всемирной литературе»: он переводил стихи Колриджа и Саути, баллады о Робин Гуде, входил в специальную коллегию издательства по стихотворным переводам. В 1919 году в проспекте «Всемирной литературы» все еще планируется издание книжки стихов Блейка [Каталог, 1919, 61]. Как писал в сопроводительной статье М. Горький, «решительно вступая на путь духовного единения с народами Европы и Азии, русский народ во всей его массе должен знать особенности истории, социологии и психики тех наций и племен, вместе с которыми он ныне стремится к строительству новых форм социального быта» [там же, 9].
В качестве переводчика стихотворений Блейка могли предполагаться три автора. Первый – К. Д. Бальмонт, наиболее известный переводчик Блейка на тот момент, который упомянут в каталоге как один из редакторов [там же, 167]. Второй вероятный кандидат – С. Я. Маршак, который присылал Горькому свои переводы из Блейка и говорил о намерении издать их в книге еще в 1915 году [Маршак, 1972, 83]. И, наконец, – Гумилев, который был упомянут в Каталоге как один из экспертов редакционной коллегии (наряду с Блоком, Замятиным, Лозинским, Чуковским и др.) [Каталог, 1919, 167] и активно работал с переводами с английского. Однако глава «Всемирной литературы» Горький недолюбливал Блейка из-за его «мистичности» [Чуковский, 2013, т. 12, 371; т. 13, 380], и об издании книги его переводов в СССР надолго нужно будет забыть.
Перевод Гумилева, выполненный по понятным причинам не позднее 1921 года, оказывается первым известным опытом перевода поэмы «Thе Mental Traveller» на другой язык. Следующим будет перевод на французский, авторства Августа Мореля и Анни Эрвье, опубликованный в журнале «Navire» в 1925 году; в 1935 году поэму переведет на испанский Пабло Неруда, и так далее.
На русский язык «The Mental Traveller» был переведен вновь только спустя полвека. Переводили его под разными названиями: Виктор Топоров – как «Странствие» [Блейк, 1975, 99–103], Сергей Степанов – «Путем духовным» [Блейк, 1993, 215–225], Генрих Сапгир – «Ментальное путешествие» [Михайловская, 2003, 104–106], Галина Токарева – «Странствие» [Блейк, 2004, 69–72], Дмитрий Смирнов-Садовский – «Странник Духа» [Блейк, 2016, т. 4, 75–81].
Любопытный опыт – сопоставить эти переводы с первым переводом Гумилева. Для примера в принципе подходит любая строфа; возьмём первую как одно из «сильных мест» стихотворения.
Оригинал Блейка:
I travelled through a land of men
A land of men and women too;
And heard and saw such dreadful things
As cold earth wanderers never knew.
Здесь сразу обозначается аллегорический хронотоп притчи: «land of men» – это двойник нашего мира, хотя и принципиально иной по свойствам. В целом вся история носит притчевый характер, хотя она и по-блейковски физиологична. Интересен в этой строфе образ «cold earth wanderers» – это, по всей видимости, «обычные» странники, не обуянные огнем пророчества; это и «холодные» наблюдатели-ученые. Айзек Бауэр и Пол МакНелли отмечают: «земные странники „холодны“, потому что они максимально удалены от огня духовного очага»[92]92
«Earth wanderers are „cold“ because they are antipodally removed from the fire in the spiritual hearth».
[Закрыть] [Bouwer, McNally, 1978–1979, 186].
Перевод Гумилева:
Я странствовал среди мужчин,
Среди мужчин и женщин, да,
И видел ужас, о каком
Никто не слышал никогда.
Гумилев соблюдает основные принципы, заявленные им в статье о принципах стихотворного перевода (1919): соблюдение числа строк, точное сохранение строфы и метра, анализ собственного словаря поэта, соблюдение смыслового значения рифм. Гумилев отмечает: «В стихах часто встречаются параллелизмы, повторения полные, перевернутые, сокращенные, точные указания времени или места, цитаты, вкрапленные в строфу, и прочие приемы особого, гипнотизирующего воздействия на читателя. Их рекомендуется сохранять тщательно…» [Гумилев, 1919, 27]. В данном случае в переводе 1–2 строк Гумилев воссоздает повтор, который есть и в оригинале; «too» в конце второй строки, опорная рифма строфы, заменяется на «да», то есть соблюдено равное количество слогов в рифмующемся слове, как и общая рифмовка только во 2 и 4 строке строфы. Перевод Виктора Топорова:
Я странствовал в Стране Людей,
Я был в Стране Мужей и Жен
И лютый страх застыл в глазах,
В ушах остался с тех времен.
Бросается в глаза свойственная Топорову как переводчику неточность. В то время как рассказчик Блейка занимает внешнюю, спокойную повествовательную позицию, рассказчик Топорова оказывается вовлечен в ситуацию, причем необратимо: у него «застыл в глазах» и «в ушах остался» страх, очевидно мешающий дальнейшему восприятию. Получается ситуация антипророческая, анти-провидческая.
Перевод Сергея Степанова:
Я пересек Страну Людей,
Мужчин и Женщин видел там
И Страх вошел в меня такой,
Что на земле не ведом вам.
Здесь перевод более спокоен по настроению и ближе в оригиналу. «Пересек» достаточно точно отражает выражение «travelled through». Однако последняя строка, вынужденно упрощенная по сравнению с концептом Блейка «cold earth wanderers», выглядит так, будто рассказ идет о другой планете или реальности, вне земли. Однако это не вполне точно. Буквально другая планета позиционируется в сатире Блейка «Island on the Moon»; здесь же хронотоп более аллегоричный, недаром это «land of men», страна людей, двойник нашего мира.
Перевод Генриха Сапгира:
Я странствовал в стране Мужчин
Воинственных и Женщин ярых,
Их всех, и молодых и старых,
Пронзили ужаса лучи.
В переводе Сапгира очевиден авторский, оригинальный подход: он меняет рифмовку катрена с перекрестной на опоясывающую, отказывается от повтора (в первой редакции повтор был сохранен: «В стране Мужчин и Женщин ярых»[93]93
В РГАЛИ, ф. 3091 (Кропивницкий Лев Евгеньевич), оп. 2, ед. хр. 35 сохранилась машинопись этих переводов с правкой автора и дарственной надписью «Льву с любовью от Генриха» от 29 сентября 1982 г.
[Закрыть]), вводит enjambment на границе первого и второго стиха, – другими словами, меняет структуру четверостишия, делая его фактом значительно более поздней поэзии, поэзии XX века. Ужас переносится с субъекта повествования на его объекты. Уже по анализу первой строфы очевидно, что Сапгир, по сути, делает Блейка нашим поэтическим современником.
Перевод Галины Токаревой:
Шел странником я по земле,
Мужчин и Женщин я встречал.
Ужасный мир открылся мне,
Неведомый иным очам.
В данном переводе отход от оригинала происходит в четвертой строке, «неведомый иным <каким? чьим?> очам»; в целом же в строфе не происходит противопоставления «land of men» и «обычной» земли, столь важного для оригинала. Создается впечатление, что «ужасный мир» существует где-то на земле.
Перевод Дмитрия Смирнова-Садовского:
В страну мужей, мужей и жен,
Меня дороги завели,
И ужас тот, что я узрел,
Неведом странникам земли.
Данный перевод достаточно близок к оригиналу; правда, исчезает значимый эпитет «cold», который отмечает, что «странники земли» – не просто путешественники. Некоторое сомнение вызывает сочетание «дороги завели», которое подразумевает невольное, случайное вхождение рассказчика в «страну мужей, мужей и жен». Думается, здесь позиция рассказчика ближе к более известному «страннику» – лирическому герою «Бракосочетания рая и ада», который намеренно отправляется в аллегорический ад за «дьявольской» мудростью.
Сопоставление шести переводов приводит к выводу, что перевод Гумилева отличается особенной поэтической цельностью и силой воздействия; кроме того, в отличие от переводчиков-символистов, таких как Бальмонт, акмеист Гумилев склонялся к «адекватному (научному) переводу» [Устиновская, 2016, 7]. И в остальных строфах он стремится к максимальной естественности стиля – вместе с сохранением деталей оригинала. Например, Гумилёв сохраняет образ «скряги», «miser», в то время как во многих других переводах он утрачен. В целом перевод отличается цельностью мысли и единством настроения, и остается лишь сожалеть, что он, по всей видимости, не был завершен.
Видимо, Гумилев придавал особенное значение стихотворениям из сборника Блейка, известного как «Манускрипт Пикеринга». Р. Д. Тименчик отмечает, что в планировавшемся сборнике Гумилева «Посередине странствия земного. Стихи 1921 – » эпиграфом должны были стоять строки из стихотворения Блейка «Юдоль грез» («The Land of Dreams»):
Father, O Father, what do we here,
In this land of unbelief and fear?
Листок с проектом титульного листа этого несостоявшегося сборника хранился в бумагах П. Н. Лукницкого [Тименчик, 2014, т. 1, 480].
Таким образом, история прочтения и перевода Гумилевым Блейка, история творческого диалога в стихотворениях русского поэта составляют значительную и практически не исследованную до сих пор страницу русской рецепции Блейка.
Блейк в Серебряном веке и раннем СССР
Толстой, Ахматова, Хармс и другие
О достаточной известности Блейка в Серебряном веке говорит, например, такая любопытная цитата С. К. Маковского: «Мы доживаем эпоху увлечения, так сказать, метапсихическим творчеством, художественной правдой, не поддающейся рационализации, – иначе говоря, правдой касаний к Психее подсознательного. Потому-то и стали божками современности Гельдерлин, Блейк, Рембо, Джойс. Русский символизм до известной степени того же толка (не говоря уж об имажинизме и зауми разных оттенков)…» [Маковский, 2012, 517]. Ироническое звание «божка» говорит по крайней мере о значимости имени Блейка в русском культурном пространстве начала XX века.
Блейк интересовал не только символистов и встречается не только в символистской критике. Так, о Блейке писал Льву Толстому в 1910 году Бернард Шоу. Этот интересный случай уже отмечен в западной публикации [Warner, 1983–1984], однако не привлек внимания русских исследователей.
Письмо Шоу было посвящено его пьесе «The Shewing-Up of Blanco Posnet: A Sermon in Crude Melodrama». Шоу пишет: «…при теории, об уже достигнутом богом совершенстве, для объяснения существования зла, мы должны признать бога не только богом, но и чертом. Таким образом, бог любви, если он всемогущ и всеведущ, должен быть богом и рака и эпилепсии. Великий английский поэт Вильям Блэк (William Black) заканчивает свою поэму „Тигр“ таким вопросом: „Неужели тот, кто сотворил ягненка, – сотворил и тебя?“»[94]94
«we are compelled by the theory of God's already achieved perfection to make Him a devil as well as a god, because of the existence of evil. The god of love, if omnipotent and omniscient, must be the god of cancer and epilepsy as well. The great English poet William Blake concludes his poem 'The Tiger' with the question: Did he who made the lamb make thee?» [Shaw, 1972, 901].
[Закрыть] [цит. по: Толстой, 1956, 256]. При первой публикации этого письма как в английской версии [Maude, 1910, 642–643], так и в русской [Переписка, 1911] этот абзац не был опубликован – вероятно, по цензурным соображениям.
Толстой отвечает: «не согласен с тем, что вы называете вашей теологией. Вы полемизируете в ней с тем, во что уже никто из мыслящих людей нашего времени не верит и не может верить. <…> вопросы о боге, о зле и добре слишком важны для того, чтобы говорить о них шутя»[95]95
«I also cannot agree with what you call your theology. You enter into controversy with that which no thinking person of our time any believes or believe: with a God-creator. […] the problem of God and evil is too important to be spoken of in jest» [Tolstoy, 1956, 255].
[Закрыть] [Толстой, 1956, 254]. Как предполагает Н. Уорнер, Толстой не случайно не упоминает Блейка: «Имя Блейка для Толстого, в последние месяцы жизни, несомненно оставалось просто сноской из письма Шоу, именем еще одного, именем такого же как и Шоу, дурачка, обманувшегося в споре о Боге-создателе»[96]96
«Blake's name for Tolstoy, during the last months of his life, doubtless remained a mere footnote to Shaw's letter, the name of yet another dupe, along with Shaw himself, in the God-creator controversy».
[Закрыть] [Warner, 1983–1984, 102].
По мемуарной литературе, дневникам и переписке рассыпано множество свидетельств знакомства с именем Блейка в раннесоветской России. Так, по свидетельству биографа Лили Брик, Блейка любил цитировать Владимир Маяковский. Иногда он пояснял Лиле сложные, по ее мнению, строки своих стихов. «„То, что может понять каждый дурак, меня не интересует“, – повторял он при этом выражение Уильяма Блейка, услышанное от Бурлюка» [Катанян, 2002, 35].
Догадку о влиянии Блейка на Мандельштама высказывает в своей диссертации Н. Струве, хотя и признается: «читал ли его Мандельштам, мы не знаем» [Струве, 1988, 138]. Действительно, в «Евхаристии» Мандельштама («Вот дароносица, как солнце золотое…»), написанной в 1915 году, есть строка, которая кажется аллюзией на знаменитейшие строки Блейка: «Взят в руки целый мир, как яблоко простое» [Мандельштам, 2017, 111]. Ср. у Блейка («Изречения невинности»): «Держи вечность в ладони руки»[97]97
«Hold infinity in the palm of your hand».
[Закрыть] [Blake, 1988, 490]. Есть определенная общность в тематике, что объединяет Блейка и с Гумилевым, и с Мандельштамом: это эсхатологизм, осмысление судеб мира, поиск собственной трактовки христианской идеи начальности и конечности вселенной – в приложении, в частности, к молодому советскому времени. «Уильям Блэйк только и думал, что о „первородном грехе“ (Пьер Бутан), Мандельштам только и думает, что об искупительном Воплощении» [Струве, 1988, 138].
Л. Г. Панова указывает на следы знакомства с Блейком в творчестве М. Кузмина, в его книге стихов «Форель разбивает лед» (1927): «Фамилия Грин отсылает к балладе У. Блейка „Уильям Бонд“, где действует Mary Green. Одновременно она соответствует такому герою „Ангела западного окна“, как Бартлет Грин, который во время своей казни на костре заговорил о „зеленой земле“» [Панова, 2017, 605]. Баллада Блейка еще не была переведена на русский к тому времени, и Кузмин если и мог ее знать, то в оригинале. Однако ни дневники, ни проза, ни стихи Кузмина более нигде не указывают на знакомство с творчеством Блейка, а одна фамилия Грин вряд ли может служить точным показателем, при том что у Кузьмина зеленый цвет является одним из важных лейтмотивов.
Аллюзии на творчество Блейка появляются в творчестве Даниила Хармса (рис. 9).

Рисунок 9. Даниил Хармс. Начало 1930-х годов
Хармс немного занимался переводами: он переводил немецкие духовные стихи эпохи барокко; в его записях есть отрывок «Голема» Майринка; он переложил для детей книгу немецкого писателя В. Буша и начинал переводить стихотворение Кэрролла из «Алисы в стране чудес».
Блейка он не переводит, но переписывает. Уже в юности хорошо знавший английский, Хармс копирует в тетрадь стихи романтика, в частности «Тигр» и введение к «Песням невинности», озаглавленное «Ребенок и флейтист» (The Child and The Piper) (ОР РНБ. Ф. 1232. Ед. хр. 77. лл. 13 и 13 об.<1935–1936>) (см. рис. 10).


Рисунок 10. Стихи Блейка, переписанные Даниилом Хармсом
Таким образом, М. Гаспаров ошибается, когда в письме Н. Автономовой в 1996 году замечает о Хармсе, что тот знал о Блейке «разве что со слов Маршака» [Автономова, 2014, 465]: Хармс был знаком с Блейком самостоятельно, вероятно – с детства.
К. Брэндист отмечает общность творческой судьбы Блейка и Хармса: «Не без причины оба писателя видели ведущую идеологию свой страны как сочетание грубого позитивизма, морализма и пафоса, и наиболее серьезным эффектом было то, что мозг человека был пойман в сеть абстрактных властных „истин“, рассеиваемых идеологическим аппаратом репрессивного государства»[98]98
«Not without reason, both writers saw the ruling ideology of their respective cultures as a combination of crude positivism, moralism, and pathos, the most serious effect of which was to ensnare the mind of the subject in a web of abstract and authoritative „truths“ disseminated by the ideological apparatuses of a repressive state».
[Закрыть] [Brandist, 1997, 59]. К блейковскому понятию innocence исследователи возводят хармсовское понятие «безгрешие» [Токарев, 1996].
В записных книжках Хармса мы находим упоминания о Блейке. Например, такое (1928 год):
«Blake Songs
7 веков = 200 лет.
6000 лет» [Хармс, 2002, т. 1, 251].
В записной книжке за апрель 1929 года – январь 1930 года Хармс полностью воспроизводит стихотворение Блейка «The lamb» [там же, 292].
Хармс неоднократно упоминает Блейка (Блэйка) в списках значительных авторов. Например, он вносит его в список, когда предлагает: «Хо[чу]тим предложить разделить все произведения искусства на два лагеря: 1) Огненный и 2) Водяной» [Хармс, 2002, т. 2, 190–191]. А в цикле «Сабля» он пишет: «Сабли были у: Гёте, Блейка, Ломоносова, Гоголя, Пруткова и Хлебникова. Получив саблю, можно приступать к делу и регистрировать мир» [Хармс, 1997, т. 2, 304]. Что означает эта сабля? Это символ оружия поэта, с помощью которого он покоряет и классифицирует мир: «Точно рифмы наши грани / остриём блестят стальным» [там же, 298].
К. Брэндист считает, что Хармс «дает» Блейку саблю в первую очередь из-за его пророческого, боевого пафоса в «Бракосочетании рая и ада» [Brandist, 1997, 63]. В этой поэме Блейк напоминает, что Христос пришел принести «не мир, но меч», чтобы разделить две части мира: «порождающих» (Prolific) и «пожирающих» (Devourer). Меч (= сабля) становится поэтическим образом мощи и в одной из «Пословиц Ада»: «The roaring of lions, the howling of wolves, the raging of the stormy sea, and the destructive sword, are portions of eternity too great for the eye of man». Приведем эту фразу в переводе Маршака: «Львиный рык, волчий вой, рев бушующего моря и разрушительный меч – частицы вечности, слишком великие для людского глаза» [Блейк, 1965, 161].
В то время как Блейк был сторонником радикальной эстетики и противостоял общепринятой религиозной морали, Хармс относился к направлению футуристов и зауми – строил радикальный язык, язык-в-становлении. Их объединяло недоверие к письменному слову и «выученной» книжной культуре (см. начало «Песен невинности», где бард начинает записывать свои слова, «металлические книги» Уризена – и «Случаи» Хармса). К. Брэндист намечает общие творческие задачи и проблемы, объединявшие Хармса и Блейка, такие как недоверие к письменному слову и канону литературной речи; сопоставляет «Marriage» Блейка и «Случаи» Хармса как образцы сатиры [Brandist, 1997].
Хармс как детский поэт был связан с Блейком и опосредованно: поклонником и переводчиком Блейка был Самуил Маршак, который привлекал многих писателей 1920–1930-х годов к изданию детских книг (и тем поистине спасал от голодной смерти); привлек он и Хармса. Подобно тому как Блейк оформлял свои мысли в фольклорные формы («пословицы»-притчи, детские стишки, пророчества), Хармс использовал жанр анекдота («История», «Анекдоты», «Исторический эпизод»), формы водевиля и балагана («Пушкин и Гоголь»), райка («Петров и Камаров»).
Очевидно, что отголоски стихотворения «The lamb» слышны в стихотворении Хармса «Овца» (1929) и в образе жертвенного «барашка» из стихотворения «Сценарий елочной песни для К. Н. Шнейдер».
В стихотворении «Овца» Хармс, как и Блейк, проводит параллели между овцой и человеком, каждым из нас:
Ты знаешь белая овца
ты веришь белая овца
стоит в коронах у плиты
совсем такая же как ты [Хармс, 1997, т. 1, 92].
Несмотря на стилистическую сниженность лексемы «овца» (по сравнению с обычным переводом блейковского «lamb», «агнец»), смиренная овца у Хармса оказывается на вершине мировой иерархии:
а сбоку мы, кругом земля
над нами Бог в кругу Святых
а выше белая овца
гуляет белая овца [там же, 93].
В более позднем стихотворении «Сценарий елочной песни для К. Н. Шнейдер», датируемом серединой 1930-х годов, судьба барашка трагична, он погибает при всеобщем веселье на празднике:
И картонный барашек
Свалился с ветки и упал на пол,
И вот одна свеча уже потухла,
А мы-то все скачем и пляшем
И хлопаем в ладоши
И поем веселые песни [Хармс, 2001, 197].
Тигры, нередко встречающиеся в стихах Хармса, скорее всего, родственны «тигру» Блейка – в том числе «Тигр на улице» (1935, рис. 11).

Рисунок 11. Даниил Хармс. «Тигр на улице». Рисунок Николая Радлова. Журнал «Чиж». 1936
В этом стихотворении по сути перефразируется основной вопрос стихотворения Блейка: «Did he who made the Lamb make thee?»:
Я долго думал
откуда на улице взялся тигр.
Думал-думал,
Думал-думал,
В это время ветер дунул,
И я забыл, о чем я думал.
Так я и не знаю, откуда
на улице взялся тигр [Хармс, 1997, т. 3, 54–55].
В трагически-раздробленном сознании героя Хармса было бы неплохо понять, откуда тигр вообще взялся. Этот вопрос у Хармса остается без ответа – так же, как и у Блейка.
Пророчески-апокалиптические интонации Блейка-обличителя слышны в стихотворении «Гнев бога поразил наш мир» (1938), в особенности это касается финала:
Сюда ждёт жалкий трус удар,
Судьбы злой рок, ход времени и пар,
Томящий в жаркий день глаз, вид зовущий вновь
Зимы хлад, стужами входящий в нашу кровь.
Терпеть никто не мог такой раскол небес
Планет свирепый блеск, и звёздный вихрь чудес.
[Хармс, 1997, т. 1, 292].
Очевидно, что массив интертекстуального взаимодействия между Хармсом и Блейком весьма велик и еще ждет своего подробного исследования. Однако точно можно сказать, что абсурдист Хармс слышит в нелогичной порой лирике Блейка родственные ноты, использует его символы как буквы культурной азбуки, из которых составляет новые слова для описания окружающей его реальности.
Есть своя история рецепции Блейка и у Ахматовой. Двое ее возлюбленных был неравнодушны к Блейку: это Гумилев и Борис Анреп. Своей верностью Блейку ее раздражал Маршак. Лидия Чуковская цитировала Ахматову в своем дневнике 1941 года: «Не говорите мне о Маршаке: с тех пор как он опять прочел мне little lamb, little lamb Blake'a я убедилась, что он застыл и будет читать то же самое до гробовой доски» [Чуковская, 1997, 346].
В 1962 году Ахматовой подарили какую-то «книгу о Блейке» [Толмачев, 2002]. Поздняя Ахматова несколько раз упоминает Блейка в записных книжках. В частности: «Недаром Блейк говорит, что проклятое благосло…» [Ахматова, 1996, 632]. Это, вероятно, аллюзия на «Пословицы Ада» из «Бракосочетания рая и ада», «Damn braces: Bless relaxes», в переводе Маршака «Проклятие бодрит, благословение расслабляет».
В 1966 году она упоминает о перекличке стихотворения Блейка «Иерусалим» и «Памяти» Николая Гумилева, а также пишет, что сходство ее собственных строк с Блейком случайно: «Что-то такое есть у Блейка, но я в 1917 г. Блейка не знала, и близость замысла – случайна» [там же, 706]. В том же году, позже, упоминает в списке «Не забыть»: «Спросить о Блейке автора поэмы „Уничтожение“» [там же, 710]. Автор «Уничтожения» – поэт и литературный секретарь Ахматовой Анатолий Найман.
Кроме того, Ахматова записывает в дневник, что видит некоторое родство между своими произведениями и тематикой поэмы Блейка «Книга Тэль»; этот отрывок развернуто комментирует Роман Тименчик: «ей показалось, что у английского визионера „явно та же тема“, что преследовала ее, начиная с ранних стихов – от выхода из рощ родины священной на низкий остров в Невской дельте и сошествия с крыши меблированного дома „Нью-Йорк“ в „Эпических отрывках“ до спуска под своды „Бродячей собаки“ в „Подвале памяти“ и во вступлении к „Поэме без героя“ и вообще до Поэта Мироздания в „Поэме“ как того, кто единожды спускался в преисподнюю („Гильгамеш ты, Геракл, Гессер“) – т. е. тема катабасиса, снисхождения с неба на землю, и далее в глубины подземелий» [Тименчик, 2014, 480–481].
Таким образом, на рубеже XIX и XX веков Блейк-поэт занял свое место в культурной палитре российской литературной жизни. Он был переводим и читаем, стал автором не только узнаваемым, но и цитируемым, попал в обзоры и учебники зарубежной литературы. Его лирика и малые поэмы, переведенные Бальмонтом и прочитанные в оригинале, включаются в тезаурус русской культурной жизни, – порой проходя в ее течении неявно, но открываясь для внимательного читателя. Переводы Гумилева и Эльснера, творческий диалог с Блейком в лирике Хармса и Балтрушайтиса доказывают значимость его поэзии для русской литературы начала XX века.
Русская рецепция Блейка в начале XX века в той или иной мере наследовала западной рецепции рубежа веков – то есть видела в нем мистика и символиста. Эта репутация, созданная Блейку критиками-модернистами и подхваченная русскими символистами, надолго закрыла ему путь в советскую печать; Блейк стал автором «подспудным», не разрешенным вплоть до 1957 года. Однако память о нем была вывезена в эмиграцию, и русская рецепция Блейка неожиданно получила там серьезное продолжение.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?