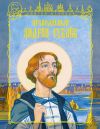Читать книгу "«Андрей Кончаловский. Никто не знает...»"

Автор книги: Виктор Филимонов
Жанр: Кинематограф и театр, Искусство
сообщить о неприемлемом содержимом
Ныне полотна П.П. Кончаловского продолжают выставляться, пользуясь международным успехом. Продолжают, как и при его жизни, «хорошо продаваться».
Летом 2002 года в Музее личных коллекций открылась выставка «Неизвестный Кончаловский», представленная от имени семьи старшим внуком художника. К выставке с помощью специалистов-музейщиков и искусствоведов было подготовлено серьезное издание с множеством репродукций и архивных публикаций. Автором и координатором проекта стал Андрей Кончаловский.
«…Проблема деда была в том, что он любил жизнь. Сколько ругани приходилось ему выслушивать, да и в нынешние времена по разным поводам ее услышишь не меньше… Когда листаешь книгу «Неизвестный Кончаловский», видишь, какой богатой была жизнь. Скольким художникам она судьбы переломала. На одном Бутовском полигоне их больше ста расстреляно – всех мастей. И тех, кто был предан советской власти и не уставал ее славить, и тех, кто пытался от нее скрыться в стенах своих мастерских…»
В мае 2006 года прошла презентация Фонда сохранения культурного наследия художника Петра Кончаловского, учредителями которого стали наследники живописца. Это был первый в России фонд художника такого масштаба, как П.П. Кончаловский.
В 2010 году состоялась выставка «Петр Кончаловский. К эволюции русского авангарда», организованная Русским музеем, Третьяковской галереей и Фондом Петра Кончаловского и официально отмеченная как «важное и знаковое событие российской культуры». Издание, посвященное Выставке, открывалось «Письмом деду» Андрея Кончаловского.
Творчество Петра Петровича поражает жадностью, с которой художник осваивает пространство культуры. Во всяком случае, совершенно ясно присутствие в его живописи Сезанна и Матисса, Ван Гога и Гогена, старых и новых западных мастеров, отечественного народного искусства…
Его потомок, режиссер Кончаловский, не чужд того же свойства, но уже по отношению к опыту мирового кинематографа. За этой наследственной «всепоглощаемостью» иногда перестают видеть стилевую индивидуальность режиссера, подобно тому как то же, на внешний взгляд, происходит и с живописью Петра Петровича.
Идею творческого «протеизма» режиссера развил в самом начале 1990-х Л.А. Аннинский, и ранее выделявший это качество кинематографа Кончаловского. Фильмы режиссера, писал критик, не соединяются в единую цепь. Он не похож на тех, кто, подобно Тарковскому или Хуциеву, всю жизнь бьет в одну точку.
«Он – другой, у него нет единственного решения, у него в каждом случае множество «единственных решений». Кинематографично «все»; для каждого фильма нужно искать новый ход, надо выдумывать все заново, надо изобретать велосипед. Главное – не повторяться… Михалков-Кончаловский среди шестидесятников – Протей, он меняет свой облик, он уходит от своих решений, спокойно наблюдая, как его следы заносит песком; он озабочен лишь тем, чтобы в каждом случае, говоря словами Трюффо, то, ЧТО хочется, – сделать со вкусом, сказать до конца…»
Но как раз в результате откровенной, на первый взгляд не очень разборчивой, легкомысленной разностильности, в результате формально-стилевых заимствований возникают совершенно оригинальные по качеству своего художественно-культурного многоголосия вещи?! Об этом еще предстоит разговор. Здесь только хотелось бы еще раз отметить факт наследования внуком художнической жадности деда к многообразному миру художественной культуры – жадности, обогащающей индивидуальность творца.
По наследству внуку передалась, кажется, и другая особенность творчества его деда. Петр Кончаловский и к началу XXI века остается исследовательской проблемой, «зерно которой – в восприятии, культурно-исторической интерпретации его творчества и его личности».
Официальная критика послевоенных лет пыталась приспособить к своим нуждам далекую от пафоса строителей социализма живопись Кончаловского. Но в той же критике издавна звучали сомнения по поводу того, что открывалось в творческой деятельности художника.
Хорошо известен отзыв Луначарского еще начала 1930-х. Первый большевистский нарком просвещения среди сотен полотен живописца не нашел отражения «той борьбы, которая на самом деле составляет содержание жизни его родины».
Так же колеблется на грани противоположных «партийных» оценок и образ творчества Андрея Кончаловского, начиная, пожалуй, с «Дворянского гнезда». «История Аси Клячиной…»«счастливо» избежала этой участи в силу того, как полагает и сам создатель фильма, что была положена «на полку». А это как бы само собой подчеркивало ее «протестую» безгрешность. Однако отсутствие идеологической тенденции в творчестве режиссера очевидно – в той же «Истории Аси Клячиной…», близкой по жанру колхозной идиллии. Тенденции нет даже там, где ее неизбежно, с восторгом разоблачения находят – в «Курочке Рябе», например, или «Глянце». Кинематограф Кончаловского не знает «партийного» деления на героев «положительных» и «отрицательных». И в этом смысле режиссер наследует опыт своего «беспартийного» деда.
Обладая чувством частной свободы, Андрей выстраивает и свой быт, и свое творчество вне общих правил. Он имеет смелость избирать только для него приемлемое решение, какой бы резонанс оно ни вызывало. Он не желает принимать позу страдающего и гонимого художника, не хочет такой «голгофы» даже под аплодисменты сочувствующих. Не хочет откликаться и на призывы «партийно» дружить с кем-то против кого-то. «Ну, как это можно при таком здоровье создавать произведения о нашей народной боли!» – возмущается один из многочисленных критиков Кончаловского.
Гораздо более понятным в этом смысле был и остается Андрей Тарковский. Каждый его отечественный фильм после «Иванова детства» – пример традиционной самоубийственной борьбы гениального художника с властью.
В статье «Неизвестный Кончаловский» Александр Морозов пишет о Петре Петровиче: «Иезуитский гротеск: власть предпочла показательному избиению Кончаловского… пропагандистскую эксплуатацию его «жизнелюбия». Но от этого ни его битые зайцы… ни цветы, ни портреты друзей и родных более «советскими» не становились; они совсем ПРО ДРУГОЕ…» Можно сказать, что «совсем про другое», вопреки толкованиям критики, фильмы и спектакли Андрея…
Но про что же полотна его деда? Близкий художнику искусствовед В.А. Никольский еще в 1919 году замечал «новую проблему», поселившуюся в мозгу художника, – проблему «изображения человека в природе, остающуюся неокончательно разрешимой и по сей день». Основа преемственности в творчестве живописца, идущая от него к классике через Сезанна, – в особом ощущении природы, нерасторжимого единства «одушевленных» и «неодушевленных» форм материи.
Петр Кончаловский, изучая искусство великих мастеров, стремится вслед за ними стереть грань между природой и ее воплощением. Решение этой труднейшей задачи ставит живопись художника на границу взаимодействия с кинематографом. По поводу одного из ранних семейных портретов он сообщал: «В фигуре дочери… я хотел спорить с самой жизнью… Наслаждаясь сознанием, что при помощи краски орехового цвета можно сплести… совсем живую косу… Такая работа дает художнику самые счастливые минуты в жизни. Ощущение жизни человека среди других предметов – это какое-то чувство космического порядка…». Как здесь не почувствовать суриковское начало?! Не есть ли это одновременно и аналог зоркости кино, приговоренного вглядываться в «жизнь человека среди других предметов»?
Художник, по мнению А. Морозова, совершает «паломничество» «в мир природы из пространства сегодняшней исторической данности, и прежде всего советского социума». А поэтому ему «вряд ли дано было сделаться подлинным любимцем как людей власти, так и их оппонентов. Те и другие имели иных героев».
Андрей Кончаловский хорошо чувствует природу кино, сопрягающего, по словам Эйзенштейна, в единое целое человека и предмет, человека и человека, человека и природу. И уже поэтому внук неизбежно должен быть наследником художнического мировидения деда. Другое дело, что он глубоко переживает и трагический разлад человеческого мироздания. В его «Глянце», например, есть не только уродливая декорация нового социума, но и деформированная плоть натуры, за которой – искажение естества человека. Не зря же главной героиней становится женщина! Драматизм ее существования не ограничивается крушением иллюзий, вызванных искусственностью окружающего мира. Женщина здесь – и сама Природа, естество которой разрушает уродливый социум.
Но при всем трагизме мироощущения Кончаловский не знает той демонстративной серьезности, которой отличался кинематограф его давнего единомышленника, а потом и сурового оппонента Тарковского. В этом смысле, как во всем своем мировидении, Кончаловский – оборотная сторона явления по имени Андрей Тарковский. И Советский Союз он покидает не как страдающий советский гений, а как вполне успешный художник, у которого к тому же жена-француженка. Он абсолютно частным образом берет права, которые Тарковский у властей требовал, мучительно терзаясь, – в Италии, вдали от семьи, оставшейся в СССР.
Помните: «Петя, я исчезаю…»?
Может быть, в этих последних своих словах Василий Иванович завещал Петру Петровичу сохранить то, что было и им, Суриковым, и его семьей, его родом? Все, что он пытался спасти от стихии Истории на своих картинах.
Петр Петрович завещание, кажется, исполнил. Он создал в живописи и передал в наследство потомкам великий «семейный альбом», воплотив и сохранив в нем мироздание как вечный дом человека.
Глава третья «Большая Наташа» большого дома
…А ведь слово «дом» священно.
И слово «хозяйка» почетно и даже величаво…
Наталья Кончаловская
1
В кинематографе Кончаловского женщина всегда рядом с героем, но чаще – как персонаж страдательный, редко и трудно достигающий материнского воплощения.
В этом смысле явно отличен «Романс о влюбленных». Здесь мать – одна из сюжетных опор. Но она предстает в нескольких, как бы спорящих друг с другом ипостасях. Завершает спор и «побеждает» в нем материнская философия житейского стоицизма, согласно которой нужно принимать жизнь такой, какова она есть. Здесь сила духа как раз и состоит в способности терпеливо нести крест повседневного существования.
Может быть, эта выношенная опытом жизни мудрость позаимствована режиссером у своей матери? Во всяком случае, такой Наталья Петровна Кончаловская видится в свои зрелые годы в воспоминаниях тех, кто находился рядом с ней – близких, родных, знакомых. В том, что говорят о ней сыновья, слышится почтительно-нежное, уважительное как к главной опоре семьи в те времена, когда Наталья Петровна была жива. Наталья Петровна Кончаловская, по словам ее старшего сына, получила в наследство «очень непростое сплетение генов: со стороны деда темперамент, неуемная энергия и даже нетерпимость яицких казаков; со стороны бабки-француженки – свободное знание французского, способность понимать французскую культуру, ощущать родство с ней. Ее дед с отцовской стороны был потомок литовских дворян, один из образованнейших в Москве книгоиздателей, человек высокой культуры…»
Писатель, переводчик, она с детства питала любовь и к серьезной музыке. Во второй половине 1930-х обратилась к детской литературе, начав с переводов английской поэзии. Издала сборник мемуарных очерков и рассказов «Кладовая памяти» (1973).
Наталья Петровна с самой колыбели восприняла воздействие духовной энергетики крупнейших отечественных дарований XX века. Символично, что при бракосочетании ее родителей присутствовал Михаил Врубель. А ее крестным был Сергей Коненков. Юная Наталья почти ежедневно бывает в мастерской крестного на Пресне, становится свидетелем его творчества и жизненных драм.
«Я была очень привязана к Сергею Тимофеевичу все эти годы, – пишет Наталья Кончаловская в своих мемуарных очерках. – Он жил тогда один. С женой своей давно развелся, и она жила где-то отдельно с сыном Кириллом. И потому я была единственным молодым существом в мастерской, в этом царстве мужиков – дворника дяди Григория, формовщика Сироткина, каменщиков с Ваганькова – и кота Вильгельма. Сергей Тимофеевич любил меня, как свою дочь, скучал, если я долго не приходила. И я привыкала к этой удивительной жизни среди скульптур».
Еще в 1918 году Коненков выточил из дерева первый портрет красавицы Маргариты Воронцовой, с которым в его жизнь вошла и новая любовь. Летом 1922 года он женился и отбыл в свадебное путешествие в Америку, где и обосновался. Лет через пять там же оказалась его крестница со своим первым мужем. По ее наблюдениям, Сергей Тимофеевич Америки не принял, но возвращаться в Страну Советов не собирался. На него посыпались заказы, он прилично зарабатывал, получил возможность путешествовать и прожил в Нью-Йорке более двадцати лет.
Через много лет после возвращения из Америки, когда у Натальи Петровны была уже другая семья, ей официально предложили начать переговоры со скульптором относительно его прибытия на Родину. Надо было написать Сергею Тимофеевичу частное письмо с приглашением. И хотя за все эти годы Наталья Петровна и ее семья никак не были связаны с Коненковым, письмо она все же написала.
Уже в декабре 1945 года Михалковы-Кончаловские встречали Коненкова на Ярославском вокзале.
«…Он действительно собрал все свои скульптуры и прибыл на Родину, – рассказывает Андрей. – В Одесском порту бдительные таможенники перебили все его гипсы – искали золото и бриллианты. Деревянную скульптуру, слава богу, не тронули. Несмотря на эти и прочие неприятности, Коненков был невообразимо счастлив. Здесь он чувствовал себя целиком в своей тарелке, крепко налегал на портвейн, стал убежденным соцреалистом…»
Вспоминая предшествующее этим событиям время эвакуации 1941 года, Андрей видит свою тридцативосьмилетнюю мать очень молодой и очень привлекательной. «Думаю, она была эмоционально увлекающимся человеком, вызывающим у мужчин очень чувственные надежды».
Ей было чуть больше двадцати, когда впервые после революции семья оказалась за границей. В знойно-чувственной Италии. Наташа выделялась среди итальянок крупностью юного тела и типично славянским лицом с кокетливо вздернутым носом. Избыток здоровой энергии избавлял от слишком глубоких размышлений о будущем. Она в эту пору ни к чему не готовилась и не подавала, по ее словам, никаких надежд. Но с младенчества обладала отличным слухом, с большой легкостью пела стихи, отчетливо запоминала все, как казалось с годами, ненужное. Как и все в юности, «была нерадива и беспечна». Однако ж в домашнем хозяйстве расторопна, к чему мать приучила ее с детства. Воспитанная Ольгой Васильевной в суровых правилах, юная барышня глубоко вросла в жизнь семьи, и это воспринималось ею абсолютно подсознательно.
Окончив уже советскую школу, она не вошла ни в один коллектив молодежи. Одноклассники ее рассыпались по высшим учебным заведениям. Ее восемнадцатилетний брат учился во ВХУТЕМАСе, а она вроде как отбилась от сверстников, не имея влечения ни к точным, ни к гуманитарным наукам и не подавая серьезных надежд ни в какой области искусства. Однако богатая фантазия не давала девушке унывать. Вдали же виделся желанный избранник, и она сама в окружении восхитительных детей…
Такой в расцвете двадцатилетней жизни Наталья оказалась в Италии.
Однажды девушка отправилась покупать фрукты… Возвращаясь с рынка с дарами юга, она обычно проходила мимо столярной мастерской по изготовлению мебели. На этот раз девушка увидела здесь… велосипед. А рядом, скрестив загорелые ноги в парусиновых штанах, стоял молодой итальянец. На роль избранника этот грубоватый простой парень претендовать, в представлении Натальи, вряд ли мог. Но нежная улыбка на его загорелом здоровом лице, неподдельное наивное внимание к ней не позволили с ходу отвергнуть его откровенные ухаживания.
Пришло время, и Антонио признался русской девушке в любви. А в ответ на предложение руки и сердца с упоминанием будущего «своего дела» услышал… смех. Это был слегка ироничный, снисходительный смех духовно возвышенной барышни над неуклюжим «буржуа» со всеми его ограниченными меркантильными устремлениями.
…Когда семья покидала Сорренто, сиявший первым сентябрьским днем, сердце девушки все-таки тревожно сжалось: пролетка миновала место ее встреч с неуклюже предприимчивым молодым итальянцем Антонио. И она на мгновение «показалась самой себе чем-то вроде большой рыжей лисы, утащившей петуха из курятника и, блудливо озираясь, ускользавшей эдакой фокстротной повадкой подальше в лес».
В 1925 году Петр Петрович изобразил дочь на портрете, названном «Замуж не берут!». На нем мы видим привлекательную двадцатидвухлетнюю особу, кутающуюся в шубку в зябком девичьем одиночестве, с печальной задумчивостью на лице и со слезой во взоре. В портрете между тем живет улыбка отца-художника, убежденного в том, что отбою от женихов у дочери нет и не может не быть. Собственно, так и случилось – в 1927 году она нашла себе мужа.
Первым мужем Натальи Петровны был сын богатого московского купца первой гильдии, державшего до революции торговлю чаем. В роду его были и крепостные. А сам он получил хорошее образование в Англии. Когда-то он был пианистом, но бросил музыку и перешел на коммерцию. Работал некоторое время в торгпредстве в Англии, затем в Москве. И именно он, Алексей Алексеевич Богданов, развлекал уже в Америке ностальгически опечаленного Сергея Тимофеевича Коненкова импровизациями на темы Баха, любимого композитора скульптора.
Старший сын Натальи Петровны так передает романтическую историю ее первого брака: «В 1927 году мама убежала в Америку без разрешения родителей. С чужим мужем. В те времена можно было развестись по почте. Пока доехали до Владивостока, он уже получил по телеграмме развод. На пароходе, который шел из Иокогамы в Сан-Франциско, поженились: в Америку она уже въехала женой красивого господина… Он был представителем «Амторга», свободно владел английским, курил сигары и носил гамаши…»
По свидетельству внучки Натальи Петровны Ольги Семеновой, ее бабушка, мечтавшая о многодетной семье, пережила глубочайшую драму в супружеской жизни. «Шесть раз обрывались беременности. Когда, перед возвращением в Россию, родился мертвый ребенок, поняла, что остается надеяться на чудо…»Дочь Екатерину Наталья «вымолила», вернувшись в Россию в очередной раз беременной. И 7 ноября 1931 года у нее родилась пятикилограммовая девочка, прозванная акушерками царь-бабой… Он и стала по прошествии времени матерью Ольги Семеновой.
Через пару лет после возвращения в Россию супруги, по инициативе Натальи Петровны, расстались. Спустя время по обвинению в шпионаже был расстрелян старший сводный брат Алексея Богданова. Младший пытался протестовать. Его посадили. И в лагере купец-англоман вскрыл себе вены.
2В 1934 году Наталья Петровна познакомилась с поэтом Павлом Васильевым, история отношений с которым откликнулась в «Сибириаде». Знакомство состоялось в семье поэта Михаила Герасимова. Здесь собирались друзья-стихотворцы: Кириллов, Грузинов, Клычков. Это были литераторы пролетарско-крестьянского направления и такого же происхождения. Все они были репрессированы и расстреляны в 1937 году.
Сама Наталья Петровна об этом периоде своей жизни писала: «Мне был тогда 31 год… Я оставалась одна, была еще молода, свободна, привлекательна. Я хорошо говорила по-английски, писала стихи, пела американские песни, подражая неграм, ловко выплясывала их танцы, подпевая себе…»
Зажигательный «негритянский танец» и подогрел лирический восторг Павла Васильева, кажется, самого крупного из всей этой компании поэта, и он разрешился стихами, воспевавшими столь яркое событие.
…Есть своя повадка у фокстрота,
Хоть ему до русских, наших, – где ж!..
Но когда стоишь вполоборота,
Забываю, что ты де-ла-ешь…
… Стой, стой, стой, прохаживайся мимо.
Ишь, как изучила лисью рысь.
Признаю все, что тобой любимо,
Радуйся, Наталья, веселись!..
Стихи «Шутка» были написаны в марте 1934 года. Но читатель уже заметил, наверное, что Наталья Петровна сознательно или скорее бессознательно фактически цитирует их, когда признается в более поздних автобиографических очерках в легком чувстве вины, которое вдруг посетило ее, когда семья покидала Сорренто. Может быть, она не могла избавиться от этого чувства не столько перед давним Антонио, сколько перед Павлом, чем-то неуловимо смахивающим на портрет хвастливого итальянца, нарисованный Натальей Кончаловской в ее воспоминаниях.
Поначалу поэт произвел на молодую женщину неприятное впечатление. «Был он в манерах развязен, самоуверен, много курил, щурясь на собеседников и стряхивая длинными загорелыми пальцами пепел от папиросы куда попало». Но как только он начинал читать стихи, его облик неузнаваемо менялся в глазах Натальи. «И это был подлинный талант, всепобеждающий, как откровение, как чудо!» – восклицает она годы спустя.
Появился целый стихотворный цикл, посвященный «русской красавице» и, по убеждению Андрея, «сублимировавший эротическое, сексуальное влечение к ней».
По первым строфам «Стихов в честь Натальи» можно действительно подумать, что лирический герой воспевает вполне конкретную свою возлюбленную и недавнюю с ней близость. Но дальнейшее развитие лирического сюжета абсолютно фольклорно. Здесь видно восхваление не столько конкретной особы, сколько обобщенной русской красавицы Натальи, вроде сказочной Василисы Прекрасной. И в этом весь Павел Васильев, его поэтическая манера.
Прекращение приятельских отношений между ними Наталья Петровна описывала так: «Я была в ударе, танцевала, шутила, пила шампанское, и вдруг Павел, от которого можно было ждать любой неожиданной выходки, иногда почти хулиганской, почему-то пришел в бешеную ярость. То ли выпил лишнего, то ли взяла его досада на мою «неприступность», но вдруг с размаху ударил меня и с перекошенным побелевшим лицом выбежал из квартиры и скрылся».
На следующий же день Наталья услышала звонок в дверь своей квартиры. Открыла – перед ней стоял Павел. Он просил прощения и обещал, если Наталья не простит, стать перед дверью на колени и не уходить в ожиданье прощения. Женщина в гневе захлопнула дверь. А Павел стоял так с двенадцати до трех часов дня… Ей звонили соседи и сообщали, что какой-то ненормальный не хочет уходить с площадки. В конце концов позвонили из милиции… «Я решила прекратить эту демонстрацию и открыла ему дверь. Он плакал. Просил прощения. Я простила его, но он ушел расстроенный. И дружбе нашей пришел конец…»
Андрей полагает, что мать очень рассердили стихи Павла, поскольку в них воспроизводились отношения, каковых на самом деле между нею и поэтом никогда не было. Но в стихах были лишь пылкое воображение поэта и такой уровень художественного обобщения, который вряд ли подразумевает портретную конкретику.
И Наталья Петровна, и Павел Васильев – сибирских корней, но не были равны по социальному происхождению. У поэта оно явно пролетарское. Неравенство это, может быть, откликнулось в героях «Сибириады», далекими прототипами которых они стали.
Настя Соломина – девушка из семьи зажиточной, крепкой, своенравная, с сильным характером. Николай Устюжанин – бедняк, отравленный мечтой о «городе Солнца», о царстве небесном для бедных. Их отношения начинались, что называется, с классовой вражды, когда маленький Колька, живущий вечно впроголодь, охотился за пельмешками Соломиных, а Настя его ловила и жестоко наказывала. Девушкой и юношей они полюбили друг друга. Но классовая дистанция давала себя знать, отодвигая чувство, пока наконец оба не покинули родную Елань, окунувшись в костер революции.
Художественный вымысел и биографический факт реальной жизни время от времени пересекаются в творчестве режиссера, подсвечивая, комментируя друг друга. Но сам Кончаловский ни одну из своих картин не может назвать автобиографичной. «Если это и присутствует, то проявляется не в ситуациях, а в моем отношении к ним… Все мои картины автобиографичны лишь в том смысле, что в них я говорю о том, к чему мое сердце открыто, что мне дорого, что занимает меня в проблемном плане. Дуализм свободы, мужчина и женщина, что их связывает и что разделяет, как соотносятся любовь и свобода. Я, например, очень сильно сомневаюсь в том, что можно любить и быть свободным. А если свобода без любви или любовь без свободы, тогда что лучше? У каждого свой выбор, но каждый должен чем-то пожертвовать. Необходимость жертвовать – в этом уже есть автобиографический момент».
Актриса Наталья Андрейченко была приглашена на роль героини фильма не случайно. Не нужно особой зоркости, чтобы разглядеть ее типажное сходство с фотографическим портретом Натальи Кончаловской середины 1920-х годов. Режиссер, у которого затеялись недолгие романтические отношения с актрисой, вспоминал: «Она стояла готовила яичницу; я смотрел на ее икры, плотные, сбитые – вся казалась сделанной из одного куска. Сразу понял: она настоящая и, наверное, может сыграть Настю. Наташа Андрейченко – от природы актриса. В ней русская широта, ощущение себя в пространстве, стать, мощь…»
Когда размышляешь над тем, что от материнской натуры унаследовано Кончаловским-художником, то прежде всего думаешь о чувственности, присущей его кинематографу и сознательно им культивируемой, особенно в советский период. Думаешь о чувственности, по природе своей неотвратимо разрушительной, но в то же время скрывающей в себе обещание чего-то настоящего, основательно крепкого, как корни дерева, упрочившегося в своей почве.
По-фольклорному праздничный и жестокий, язычески-чувственный мир поэзии Павла Васильева именно через факты биографии матери стал для Андрея отправной точкой в решении взять повесть Айтматова «Первый учитель» для своей дипломной картины. «Киргизия, какой я ее знал по стихам Васильева, была страной людей с открытыми и первозданными чувствами, с яростным накалом страстей…» Биографическое, даже глубоко интимное, преображенное фантазией режиссера, становилось эпикой.