Читать книгу "Что я видел. Эссе и памфлеты"
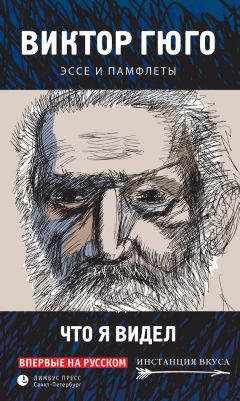
Автор книги: Виктор Гюго
Жанр: Зарубежная публицистика, Публицистика
Возрастные ограничения: 16+
сообщить о неприемлемом содержимом
В конце концов, чтобы доказать абсурдность правила двух единств, было бы достаточно последнего довода, заложенного в самой сущности искусства. Это существование третьего единства, единства действия, которое одно только признано всеми, потому что оно вытекает из следующего факта: ни человеческий глаз, ни разум не могут охватить больше одного целого сразу. Оно настолько же необходимо, насколько два других бесполезны. Именно оно выражает точку зрения драмы: и тем самым оно исключает два других. В драме не может быть трех единств, как не может быть трех горизонтов в одной картине. Впрочем, не будем смешивать единство с простотой действия. Единство целого никоим образом не отвергает второстепенные действия, на которые должно опираться главное. Нужно только, чтобы эти части, искусно подчиненные общему, постоянно тяготели к центральному действию и группировались вокруг него разными этажами, или, скорее, в разных планах драмы. Единство целого – это закон театральной перспективы.
«Но, – воскликнут таможенники мысли, – великие гении, однако, подчинялись им, этим правилам, которые вы отвергаете!» Ну да, а что бы сделали эти удивительные люди, если бы им это позволили? По крайней мере, они не приняли ваши оковы без борьбы. Нужно было видеть, как Пьер Корнель, которого вначале терзали за его дивного «Сида», отбивается от Мере, Клавере, д’Обиньяка и Скюдери! Как он разоблачает перед потомством неистовство этих людей, которые, как оно говорит, обеляют себя Аристотелем. Нужно видеть, как ему говорят, – мы цитируем тексты того времени: «Молодой человек, нужно научиться, прежде чем поучать, да и если вы не Скалигер или Гейнзиус, это вообще неприемлемо!» Здесь Корнель возмущается и спрашивает, не хотят ли его поставить «много ниже Клавере»? Тут Скюдери приходит в негодование от такой гордыни и напоминает «этому трижды великому автору «Сида» <…> скромные слова, которыми Тассо, величайший человек своего века, начал апологию прекраснейшего из своих произведений против самой едкой и самой несправедливой критики, которая, возможно, когда-либо существовала. «Господин Корнель, – добавляет он, – свидетельствует своими «Ответами», что он столь же далек от скромности, как и от достоинств этого превосходного автора». Молодой человек, столь справедливо и столь мягко критикуемый, решается защищаться; тогда Скюдери возобновляет попытку; он призывает себе на помощь знаменитую академию: «Произнесите, о, судьи мои, достойный вас приговор, который покажет всей Европе, что «Сид» – вовсе не шедевр величайшего человека Франции, но, несомненно, наименее рассудительная из пьес самого господина Корнеля. Вы должны это сделать как ради вашей славы в частности, так и ради славы нашей нации в целом, которая заинтересована в этом; так как иностранцы могут увидеть этот прекрасный шедевр, и тогда они, у кого были Тассо и Гварини, подумают, что наши величайшие художники – не более чем ученики». В этих немногих назидательных строках содержится вся извечная тактика завистливой рутины против зарождающегося таланта, тактика, которой следуют еще в наши дни и которая, например, добавила такую любопытную страницу к юношеским опытам лорда Байрона. Скюдери дает нам ее квинтэссенцию. Так, предшествующие произведения гения всегда предпочтительнее его новых творений, чтобы доказать, что он падает, вместо того чтобы подниматься, «Мелита» и «Галерея Пале-Рояля» ставятся выше «Сида»; затем имена тех, кто уже умер, бросают в лицо живым: Корнеля, словно камнями, побивают именами Тассо и Гварини (Гварини!), как позднее будут побивать Расина Корнелем, Вольтера – Расином, как теперь побивают все, что возвышается, Корнелем, Расином и Вольтером. Тактика, как это видно, избитая, но, видимо, она хороша, поскольку ею постоянно пользуются. Однако несчастный гений все еще отдувался. Здесь следует восхититься тому, как Скюдери, капитан этой трагикомедии, выведенный из терпения, нападает на него, как безжалостно он использует свою классическую артиллерию, как он «показывает» автору «Сида», «какими должны быть эпизоды, согласно Аристотелю, который учит этому в главах 10-й и 16-й своей «Поэтики», как он громит Корнеля тем же Аристотелем – «в главе 11-й, в которой видно осуждение «Сида», Платоном – «в книге 10-й его «Республики», Марцеллином – «в книге 27-й можно это видеть», «трагедиями о Ниобее и Иевфае», «Аяксом» Софокла», «примером Еврипида», «Гейнзиусом в главе 6-й, о построении трагедии, и Скалигером-сыном в его стихах», наконец «канонистами и юрисконсультами в главе о браке». Первые аргументы были обращены к академии, последний – к кардиналу. После булавочных уколов – удар дубиной. Понадобился судья, чтобы разрешить вопрос. Шаплен сделал это17. Корнель был осужден, лев оказался в наморднике, или, как тогда говорили, «ворона была ощипана».[35]35
Игра слов: corneille – ворона (фр.).
[Закрыть] А вот теперь печальная сторона этой гротескной драмы: после того как его сломали при первой же попытке, этот совершенно новый и в то же время напитанный Средними веками и Испанией гений, вынужденный лгать самому себе и броситься в античность, дал нам этот кастильский Рим, великолепный, бесспорно, но где не найти ни подлинного Рима, ни настоящего Корнеля; за исключением, может быть, «Никомеда», столь высмеиваемого в прошлом веке за свой гордый и наивный колорит.
Расин испытал такое же разочарование, не оказав, впрочем, такого же сопротивления. Ни в его гении, ни в его характере не было возвышенного упорства Корнеля. Он молча покорился и отдал пренебрежению его времени и восхитительную элегию «Эсфири», и великолепную эпопею «Гофолии». Поэтому следует предположить, что, если бы он не был так парализован предрассудками своего века, если бы его не касался так часто электрический скат классицизма, он не упустил бы случая поставить в своей драме между Нарциссом и Нероном Локусту и тем более не убрал бы за кулисы эту дивную сцену пира, в которой ученик Сенеки отравляет Британика, поднося ему яд в чаше примирения18. Но можно ли требовать от птицы, чтобы она летала под колоколом воздушного насоса? Какой красоты нам стоили люди со вкусом, начиная от Скюдери и кончая Лагарпом! Можно было бы составить прекрасное произведение из всего того, что их бесплодное дыхание иссушило в зародыше. Впрочем, наши великие поэты еще сумели распространить свой гений сквозь все эти помехи. Часто их тщетно хотели замуровать в догмах и правилах. Подобно древнееврейскому гиганту, они уносили с собой на гору двери своей темницы19.
Однако по-прежнему повторяют и, вероятно, какое-то время еще будут повторять: «Следуйте правилам! Подражайте образцам! Образцы были сформированы правилами!» Но подождите! В таком случае есть два вида образцов: те, которые сделаны по правилам, и еще до них те, по которым создали правила. Итак, в какой же из этих двух категорий гений должен искать себе место? Хотя всегда трудно общаться с педантами, не лучше ли в тысячу раз давать им уроки, чем получать это от них? А потом – подражать? Стоит ли отражение света? Стоит ли спутник, который без конца тащится по одному и тому же кругу, главного и животворящего светила? Со всей своей поэзией Вергилий – это только луна Гомера.
И давайте посмотрим: кому подражать? Древним? Мы только что доказали, что их театр не имеет ничего общего с нашим. Впрочем, Вольтер, который не хочет Шекспира, не хочет также греков. Он сейчас нам скажет почему: «Греки позволяли себе зрелища, не менее возмутительные для нас. Ипполит, разбившийся при падении, выходит на сцену считать свои раны и испускать жалобные крики. Филоктет испытывает приступы боли; черная кровь течет из его раны. Эдип, покрытый кровью, которая еще сочится из его глазниц, после того как он только что вырвал себе глаза, жалуется на богов и людей. Слышны вопли Клитемнестры, которую убивает ее собственный сын, а Электра кричит на сцене: «Разите, не жалейте ее, она не пощадила нашего отца». Прометея прибивают к скале гвоздями, которые вколачивают ему в живот и в руки. Фурии отвечают окровавленной тени Клитемнестры нечленораздельным воем… Искусство находилось в младенчестве во времена Эсхила, так же как и в Лондоне во времена Шекспира». Новым авторам? О! Подражать подражателям? Помилуйте!
«Ma,[36]36
Но (итал.).
[Закрыть] – возразят нам снова, – подобно тому, как вы представляете себе искусство, кажется, вы ждете только великих поэтов, постоянно рассчитывая на гениев?» Искусство не рассчитано на посредственность. Оно ей ничего не предписывает, оно совершенно ее не знает, она для него вовсе не существует; искусство дает крылья, а не костыли. Увы, д’Обиньяк следовал правилам, Кампистрон подражал образцам! Не все ли ему равно? Оно строит свой дворец вовсе не для муравьев. Оно позволяет им строить муравейник даже не зная, придут ли они возвести эту пародию на его здание на его фундаменте.
Критики схоластической школы ставят своих поэтов в странное положение. С одной стороны, они непрерывно кричат им: «Подражайте образцам!» С другой стороны, они имеют обыкновение заявлять, что «образцы неподражаемы!» Однако если их рабочим с помощью тяжкого труда удается протащить в эту вереницу какой-нибудь оттиск, какое-нибудь бесцветное подражание мастерам, эти неблагодарные, при рассмотрении нового refaccimento,[37]37
Переработка (итал.).
[Закрыть] восклицают то: «Это ни на что не похоже!», то: «Это похоже на все!» И по этой специально сделанной логике каждая из этих двух формулировок есть осуждение.
Так скажем же смело: время пришло. И было бы странно, если бы в нашу эпоху свобода, как свет, проникала бы всюду, кроме того, что от природы свободнее всего на свете, – мысли. Ударим молотом по теориям, поэтикам и системам. Сбросим эту старую штукатурку, которая скрывает фасад искусства! Нет ни правил, ни образцов; или, вернее, нет других правил, кроме общих законов природы, господствующих над всем искусством в целом, и особых законов, которые для каждого произведения следуют из условий существования, присущих каждому сюжету. Одни – вечные, внутренние и неизменные; другие – изменчивые, внешние и служат только один раз. Первые – это сруб, поддерживающий дом; вторые – леса, которые служат лишь во время строительства и которые возводят заново для каждого здания. Наконец, одни – это костяк, а другие – одежда драмы. Впрочем, об этих правилах не пишут в поэтиках. Ришле20 о них даже не подозревает. Гений, который скорее догадывается, чем изучает, для каждого своего произведения извлекал первые из общего порядка вещей, вторые – из обособленного единства разрабатываемого им предмета; не так, как это делает химик, который разжигает свою печь, раздувает огонь, нагревает тигель, анализирует и разлагает, но как пчела, которая летит на своих золотых крыльях, садится на каждый цветок и извлекает из него мед, так, что чашечка цветка ничуть не теряет своей свежести, а венчик – своего аромата.
Мы настаиваем на том, что поэт должен советоваться только с природой, с истиной и со своим вдохновением, которое также есть истина и природа. «Quando he», – говорит Лопе де Вега.
Действительно, чтобы запереть правила, не слишком много и шести ключей. Пусть поэт особенно остережется копировать кого бы то ни было – Шекспира не более чем Мольера, Шиллера не более чем Корнеля.[39]39
Также и не посредством переработки для сцены романов, будь даже они написаны Вальтером Скоттом, можно достигнуть действительного прогресса в искусстве. Это хорошо в первый или во второй раз, особенно когда авторы переработок обладают другими, более серьезными достоинствами; но по существу это приводит лишь к замене одного подражания другим. Впрочем говоря, что не нужно подражать ни Шекспиру, ни Шиллеру, мы имеем в виду лишь тех неловких подражателей, которые, выискивая правила там, где эти поэты лишь проявили свой гений, воспроизводят их форму без их духа, их кору без их сока, а не искусные переводы этих авторов, которые могли бы сделать другие, истинные поэты. Г-жа Тастю превосходно перевела ряд сцен из Шекспира. Г-н Эмиль Дешан в настоящее время перелагает для нашего театра «Ромео и Джульетту», и такова замечательная гибкость его таланта, что в своих стихах он передает всего Шекспира, как он уже передал в них всего Горация. Конечно, это тоже работа художника и поэта, труд, который не исключает ни оригинальности, ни жизни, ни творчества. Именно так авторы псалмов переложили «Книгу Иова». (Прим. авт.)
[Закрыть] Если бы подлинный талант мог до такой степени отказаться от своей собственной природы и оставить в стороне свою собственную самобытность, чтобы перевоплотиться в другого, он потерял бы все, играя роль двойника. Это бог, который становится слугой. Нужно черпать только из первичных источников. Одни и те же соки, разлитые в почве, дают жизнь всем деревьям в лесу, столь различающимся своим видом, плодами и листвой. Одна и та же природа оплодотворяет и питает самых разных гениев. Настоящий поэт – это дерево, подвластное всем ветрам и напоенное всеми росами, он несет свои произведения, как плоды, как сборник басен нес свои басни. Зачем привязываться к учителю, к образцу? Лучше быть колючим кустарником или чертополохом, питаемым той же землей, что кедр или пальма, чем грибком или лишаем этих больших деревьев. Колючий кустарник живет, грибок прозябает. Впрочем, как бы ни были велики этот кедр и эта пальма, одного извлекаемого из них сока не достаточно, чтобы самому стать великим. Паразит гиганта будет всего-навсего карликом. Дуб, как он ни колоссален, может произвести и питать только омелу.
Не составьте себе неверного представления, если некоторые из наших поэтов смогли стать великими, даже подражая, то дело в том, что, даже беря за образец античные формы, они часто прислушивались также к природе и к голосу своего гения и в некотором отношении были самими собой. Их ветви цеплялись за соседнее дерево, но их корни уходили в почву искусства. Они были плющом, а не омелой. Затем пришли подражатели на вторых ролях, которые, не имея ни корней в почве, ни гения в душе, вынуждены были ограничиться подражанием. Как говорит Шарль Нодье, «после афинской школы – школа александрийская». Тогда посредственность наводнила все; тогда изобиловали эти трактаты о поэтике, столь стеснительные для таланта и столь удобные для нее. Сказали, что все уже сделано, Богу запретили создавать новых Мольеров, новых Корнелей. Воображение заменили памятью. Вопрос был решен бесповоротно: для этого есть афоризмы. «Воображать, – с наивной уверенностью говорит Лагарп, – это, в сущности, значит вспоминать».
Стало быть, природа! Природа и истина. И здесь, чтобы показать, что новые идеи ничуть не пытаются разрушить искусство, а хотят лишь перестроить его более прочно и на лучшем основании, попытаемся указать, какова эта непреодолимая граница, которая, по нашему мнению, отделяет реальное в искусстве от реального в природе. Было бы необдуманно смешивать их, как это делают некоторые мало продвинутые сторонники романтизма. Правда в искусстве никогда не могла бы быть, как многие это говорят, абсолютной правдивостью. Искусство не может дать самого предмета. Представим одного из этих опрометчивых инициаторов абсолютной природы, природы, рассматриваемой вне искусства, на представлении какой-нибудь романтической пьесы, например «Сида». «Что это? – скажет он при первых же словах. – Сид говорит стихами! Говорить стихами неестественно». – «Как же вы хотите, чтобы он говорил?» – «Прозой». – «Ладно, пусть будет так». Минуту спустя: «Как! – продолжит он, если он последователен, – Сид говорит по-французски?» – «Ну и что же?» – «Естественность требует, чтобы он говорил на своем языке; он может говорить только по-испански». – «Мы тогда ничего не поймем; но хорошо, пусть». Вы думаете, это все? Вовсе нет; прежде чем прозвучит десяток кастильских фраз, он должен подняться и спросить, тот Сид, который говорит, настоящий ли это Сид из плоти и крови. По какому праву этот актер, которого зовут Пьер или Жак, взял себе имя Сида? Это ложь. И у него нет никакой причины не потребовать затем, чтобы заменили солнцем эту рампу, настоящими деревьями и настоящими домами эти лживые декорации. Так как раз уж мы вступили на этот путь, логика держит нас за шиворот, и мы не можем больше остановиться.
Значит, под угрозой абсурда мы должны признать, что сфера искусства и сфера природы совершенно различны. Природа и искусство – две разные вещи, иначе или одно, или другое не существовало бы. Искусство, помимо своей идеальной стороны, имеет еще сторону земную и положительную. Что бы оно ни делало, оно находится между грамматикой и просодией, между Вожла21 и Ришле. Для самых причудливых своих созданий у него есть различные формы, средства исполнения, целый арсенал, который оно может использовать. Для гения это инструменты искусства; для посредственности – орудия ремесла.
Другие, кажется, уже говорили: драма – это зеркало, в котором отражается природа. Но, если это зеркало обыкновенное, с ровной и гладкой поверхностью, оно отразит лишь тусклое и плоское изображение предметов, достоверное, но бесцветное; известно, как много теряют краски и свет при простом отражении. Значит, драма должна быть концентрирующим зеркалом, которое собирает и конденсирует цветные лучи, ничуть их не ослабляя, которое превращает слабый отблеск в свет, а свет – в пламя. Только тогда драма может быть признана искусством.
Театр создает зрительный образ. Все, что существует в мире, в истории, в жизни, в человеке, должно и может в нем отразиться, но только с помощью волшебной палочки искусства. Искусство листает века, листает природу, изучает хроники, учится воспроизводить подлинность событий, особенно подлинность нравов и характеров, гораздо менее подлежащих сомнению и противоречиям, чем факты,[40]40
Удивительно читать у Гете следующие строки: «В поэзии, собственно говоря, нет исторических персонажей; только когда поэт хочет изобразить мир, который он замыслил, он делает честь некоторым лицам, которых он встречает в истории, заимствуя их имена, чтобы назвать ими созданные им существа». – «Uber Kunst und Altertum» («Об искусстве и античности»). Ясно, к чему может привести эта теория, если принять ее всерьез: к праву на ложь и на фантастику. К счастью, знаменитый поэт, которому, вероятно, она однажды показалась в некотором отношении правильной, поскольку он ее высказал, конечно, не применит ее на практике. Он, наверное, не создаст Магомета, подобного Вертеру, или Наполеона, подобного Фаусту. (Прим. авт.)
[Закрыть] восстанавливает то, что сократили летописцы, приводит в соответствие то, что они отбросили, угадывает их опущения и исправляет их, заполняет пробелы плодами своего воображения, окрашенными колоритом времени, соединяет то, что у них рассеяно, восстанавливает движение нитей провидения, управляющих человеческими марионетками, облекает все в форму одновременно и поэтическую, и естественную и придает всему ту правдивую и рельефную жизненность, которая порождает иллюзию, то самое очарование реальности, которое захватывает зрителя, и в первую очередь самого поэта, ибо поэт искренен. Таким образом, цель искусства почти божественна: воскрешать, если оно занимается историей; творить, если оно занимается поэзией.
Какое величественное и прекрасное зрелище – развивающаяся с такой широтой драма, в которой искусство мощно развивает природу; драма, в которой действие движется к развязке твердой и легкой поступью, без многословия, но и без сжатости; наконец, драма, в которой поэт всецело достигает сложную цель искусства, состоящую в том, чтобы открыть зрителю двойной горизонт, осветить одновременно внутренний и внешний облик людей; внешний – через их речи и действия, внутренний – через реплики в сторону и монологи; одним словом, совмещая в одной картине драму жизни и драму сознания.
Понятно, что для произведения такого рода, если поэт должен выбирать, о чем рассказывать (а он должен это делать), то это будет не прекрасное, а характерное. И дело не в том, что следует придать, как сейчас говорят, местный колорит, то есть добавить потом несколько кричащих мазков, наложенных там и сям на все произведение в целом, совершенно, впрочем, ложное и условное. Местный колорит должен быть вовсе не на поверхности драмы, но в ее сущности, в самом сердце произведения, откуда он распространяется наружу, сам по себе, естественно, равномерно проникает, так сказать, во все уголки драмы, как сок, который поднимается от корня дерева до самого последнего его листочка. Драма должна быть полностью пропитана этим колоритом времени; он должен, что называется, носиться в воздухе, так, чтобы вы замечали, что переходите в другой век и другую атмосферу, только входя туда и выходя оттуда. Нужны некоторые исследования, нужен тяжелый труд, чтобы достичь этого; тем лучше. Хорошо, когда пути искусства полны трудностей, перед которыми отступает все, кроме людей, обладающих твердой волей. Впрочем, именно это изучение, подкрепленное пламенным вдохновением, предохранит драму от порока, который ее убивает, – от заурядности. Заурядность – недостаток поэтов со слабым зрением и коротким дыханием. Оптика сцены требует, чтобы каждой фигуре была придана самая выдающаяся, самая индивидуальная, самая точная ее черта. Даже вульгарное и тривиальное должно быть подчеркнуто. Ничем нельзя пренебрегать. Настоящий поэт, подобно Богу, присутствует сразу повсюду в своем произведении. Гений похож на пресс для чеканки, который отпечатывает королевское изображение как на медных монетах, так и на золотых экю.
Мы без колебаний, и это также могло бы служить добросовестным людям доказательством того, сколь мало мы стремимся обезобразить искусство, мы без малейших колебаний рассматриваем стих как одно из наиболее действенных средств для того, чтобы предохранить драму от только что указанного нами бедствия, как одну из самых мощных плотин против вторжения заурядности, которая так же, как демократия, всегда переполняет умы. И пусть молодая наша литература, уже столь богатая как людьми, так и произведениями, позволит указать ей здесь на одно заблуждение, в которое, как нам кажется, она впадает, заблуждение, впрочем, слишком оправданное невероятными заблуждениями старой школы. Новый век находится еще в том периоде роста, когда можно легко исправиться.
Недавно сформировалась как предпоследнее ответвление старого классического ствола, или, вернее, как один из этих наростов, один из этих полипов, которые образуются от дряхлости и в большей степени служат признаком разложения, чем доказательством жизни, сформировалась своеобразная школа драматической поэзии. Учителем и родоначальником этой школы, как нам кажется, является поэт, который отметил переход от восемнадцатого века к девятнадцатому, мастер описаний и перифразы, тот самый Делиль, хвалившийся, как говорят, под конец своей жизни в стиле гомеровских перечислений тем, что сделал двенадцать верблюдов, четырех собак, трех лошадей, включая сюда и лошадь Иова, шесть тигров, двух кошек, шахматы, триктрак, шашечницу, бильярд, несколько зим, множество лет и весен, пятьдесят солнечных закатов и столько восходов солнца, что он сбился со счета.
Итак, Делиль перешел в трагедию. Это он (он, а, упаси бог, не Расин!) – отец так называемой школы изящества и хорошего вкуса, которая недавно расцвела. Трагедия для этой школы вовсе не то, чем она является, например, для простака Жиля Шекспира22, источником всякого рода эмоций; но обрамление, удобное для решения огромного количества мелких описательных задач, которые она ставит себе мимоходом. Эта муза далека от того, чтобы отвергнуть, как подлинная французская классическая школа, тривиальные и низменные аспекты жизни, она, напротив, выискивает и жадно собирает их. Гротеск, которого, как дурного общества, избегала трагедия Людовика XIV, не может спокойно пройти мимо нее. Его нужно описать! То есть облагородить. Сцена в караульном помещении, бунт черни, рыбный рынок, каторга, кабак, курица в горшке Генриха IV23 для нее – удача. Она хватается за них, она умывает эту мерзость и нашивает на эти гадости свою мишуру и блестки: purpureus assuitur pannus.[41]41
Пришивается пурпурный лоскут (Гораций) (лат.).
[Закрыть] Ее цель, кажется, состоит в том, чтобы выдать дворянские грамоты всем этим разночинцам драмы; и каждая из этих грамот за королевской печатью – это тирада.
Сия муза, мы это понимаем, – редкая ханжа. Она привыкла к ласкам перифразы, слово, употребленное в прямом значении, ее оскорбляет и внушает ужас. Говорить естественно совершенно недостойно ее. Она ставит в вину старику Корнелю его манеру выражаться слишком прямо:
…Куча людей, погрязших в долгах и преступлениях.[42]42
«Цинна», д. V, явл. 1.
[Закрыть]…Химена, кто бы это подумал? Родриго, кто бы это сказал?[43]43
«Сид», д. III, явл. 4.
[Закрыть]…Когда их Фламиний продавал Ганнибала.[44]44
«Никомед», д. I, явл. 1.
[Закрыть]…О, не ссорьте меня с республикой![45]45
Там же, д. II, явл. 3.
[Закрыть] и т. д.
Еще она сожалеет об этом его: «Потише, месье!» И потребовалось множество сеньоров и мадам, чтобы простить нашему восхитительному Расину его столь односложных псов и этого Клавдия, так грубо уложенного в постель Агриппины24.
Эта Мельпомена, как она себя называет, содрогнулась бы от прикосновения к хронике. Она оставляет костюмеру заботу определить, в какую эпоху происходит действие ее драм. История в ее глазах – это моветон и дурной вкус. Как, например, можно мириться с королями и королевами, которые бранятся? Их следует поднять от их королевского достоинства до достоинства трагического. Подобного рода повышением она облагородила Генриха IV. Так, народный король, очищенный г-ном Легуве, увидел, как из его уст с помощью двух изречений с позором изгнали его «черт побери» и вынудили, как девушку в фаблио, ронять из своих королевских уст только жемчужины, рубины и сапфиры; и все фальшивые, по правде говоря.
Короче говоря, нет ничего столь заурядного, как это условное изящество и благородство. В этом стиле нет никаких находок, никакого воображения, никакого творчества. Повсюду видны лишь риторика, напыщенность, общие места, цветы школьного красноречия, поэзия латинских стихов. Заимствованные идеи, облеченные в дешевые образы. Поэты этой школы изящны на манер театральных принцев и принцесс, всегда уверенные в том, что найдут в магазине, в ящиках с наклеенной этикеткой, мантии и короны из фальшивого золота, беда которых лишь в том, что они служили всем. Если эти поэты не перелистывают библии, это не значит, что у них нет своей толстой книги. И это «Словарь рифм». Там источник их поэзии, fontes aquarum.[46]46
Источники вод (лат.).
[Закрыть]
Понятно, что во всем этом природа и истина становятся тем, чем могут. Только в редком случае какие-то их обломки могут удержаться на поверхности в этом стихийном бедствии ложного искусства, ложного стиля, ложной поэзии. Вот в чем причина ошибки многих наших выдающихся реформаторов25. Шокированные отсутствием гибкости, помпезностью этой мнимой драматической поэзии, они сочли, что элементы нашего поэтического языка несовместимы с естественностью и правдивостью. Александрийский стих так их утомил, что они осудили его, так сказать, не желая даже выслушать, и вынесли приговор, возможно, немного поспешный, что драма должна быть написана прозой.
Они ошибались. Если фальшь действительно господствует как в стиле, так и в действии некоторых французских трагедий, то винить в этом следует не стихи, а стихотворцев. Нужно было осуждать не использованную форму, а тех, кто ее использовал; работников, а не инструмент.
Чтобы убедиться, сколь мало препятствий природа нашей поэзии противополагает свободному выражению всего правдивого, возможно, нужно изучать наш стих не у Расина, а, скорее, у Корнеля или еще лучше у Мольера. Расин, дивный поэт, элегичен, лиричен, эпичен; Мольер драматичен. Пора отдать должное критике, обрушенной дурным вкусом прошлого века на этот изумительный стиль, и громко заявить, что Мольер стоит на вершине нашей драмы не только как поэт, но также и как писатель. Palmas vere habet iste duas.[47]47
Буквально: он поистине имеет две пальмы (лат.), то есть дважды увенчан.
[Закрыть]
Стих у него объемлет мысль, тесно сливается с нею, одновременно ограничивает и развивает ее, придает ей более стройный, более точный, более полный вид и предоставляет ее нам, так сказать, в концентрированном виде. Стих – это зрительная форма мысли. Вот почему он особенно подходит для сценической перспективы. Построенный определенным образом, он сообщает свою выразительность тому, что без него показалось бы незначительным и тривиальным. Он делает ткань стиля более прочной и более тонкой. Это узел, который закрепляет нить. Это пояс, который поддерживает одежду и создает все ее складки. Что же могли бы потерять природа и истина, облекаясь в стих? Спросим об этом у самих наших сторонников прозы, что теряют они в поэзии Мольера? Разве вино, да будет нам позволена еще одна банальность, перестает быть вином оттого, что оно налито в бутылку?
Если бы у нас было право высказаться по поводу того, каким мог бы быть, на наш взгляд, стиль драмы, мы хотели бы стих свободный, открытый, искренний, решающийся все высказать без преувеличенной стыдливости, все выразить без манерности; естественным образом переходящий от комедии к трагедии, от возвышенного к гротескному; вместе эмоциональный и поэтический, но всегда художественный и вдохновенный, глубокий и неожиданный, широкий и правдивый; умеющий вовремя ломать и переставлять цезуру, чтобы скрыть свое александрийское однообразие; более тяготеющий к переносам, которые его удлиняют, чем к инверсии, которая его запутывает; верный рифме, этой рабыне-царице, этой высшей прелести нашей поэзии, родоначальнице нашего размера; неисчерпаемый в разнообразии своих оборотов, неуловимый в тайнах своего изящества и манеры; принимающий, подобно Протею, тысячу форм, не меняя при этом своей сущности и характера, избегающий тирад; забавляющийся в диалоге; всегда скрывающийся за персонажем; заботящийся прежде всего о том, чтобы быть на своем месте, а когда ему случится быть красивым, то как бы случайно, помимо своей воли и не сознавая этого;[48]48
Автор этой драмы говорил однажды о ней с Тальма, и в беседе, которую он запишет позже, когда нельзя больше будет заподозрить его в намерении поддержать свое произведение или слова авторитетами, изложил великому актеру некоторые свои мысли о драматическом стиле. «О да! – воскликнул Тальма, живо прервав его. – Это то самое, что я без конца им повторяю: не нужно красивых стихов!» Не нужно красивых стихов! Это глубокое правило открыл инстинкт гения. Действительно, именно красивые стихи убивают прекрасные пьесы. (Прим. авт.)
[Закрыть] лирический, эпический, драматический, по мере надобности; способный охватить всю гамму поэзии, пройти ее сверху донизу, от самых возвышенных идей до самых вульгарных, от самых забавных до самых серьезных, от самых поверхностных до самых отвлеченных, никогда не выходя за пределы данной сцены; одним словом, такой, каким бы его создал человек, если бы некая фея одарила его душой Корнеля и умом Мольера. Нам кажется, что такой стих был бы так же прекрасен, как и проза.
Не было бы ничего общего между этой поэзией и той, которую мы только что вскрыли, как труп. Тонкое различие между ними будет легко установить, если один умный человек26, которому автор этой книги обязан личной благодарностью, позволит нам позаимствовать у него остроумное определение: та поэзия была описательной, эта была бы живописной.
Повторим это еще раз, стих в театре должен отбросить всякое самолюбие, всякие требования, всякое кокетство. Там он лишь форма, такая, которая должна все допускать, ничего не навязывать драме, и, напротив, все получить от нее, чтобы все передать зрителю: французский и латинский языки, тексты законов, королевскую брань, народные выражения, комедию, трагедию, смех, слезы, прозу, поэзию. Горе поэту, если его стих будет привередничать! Но форма эта – форма бронзовая, которая обрамляет мысль своим размером, делает драму несокрушимой, запечатлевает ее в мозгу актера, указывает ему то, что он пропускает или добавляет, не дает ему испортить свою роль и заменить автора, делает священным каждое слово и поэтому то, что сказал поэт, надолго остается в памяти слушателя. Мысль, пропитанная стихом, внезапно становится более острой и сверкающей. Это железо, которое становится сталью.
Чувствуется, что проза, неизбежно намного более робкая, вынужденная лишить драму всякой лирической или эпической поэзии, сведенная к диалогам и внешними фактам, далеко не располагает подобными средствами. Ее крылья гораздо менее широкие. Затем она намного более доступна; посредственность там чувствует себя непринужденно; и, если не принимать в расчет несколько выдающихся произведений, подобных тем, что появились в последнее время, искусство могли бы очень быстро наводнить ублюдки и недоноски. Другая часть реформаторов склоняется в пользу драмы, написанной одновременно стихами и прозой, как делал Шекспир. Этот прием имеет свои преимущества. Однако здесь могут быть несоответствия при переходе от одной формы к другой, ведь когда ткань однородна, она намного прочнее. Впрочем, пусть драма написана прозой, стихами или стихами и прозой – это вопрос второстепенный. Достоинство произведения должно определяться не формой, но его действительной ценностью. В вопросах такого рода есть только одно решение. Только одна гиря может склонить весы искусства: это талант.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!








































