Текст книги "Больное дитя эпохи застоя. Мартиролог С. Иконникова"
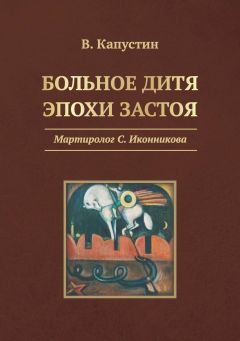
Автор книги: Виктор Капустин
Жанр: Публицистика: прочее, Публицистика
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 2 (всего у книги 10 страниц) [доступный отрывок для чтения: 3 страниц]
О рисунке
Вот с кого не надо копировать ― это с Винсента Ван Гога! Я не нахожу в этом никакой пользы. Во-первых, Ван Гог ― величайший цветовик: его цвет и экспрессия уникальны и неповторимы; во-вторых, как чистый механический рисовальщик он ― середняк, тут по этой части есть намного сильней, крепче мастера. Ван-Гог ― художник от Бога, он весь в его видении. Вот почему механический (т. е. натуралистический) рисунок ему совсем не давался, даже рисуя гипсы или штудии, он везде их преломлял на собственный лад.
По-моему, научиться хорошо рисовать можно, только копируя рабски натуру или старых мастеров. А вот стать настоящим и большим художником можно только тогда, когда научишься интерпретировать натуру, т. е. привносить что-то своё.
У нас, в России, хорошо бы молодым художникам поупражняться в копировании с К. Брюллова, А. Иванова, Репина, Серова, Крамского, Чистякова, Венецианова. И только после этого можно подумать о копиях с импрессионистов. Но если вам от Бога не дано чувство цвета, то копировать, например, с Ван Гога или Гогена бессмысленно.
Я видел в Москве несколько беспомощных копий с этих мастеров и всегда приходил в замешательство и задавал художникам один вопрос: «Зачем?»
Поэт, живи один!
Россия ― страна, мучимая тяжким недугом, и это ― недуг поэзии, поэтическое мировоззрение (нации?). Мы все немножко поэты, следственно, немножко сумасшедшие…
Мы, как тяжко, на дух не переносим новое имя, именуемое у нас поэтом, ― новым, ярким, самобытным поэтом; мы, как тяжко, долго, мучительно не пускаем его себе на глаза ― так, однажды пустив и осыпав его почестями, увив лаврами славы, мы его начинаем мучить таким же недугом, мучительным недугом нашей любви!
Впрочем, как сказано у великого Пушкина:
Да, слава в прихотях вольна,
С одной главы (она)
Сегодня исчезает
И на другой уже видна.
Россия ― это внутриутробный зык, это позыв на звуки поэзии. Россия, как сладкой отрыжки, ждёт от нас настоящей поэзии. И пожевав нас и нашу славу слегка, она снова нас проглатывает… Вот почему великий Пушкин снова прав, когда говорил:
Поэт, живи один!
Если ваша звезда как поэта не закатилась ещё, то завтра закатится.
Поэт в России ― больше, чем поэт, потому что он всегда один: перед ним нет выбора, перед ним всегда два пути: или путь на вершину, с которой он непременно свалится, или короткий путь к пропасти… Впрочем, мы не мы, если мы не будем ждать этого, не будем рукоплескать при этом…
Словом: «Per aspera ad astra»[1]1
Через тернии к звёздам (лат.).
[Закрыть].
* * *
Как поразительно нас меняет чувство любви: мы ревнуем, бесимся, ворчим, мчимся куда-то, мы летим, делаем глупости, мы стонем, плачем от радости и счастья любви. Мы готовы драться со всем миром за нашу любовь, и только никогда, полюбив, мы не старимся…
Любви все возрасты покорны ― и это правда.
* * *
Когда человек очень болен тяжким недугом, когда человек в тупике или стоит на распутье, когда человек на краю пропасти, лучше всего такому человеку полюбить.
Например, если бы мне было суждено упасть с Эвереста и разбиться вдребезги ― эти последние мгновенья жизни я предпочёл бы пролететь любя.
О вдохновении
Пушкин как-то высказался, что он находит смешным искать вдохновения и (явления музы) вдохновение само должно найти поэта.
Мне поначалу это высказывание казалось шуткой, т. к. я по неделям и даже месяцам иногда поджидал пришествия музы.
Я постился, молился, ходил в храм, чтоб только мне муза принесла на крыльях мой (прежний) утерянный цвет.
Ведь мой цвет в живописи ― это ни что иное, как зарифмованные и звонкие поэтические строки, только трансформированные в цвете…
Теперь прошла уйма времени, и я повторяю вслед за Пушкиным: вдохновение должно найти поэта, а не наоборот.
Теперь мой девиз: это моя муза должна гоняться за мной, а не я гоняться за ней!
Пушкин и тут, пожалуй, прав.
Воистину, Пушкин везде, везде прав!
Щелкачи
Только что приехал с Кавказа.
Пятигорск, Кавказские Минеральные Воды, Приэльбрусье ― это вечный источник вдохновения для поэтов. Боже, каких, каких духовных и поэтических высот достигла русская муза на Кавказе!
Пошёл прогуляться Петровским парком, что в Москве, зашёл на «Динамо» повидать известных спортсменов, поговорить о пользе холодных обливаний, о здоровье, о горном воздухе, о пробежках по утрам.
Завернул на Верхнюю Масловку к знакомым художникам. Тут имеется целый квартал творческих мастерских.
Гляжу, навстречу мне идёт щеголевато одетый господин с тросточкой, как будто сошедший со страниц Мих. Зощенко.
Скоро в этом высоком, долговязом и щеголеватом господине я узнал известного всей литературной Москве сатирика и поэта– пародиста Остоповича. Мы поздоровались. Остопович остановился и, как-то небрежно сплюнув на землю, сказал:
– Кто-то сказал мне, что Вы на Кавказе, какая наглая ложь!
– Нет, это не ложь, я только с Кавказа.
– Ну, так что слыхать о Печорине?
– Слыхать, что он по дороге из Персии умер.
– Умер? А Эолова арфа жива?
– Жива, жива, ― сказал, усмехаясь, я, чувствуя подвох или подножку сатирика.
– Да, жаль, что Эолову арфу нельзя поженить на Иване Великом, ― сказал после некоторого раздумия сатирик.
– Да, жаль, ― согласился я[2]2
Как известно, у нас на Руси мужчины женятся, а дамы выходят замуж. Следственно, Э. А. должна была выйти замуж за И. В., в этом и был подвох сатирика.
[Закрыть].
Мы раз или два поклонились друг другу, как китайские болванчики, и расстались.
«Странный субъект, ― подумал я. ― Немного артист, немного сатирик, остряк, поэт-пародист, а немного и шулер!»…
Да-с, шулер! Как сказали бы в прошлом веке. Это теперь такими щелкачами иногда полны редакции наших журналов.
Это они кроят, стригут, режут и безбожно кромсают наши рукописи. Да-с, стригут!
А вы не знаете, кто такие щелкачи? ― парикмахеры в старой Москве, что, вооружившись страшными ножницами, щелкали ими без конца.
Деспотия Гогена
Гоген ― величайший деспот. Деспот, и прежде всего к самому себе. Если о мире Рериха говорят «держава Рериха», то о мире Гогена надо говорить деспотия Гогена.
Нельзя сказать, что я не люблю глухой тон некоторых картин Гогена, в которых слышится «шаг твёрдый и тяжёлый» его деревянных башмаков.
Но он меня по временам подавляет. Полёт лёгкой и изящной кисти Клода Моне мне иногда кажется более по душе. Каждому своё. И всё же, чтобы так писать, как узкобровы двадцати………. Поль, надо было по меньшей мере шагать по этой земле шагами Геркулеса.
(Из записок С. Иконникова)
Счастье Ван Гога
Счастье Ван Гога? Что за вопрос, мне скажет обыватель, ― и так всем известно, что Винсент Ван Гог влачил жалкое существование, жил с проституткой, часто не знал, что у него завтра будет на обед. Он был нищий, непризнанный и душевнобольной человек. О каком счастье тут можно спрашивать.
И всё же Ван Гог был, по-моему, счастлив. Та страсть, с которой он отдавался живописи, а живопись платила ему нечеловеческими красками, чувствами, образами, ― это ли не счастье для художника?
Глубоко несчастлив художник тогда, когда потерпело полный провал всё, о чём он мечтал в юности: искусство, живопись, жизнь.
Теперь много таких «благополучных» художников, которые не хотят себе в этом признаться.
Ван Гог же признал мир ― жизнь его дала трещину, оборвалась рано. Но искусство его будет жить века.
Вот какой непростой вопрос, когда мы начинаем говорить о счастье (или несчастье) того или иного художника.
Наверное, по отношению к великим художникам можно вывести общую формулу: все они были счастливы!
Но вот что сказал один из самых сильных и гибких умов Европы Мишель Монтень: «Нельзя сказать о том или другом человеке, счастлив он или несчастлив. Меру своего счастья или несчастья может определить только сам человек».
* * *
Пушкин, как известно, любил говорить о чужих произведениях, новинках литературных и не любил говорить о своих произведениях, хотя, по другим сведениям, говоря о своих стихах, он был чрезвычайно ревнив. В вещах же собратьев по перу он находил массу интересного, неожиданного, нового, чем покорял собеседников. Пушкин поступал великодушно, дальновидно-зорко и мудро. Скучно оставаться на таких высотах, на каких парил его дух, скучно даже гению. И он обязательно должен снизойти иногда просто до уровня талантливых стихотворцев.
В этой скромности едва ли не главное обаяние его личности. Теперь в воспоминаниях современников Пушкин как поэт как бы один из них, окружённый целою свитой соратников и братьев по перу ― рифмачей, ― поразительно! Но от такого сближения гений Пушкина только больше блистает.
Маяковский и Бог[3]3
Проект письма из этого мира в мир иной.
[Закрыть]
Я никогда не поминаю Вас в доме Божием ― Церкви. Но я всегда скорблю в день Вашей гибели.
(из собств. записной книжки)
Начну я с того, что я Вас люблю такого, каков Вы есть: резкого, грубого, нелюдимого (скорей, нелюбимого-нежного), талантливого. За Вас я всегда рад драть горло, а «бездарнейшую погань», говоря Вашими словами, и разорвать на части.
Владим Владимыч! Не смею Вас беспокоить в том, надеюсь, лучшем из миров, где Вы прописались надолго, но Ваша тень, надеюсь, колыхнётся, когда Вы услышите своё имя ― Маяковский, а точнее, «Маяковский и богословие» или ещё лучше ― «Маяковский и Бог». Вы заметили, что слово «Бог» я написал с большой буквы, ― это для того, чтобы слегка быть неприятным Вам. Вы ведь любили всегда наезжать на нас, поэтов помельче, и подминать под себя. Но, смею думать, теперь Вас подмял под себя.
Когда я прочёл Ваши слова о Нём, Всевышнем, мне показалось, что меня зарезали. Вы ли это? Вам кто-то накапал на Него, а Вы послушали. Ваш прекрасный и мужественный рот кто-то наполнил куриным помётом, а Вы, доверчивый, стали без разбору плеваться…Вот без изъятия Ваши слова: «Я думал, что ты божище, а оказалось, что ты ― недоучка, крохотный Божек». Ан… вышла ошибочка, крохотным специалистом в области теологии, богословия оказались Вы. И, надеюсь, Вы теперь понимаете, кто из Вас недоучка?
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
О прозе Блока
Мне всегда казалось странным, почему у Блока так много однообразных стихов и совершенно отсутствует проза. Это бы разнообразило его творчество.
Но это так, к слову. А вообще А. Блок для меня Величина постоянно-неизменимая! Я очень высоко ставлю его критические статьи. Это настоящий стиль писателя!
О вере
Однажды один мой старинный товарищ страшно поразил меня своей прямотой прямо в сердце.
– Знаешь, ― сказал он мне, ― какое самое лучшее наслаждение на свете?
– Какое?
– Просто лежать, глядя прямо перед собой, и верить в Бога, ― просто лежать и в ерить, правда, это глубоко сакральная процедура, но когда она тебе удаётся, то как будто всё преображается; всё, всё, всё, что ты видел до этого, отступает куда-то на второй и даже на третий план.
Ты весь свой световой день поглощен какой-то колоссальной идеей, точно тебя подхватывает на Свои руки Божество и крепко, крепко прижимает к груди. Ты на какой-то коротенький миг становишься как будто единородным чадом своего Создателя.
Потом мой товарищ вдруг замолчал, точно спохватившись от своей оплошности.
О космосе
Однажды Винсент Ван Гог сказал о Гогене как о человеке, который «идёт издалека». Это поразительно верные слова вообще о поэте.
Поэт вечно тоскует по какой-то идее или эпохе: то ему кажется, что это эпоха Высокого итальянского Возрождения, то эпоха французских просветителей и поразительных философов, то это эпоха «Золотого века» в русской литературе у нас. Впрочем, для поэта важна вовсе не причина этой тоски, но важна сама тоска. То, о чём и насколько сильно он тоскует, часто определяет его внутренний мир и душевный настрой.
Очень важно поймать уже в отрочестве главный нерв такой тоски и настроить его на божественное.
Хотим мы этого или нет, а всякий талант (художника или писателя) ― это некий природный феномен, который можно сравнить или с хорошо настроенным музыкальным инструментом или с инструментом расстроенным.
Думаю то, что мы называем словом «Талант», к нам приходит из космоса, нам остаётся только подчиниться этим неким вибрациям.
* * *
Не представляю существо человеческое без всего того сумасшедшего богатства гаммы чувств ― движений души и разума, какими его наделили Природа и Бог.
Это как колоссальный музыкальный инструмент со множеством регистров или отверстий на дудочке, помните, как гениально Гамлет предлагает Гильденстерну сыграть на флейте…
Вот, вот, я говорю как раз об этом: нельзя играть на регистрах чужой души, особенно когда она так богата, как у Гамлета.
О молитвенности
Кто-то из русских молитвенников сказал поразительные слова, соответствующие истине: «Мы ко Христу делаем шаг, Он к нам ― два».
Как научиться молиться, очень хорошо говорит святитель Феофан Затворник, он говорит о том, что в себе надо воспитывать молитвенный дух. И это, по-видимому, надо начинать с малого.
«Молитву или устремление сердца к Богу нужно возбудить и возбуждённую укрепить», ― говорит святитель.
Есть и другие книги наших святых отцов, где нам чёрным по белому показано, как надо молиться.
Вопросы, вопросы…
1.
Когда критики моего искусства, имеющие достаточно зоркий глаз, но куцее внутреннее зрение, говорят обо мне как живописце, что я новатор, я красноречиво улыбаюсь ― хотя на мне, кажется, побывали их палки для битья…
Тот, кто менее всего оригинален в живописи, ― это я. И потом, так смотреть на мир, как смотрели до меня три пары глаз[4]4
Ф. Грек, А. Рублев, П. Гоген. Я говорю не о физической паре глаз, а об особом угле зрения, о родственности его.
[Закрыть], ― что тут нового? В том весь и секрет, что из своего ограниченного поля зрения я хотел бы уже давно выйти и производить на свет вещи иного сорта…
Меня теперь привлекает мир вовсе не новых идей, а идей, скорей, тенденциозных, тех идей, которыми были озарены моё детство и юность. Я бы хотел реанимировать в себе не пустяк, а взгляд на живопись иного кроя…
Мне кажется, что в нашей стране искусству живописи не придавали такого значения, как поэзии, как «немой поэзии» (Леонардо да Винчи). Чем бы я и хотел предстать иногда в своих двух– трёх вещах, показавшись на публике, так это поэтом из разряда немых поэтов. Я бы хотел создать немоту своих картин, на которые можно было бы смотреть, не уставая, как например, на Веласкеса.
…Ах, Веласкес, это уровень той многозначительной высоты и немоты в живописи, которыми я, кажется, отравлен с детства…
2.
Даже размышляя о своих любимых художниках нового времени: Сезанне, Ван Гоге, Гогене, ― искусства, равного по энергонасыщенности, по оригинальности и по важности диалога, который оно ведёт со зрителем, мне кажется, так никто пока и не создал ― даже любя этих художников, я нахожу, что их величие и сила только в одном ― они создали совершенно невиданное и оригинальное искусство, они нов аторы по существу их мироощущения! Они родились новаторами, для этого и жили. В этом их сила, но в этом я нахожу и слабые стороны их творчества. Никто из них не задумывался о конечном результате искусства живописи как такового. Они спешили жить, спешили творить, каждый по-своему поставив веху в искусстве. Но никто из них не Мечтатель до пароксизма. Никто из них не грезил до лунатизма категориями в живописи, которые обычно относят к метафизике и философии. Никто из них не изучал подстрочник живописи, когда начинают болеть глаза и отказывают мысли… никто из них не был божественно болен иррациональным и божественно– простым, экзистенциальным и банальным, неизреченно-нежным и безбрежным. Никто из них не был болен самой Идеей живописи. Никто из них не брал уроков (и с придыханием не брал) у Леонардо, у Дюрера, у Веласкеса. Они лишь в плену выразительных средств новейшей живописи, но никто из них не был в плену Идеи живописи. Никто из них не пытался нащупать в себе спираль такой Идеи и раскрутить её с нуля…
Третье тысячелетие, думается, подбросит немало дров в раздувание такого горна Идей.
3.
Что на самом деле означает творчество Рембрандта? Живопись Веласкеса или Леонардо да Винчи? И что за этим стоит, какая Тайна? Какая нечеловеческая поэзия? Какую неслыханную Тайну нам поведал своей «Троицей» Рублев? И может ли существовать Бог только по одному факту существования «Троицы»? И не праздный ли это вопрос? Не риторический? И можно ли забрасывать ангелов такими вопросами? И можно ли к искусству живописи относить классические слова «немая поэзия»? И среди двух немых кто более нем: музыка или живопись? И музыка ли живопись, и живопись ли музыка? Не геометрия ли? И что тогда геометрия, если не музыка? И если правда, что алгеброй нельзя поверить гармонию, то зачем стремиться к этому? И т. д. и т. п.
Вопросы, вопросы. Их наставили в 20-м веке мы, как закорючек в ином чернокнижии, а не ответить на них, кажется, и во все надвигающееся тысячелетие…
* * *
России суждено быть или самым нравственным обществом, или ничем.
В. Хомяков
Не правда ли, красивая фраза, красивая мысль ― красивая по форме и по содержанию, это ничего, что немножко утопическая…
Россия ― страна поэтов-мечтателей, философов-поэтов, великих писателей. Но более всего Россия ― страна великих вожатых, утопистов-философов. Иначе бы мы не утопили шестую часть земли (планеты) в нашей крови (в крови соответственно не прекращающейся братоубийственной бойни с 17-го года), не подрубили наше национальное самосознание под корень…
Страдать так, как умеют русские, кровохаркая и писая кровью, и при этом размышлять о высших материях могут немногие.
Страдать для нас ― значит жить, мы не построили рай на земле, полив её кровью, но преподали миру великий урок, мир содрогнулся от нашей гримасы… На такое способна только Россия.
Что ж до нравственной стороны нашего общества, то что ж говорить о нём, когда мы ещё и гражданского общества не построили.
Главный нерв России ― нравственный нерв. Но парадокс: только мы притрагиваемся к нему, чтобы услышать стройный хор нравственных звуков, у нас вместо нравственных звуков льются реки крови.
Или уж в самом деле:
Умом Россию не понять, Аршином общим не измерить?
Мизина
Вот разговор, который мне удалось подслушать в поезде, и если бы из него вышел короткий рассказ, то я бы его назвал «Мизина», потому что местечко, которое мы проезжали, называлось «Мизина».
Как я уже сказал, разговор был подслушан в поезде, в вагоне низшего класса, как сказали бы во времена Чехова. Напротив меня сидят двое. Один ― в тяжелой, как будто не по росту рясе и подряснике, и другой ― с отсутствующим лицом и в сугубо штатском одеянии. Один, когда говорит, примигивает глазками и улыбается, и то и дело вскидывает кверху подковки бровей, другой тянется что-то важное сказать и останавливается, как будто тушуется, называя священника то «ваше преосвященство», то просто «батюшка». Оба говорят о вере.
– Вы так много учитесь жить, ― говорит батюшка, ― вы так много цените жизнь, каждый мимолётный миг её, что мне, право, совестно говорить о грехах наших. Но если бы вы попросили меня сказать об одном, то я бы, пожалуй, сказал так: ― Вы, светские люди, слишком много суетитесь и мало размышляете о том, как сказано в деяниях апостолов, что «грех лежит у порога вашего». Вы превращаете свою жизнь в бег разнузданных коней и разоряете её.
– Но…, Ваше преосвященство, ноги кормят волка, ― вмешиваюсь в разговор я.
– Ноги? ― он вскидывает высоко свои подковки бровей и опять обращается к своему собеседнику: ― То-то этот молодой человек так и отощал, что он полагается только на ноги…
Он останавливается, всматривается куда-то в окно, вынимает платок, вытирает лицо, рот, руки, ему как будто хочется зевнуть, и он в самом деле зевает ― и на деревенский манер крестит рот ― и наконец продолжает:
– Вот вы говорите, ноги кормят волка, в этих словах есть животная правда, и нет правды той, что есть на небесах. В этих словах нет равнодушия к жизни. А я, видите ли, не то что равнодушен к жизни этой, а как-то мало привязан к ней. Я так мало привязан к плоти своей, что, право, для меня удивительно, что я ещё просыпаюсь в оболочке своего материального тела и должен одевать свою тяжёлую рясу и приниматься за мирские и не мирские дела.
– Странно это слышать от служителя культа, ― удивились мы.
– А что ж тут странного? Подите закончите семинарию, оденьте ряску мою да поносите годик-другой, да попоститесь, да разговейтесь, да попоститесь ещё, да поразмышляйте о Боге ― и вы станете таким.
Он замолчал, и мы молчали. Это был разговор, один из тех, которые ни к чему не ведут, а если и ведут, то в совершенный тупик. Я схватил корзинку для грибов и помчался в лес на своих скорых, как у волка, ногах.
Светская хроника
Однажды граф Плюев плюхнулся на плюшевый диван и занемог. К нему слетелась вся знать города: пришли знаменитые врачи и честные и нечестные отцы города, пришёл косолапый клоун Каин и влетела однодневка-бабочка по имени Фи-фи, пришёл располневший, как контрабас, знаменитый адвокат М. и не менее знаменитый музыкант Р…
Знаменитость Р… будучи пьян, сел за рояль и начал наигрывать Шопена. Но Шопен, как известно, «не ищет выгод» и отзываться на невнятные нажатия клавишей не стал. Было холодно, не хватало свечей. Дамы хмурились и стали перешёптываться между собой, и посвящать друг дружку в тайны макияжа. Знаменитость Р…, как уж, соскользнул со стула и переметнулся в их компанию.
– Прелестно, прелестно, ― повизгивал он и даже пытался прихлопнуть в ладоши. ― Я всю жизнь был лишён удовольствия заплетать косы девочкам и мазать румянами щёчки.
Дамы с отвращение отдёргивали от него плечи, как от водяного змея, и указывали пальчиками: «Прочь! Прочь!» Вошёл граф Плюев, важный, как виолончель Ростроповича, и бледный, как манишка Спивака.
– Знаете что!… ― сказал граф Плюев. Все сами собой открыли рты, а свечи сами собой погасли.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































