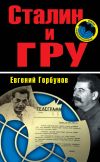Читать книгу "Жернова. 1918–1953. Книга третья. Двойная жизнь"

Автор книги: Виктор Мануйлов
Жанр: Историческая литература, Современная проза
Возрастные ограничения: 16+
сообщить о неприемлемом содержимом
Глава 2
А случилось так, что через несколько дней, как молодые ударники Ленинграда вернулись из Москвы, их пригласили в горком комсомола. Правда, Василий еще в комсомоле не состоял, потому что проходил испытательный стаж, но стаж этот вот-вот должен был закончиться, и ничто не мешало ему стать комсомольцем, зажить более полнокровной жизнью.
К тому времени Василий привык к своей новой фамилии, к своему положению рабочего человека, оторванного от родного дома, за плечами у него было уже девять классов, то есть среднее по тем временам образование, его ждал рабфак, институт, женитьба на девушке, которая ему нравилась… – короче говоря, жизнь его вошла в нужное русло, когда видно на много верст вперед, чувствуется стремнина и нет никакой возможности сбиться с правильного курса.
Итак, их, ездивших в Москву, пригласили в горком комсомола. Предстояло что-то вроде молодежного бала, и Василия одевали чуть ли не всем общежитием: кто дал ему новые брюки, кто пиджак, кто полуботинки, кто галстук, кто рубашку. Василия даже подстригли лишний раз свои же умельцы, хотя он перед Москвой стригся в парикмахерской.
Поговаривали, что с ними встретится сам Киров, а особенно отчаянные головы предполагали, что и сам Сталин, который будто бы сейчас как раз находится в Ленинграде по случаю предстоящего официального открытия Беломорско-Балтийского канала.
Одевшись во все новое, повязав впервые в жизни галстук, Василий глянул на себя в зеркало и чуть не ахнул: вот точно таким он и видел себя в будущем, когда станет инженером. Из зеркала на него смотрел очень статный и пригожий парень, все более начинающий походить на своего отца: и решительной складкою рта, и горбоносостью, и прозеленью, если хорошо вглядеться, в серых глазах, и дерзким взором, и бровями, слегка сросшимися на переносице; только волосы были мягкими и с рыжинкой – от матери.
Оценили его и ребята, помогавшие ему в сборах: жених, право слово, жених, хоть сейчас в Загс.
Приятно, черт побери, очень приятно!
В большом зале горкома собралось народу прорвища.
Путиловцы держались вместе. Сперва была торжественная часть, и, действительно, выступал Киров. Ему долго и яростно хлопали при появлении в президиуме, а еще дольше – после выступления.
Что там ни говори, а когда вот такой удивительный человек, как Киров, про которого ходят легенды о его участии в гражданской войне на Кавказе, обращается прямо к тебе и заявляет, что от твоих усилий зависит не только твое личное счастье и счастье всего советского народа, но и судьба мирового пролетариата и всех трудящихся масс, судьба грядущей мировой революции, то ты начинаешь понимать, что да, зависит, и при этом чувствуешь себя так, будто у тебя выросли за спиной крылья, и ты уже взлетел в вышину, откуда видно так далеко, что захватывает дух, а в горле образуется комок, и хочется умереть и за этого улыбчивого широколицего человека на трибуне, и за своего товарища, сидящего рядом, и даже умереть просто так, потому что дальше ничего такого испытать не придется, выше уже не поднимешься в своем сознании и в своей растворенности в этой массе таких же людей, как и ты.
А потом, после торжественной части, был концерт, а после концерта – танцы.
Василий танцевать совсем не умел и поэтому больше торчал то в буфете, где продавали лимонад и бутерброды, то возле какой-нибудь колонны, разглядывая танцующих и завидуя им. Здесь он решил, что обязательно выучится танцевать все танцы, какие только есть, чтобы и в этом деле быть не из последних. И еще он жалел, что рядом с ним нет Аллы Мироновой, что она не видит всего этого великолепия, но и без нее он был счастлив, потому что она незримо присутствовала здесь и как бы смотрела на него откуда-то из толпы.
И вот так Василий стоял и глазел по сторонам, когда возле него остановился человек с копною черных, свитых в мелкие кольца, волос, в толстостеклых очках на узком лице и слегка покривленным ртом. На нем был черный костюм, не очень новый, даже несколько лоснящийся на рукавах и бортах, синяя косоворотка, а над карманом пиджака разноцветные значки, говорящие о том, что человек этот не отстает от жизни и даже шагает в первых рядах. Однако в сравнении с нарядным Василием этот человек казался – несмотря на значки – просто замарашкой, и не стоило бы обращать на него внимания: мало ли кто ходит мимо и останавливается рядом, когда от народу прямо-таки рябит в глазах, но что-то было в этом невзрачном человеке, что заставило Василия напрячься, – что-то из недавнего прошлого, которое, оказалось, никуда не делось и всегда присутствует у тебя за спиной – стоит лишь обернуться.
Человек торчал рядом, в шаге всего, и временами внимательно вглядывался в Василия сквозь свои толстостеклые очки выпученными глазами. Василий всем телом ощущал этот настойчивый взгляд и понимал, что надо бы уйти, но ноги будто приросли к полу, а тело стало ватным и непослушным.
Страх, от которого, как ему казалось, Василий давно избавился, страх оттого, что он выдает себя за другого человека – за человека с незапятнанным прошлым – вновь овладел всем его существом, и светлое будущее стало меркнуть… меркнуть, и тогда Василий напряг всю свою волю и, понимая, что от судьбы не уйдешь, медленно повернулся к чернявому и сразу же узнал его: Монька Гольдман из местечка Валуевичи.
Глаза их встретились, – дерзкие и отчаянные Василия и подозрительно-испуганные Монькины. Но Монька, вместо того чтобы тоже узнать Василия и обрадоваться нечаянной встрече, вдруг стушевался, сдернул с носа очки и стал протирать стекла мятым и несвежим носовым платком, дышать на них и снова протирать, рассматривая на свет, пока Василий, в упор разглядывавший это его усердие, не успокоился и, пожав плечами, не повернулся и не пошел в глубину зала, раздвигая плечами танцующих.
"Ну, Монька Гольдман, ну и что? – спрашивал сам у себя Василий, слоняясь по залу. – У него и у самого отец – мелкий буржуй, нэпман, содержал и, может быть, до сих пор содержит парикмахерскую. И фамилия у него теперь другая… другая какая-то…", – силился вспомнить Василий и никак не мог, хотя Монька в Валуевичах был известным комсомольским активистом и несколько раз наведывался в бухгалтерско-счетоводческое училище по причине проведения массовых мероприятий. И даже читал там свои стихи.
Впрочем, там Монька Гольдман старался не замечать Васю Мануйловича, хотя когда-то почти два месяца жил с ним под одной крышей и ел за одним столом. А все потому, что Василий уже тогда, то есть в двадцать восьмом, и даже за год до этого, считался сыном кулака, и если его терпели в училище, то исключительно потому, что Гаврила Мануйлович немало извел муки, масла и меда на подношения директору училища и заврайоно, лишь бы дать Ваське образование и обеспечить ему прочное положение в этом шатком мире.
"Он, небось, и сам испугался, когда увидел меня, – думал Василий, оглядывая снующих мимо него радостных людей и не понимая их радости. – Наверняка испугался: вдруг возьму да и скажу, кто он есть на самом деле. – И, вспомнив Монькины усердия с очками, усмехнулся. – Очень мне это надо! Да и он сам – откуда он может знать, где я живу и работаю? Город-то эвон какой громадный! Это тебе не Валуевичи".
Но как Василий ни успокаивал себя и ни убеждал, спокойствия не прибавлялось, крыльев за спиной он уже не чувствовал и, немного погодя, ушел домой, никому из своих не сказавшись.
Время шло, но ничего не случалось из того, чего Василий боялся больше всего на свете, и он стал потихоньку забывать о встрече с Монькой Гольдманом. Да и не до того было. Во-первых, в конце сентября после заполнения всяких анкет и рекомендаций его приняли на годичный курс рабфака, как закончившего вечернюю школу; во-вторых, заводская техническая комиссия наконец-то, после нескольких месяцев проволочки, утвердила его рацпредложение по изменению конструкции чугунной станины для гидропресса, что давало большую экономию металла и улучшало качество отливок, до этого частенько выходивших с большим браком.
С Василием разговаривал по этому поводу сам директор завода, очень его хвалил, а партийный организатор завода, присутствовавший при этом, узнав, что Василий не комсомолец, очень удивился и сказал, что надо, надо срочно вступать в комсомол, а то и в партию, потому что именно такие сознательные и активные рабочие партии и комсомолу особенно нужны.
Ну и, в-третьих, Алка, эта непоседливая и заводная девчонка, комсомольская активистка из заводоуправления, пообещала Василию, что, как только он закончит рабфак и поступит в институт, так они сразу же и поженятся… Если он ее к тому времени не разлюбит…
Какой уж тут Монька Гольдман! Да и где он? Ау!
Глава 3
В комсомол Василия принимали перед октябрьскими праздниками, – близилась пятнадцатая годовщина Великой Октябрьской социалистической революции. Ее приближение чувствовалось буквально во всем, а на душе у Василия то пели петухи, как, бывалоча, в родных Лужах перед хорошей погодой, то будто тучка найдет на солнце и станет пасмурно и неуютно.
В эти дни в Ленинграде, противу обыкновения, стояли не то чтобы солнечные дни, но солнце то и дело прорывалось сквозь облака и заливало радостным светом дома и деревья, прокопченные заводские корпуса, кумачовые транспаранты, развешенные где только можно, призывающие и прославляющие…
А призывать было к чему и прославлять было что: в стране строились новые заводы, электростанции, создавались целые отрасли промышленности, каких еще не знала Россия. И Василий чувствовал себя участником этой громадной стройки, потому что по его моделям делали новые станки и машины, которые потом работали и на Сталинградском тракторном, и на Харьковском, и на Днепрогесе, и во многих других местах. А это так здорово – чувствовать себя нужным и полезным не только самому себе, но и миллионам других людей, которые даже не подозревают о твоем существовании.
Солнце проникало сквозь запыленные окна модельного цеха, в ярких лучах его вспыхивали и горели пылинки, отбрасываемые деревообрабатывающим станком, пахло сосной, липой, кленом, а в зудении станка, в шуме вентилятора, отсасывающего пыль, в шорохе рубанков слышался шум леса и птичьи голоса.
С утра Василий был возбужден и хотя старался ни о чем не думать, в голову лезло всякое. То вспоминалась вчерашняя беседа с заворготделом заводского комитета комсомола Владленой Менич, о которой говорили, что по-настоящему ее зовут то ли Розой, то ли еще как, а нынешнее имя она приняла в честь Ленина уже взрослой, и которая, просмотрев все бумаги Василия, несколько раз настойчиво повторила: "Здесь все правильно? Ты ничего не перепутал? Не исказил? Не утаил?", и всякий раз Василий, стараясь быть спокойным и уверенным, подавляя подступающий страх, отвечал: да, все правильно, чего ему путать или утаивать? – нечего, и при этом думал, что вот и эта Владлена – ну до чего же принципиальный товарищ, будто оттого, правильно или нет Василий написал свою автобиографию, зависит судьба всего пролетариата и мировой революции…
То ему вспоминался отец, каким он видел его в самый последний раз – на суде, во время приговора: растерянного, подавленного, с жалкой улыбкой на одеревенелом лице. И крик матери, и ее причитания… Но вспоминалось это уже без былой боли и отчаяния, а с тихой грустью, как и положено вспоминать невозвратное прошлое.
Вспомнился почему-то и Касьян Довбня, к тому времени перебравшийся со своим семейством на мельницу, почти всегда пьяный и чем-то напуганный, – но вспомнился без былой брезгливости и неприязни; вспомнился однорукий Митрофан Вулович, подбивший Василия на изменение фамилии и утайку судимости отца – только без осуждения за это, а с теплотой и непонятной жалостью к нему; вспомнилась учительница Наталья Александровна, так душевно, как ни один другой человек, относившаяся к Василию, его мальчишеская в нее влюбленность; вспомнились братья и сестры, деревенские и местечковые парни и девчата, мужики и бабы… – и всё это с грустью и нежностью, дотоле Василию незнакомой; а еще рыбалка, лес, шум мельницы и сосен – и в глаза будто сыпануло опилок: защемило их, и Василий зажмурился, перемогая нахлынувшие воспоминания…
Но ни в чем, что произошло в его прошлой жизни, не видел Василий своей вины: все, что было в той жизни, дышало и двигалось, засыпая с петухами и просыпаясь с восходом солнца, от него, Василия, не зависело, потому что и он был всего лишь частицей всего этого, не способной не только повлиять на целое, но и как-то изменить свое положение в этом сложном, постоянно обновляющемся мире.
И вот теперь, когда он вырос и стал немного разбираться в жизни, когда определилась его дорога, прошлое поднялось из своего далека, но не тем светлым и радостным, что жило в душе Василия, а корявой фигурой Моньки Гольдмана, дотошной и подозрительной Владленой Менич, тем темным и тайным, что никуда не делось, а, наоборот, приблизилось вплотную, насупилось, встало за плечами, готовое вторгнуться в его новую жизнь, сломать ее, искалечить.
А как избавиться от этого темного и тайного прошлого или хотя бы отдалить на безопасное расстояние? И совсем уж непонятно, чем он виноват, что не может начать жизнь сначала, начать так, как бы ему самому хотелось и как он ее, эту жизнь, теперь понимает.
За почти четыре года, что Василий работает на Путиловском, он ни раз присутствовал на общих собраниях, на которых осуществлялись чистки партийных и комсомольских рядов, выявлялось отношение людей к тому или иному событию внутри страны и в мире. Он видел и слышал, как с жестокой неумолимостью и почти с ненавистью одни люди обзывали других всякими бранными словами, в смысле которых Василий не всегда разбирался. Так разбираться было вовсе не обязательно: стоило посмотреть на тех, которых обзывали такими словами, и становилось понятным, что слова эти для них равнозначны смерти.
Василию всегда было жалко этих людей – то ли выгоняемых с позором из партии или комсомола, то ли уличенных в инакомыслии или сокрытии порочащих фактов из своей биографии, – и он понимал, что между этими людьми и им самим есть нечто общее: они, как и он, скрывали от других или свое прошлое, или свои мысли, но скрыть так и не сумели: кто-то про это прознал, выведал и вывел этих людей на чистую воду.
Неужели и ему грозит то же самое? А может, не скрывать свое прошлое, сказать о нем открыто? Тогда спросят, почему раньше молчал об этом. А если признаться в своем замаранном прошлом – прощай все мечты об институте. Не признаться – может пронести. Сказать правду… Но действительно ли это и есть правда? Ведь все люди так или иначе, как и сам Василий, связаны с прошлым. Даже если кто-то родился после революции. И нет в этом их вины. А вина может заключаться лишь в том, как сам человек относится к революции, к советской власти и ко всему тому, что происходит в стране и мире – за он или против, претворяется или верит всем сердцем.
В день комсомольского собрания с утра к Василию подходили то знакомые парни, то старые рабочие, и каждый старался подбодрить, каждый желал ни пуха ни пера, и всех надо было посылать к черту, и делать вид, что ты спокоен и уверен в себе. А какое им дело, особенно старикам, вступит он в комсомол или нет? Что им от этого?
Подошел и Савелий Громов, секретарь цеховой парторганизации, но этот не шутил и не подбадривал, а задал какие-то пустяковые вопросы, покрутил усы, покряхтел и отошел, будто сомневался, что Василий Мануйлов и есть тот самый Василий Мануйлов, который и ударник, и рационализатор, и о котором говорят, что у него светлая голова, что он из молодых, да ранних, и что именно о нем писала заводская многотиражка, ставя его в пример.
Где-то в начале четвертого мастер, походя, велел Василию закругляться и идти готовиться. Василий кивнул головой и ощутил в себе жуткую пустоту. Ему хотелось сейчас только одного: никуда не идти, никуда не вступать, а просто работать и работать.
Ну что ему, если на то пошло, комсомол? Что он, не сможет без него прожить? Ведь живет же – и ничего, все нормально. А с другой стороны, не сам же он выдумал этот комсомол, не сам в него напрашивался, а с тех самых пор, как поступил на завод, его как бы взяли на прицел и испытывали все эти годы на готовность стать комсомольцем, будто только ради этого он и работал, и учился, и ломал голову над каждой новой моделью, какую ему давали, нельзя ли там сделать что-то такое, чтобы облегчить, упростить и в то же время усилить.
Конечно, это началось не с первых дней работы в модельном цехе, а когда поднабрался теории и опыта, но, начав с самого простого, поднимался все выше и выше по ступеням сложности, почти всегда одолевая эти ступени, так что заболел рационализаторством и теперь мечтал о том времени, когда непременно что-нибудь изобретет такое, что все просто ахнут. У него уже и идея вертелась в голове, но еще неясная, не оформившаяся, расплывчатая, но все-таки идея – своя, собственная.
Чего скрывать, было приятно, когда хвалили, ставили в пример. Но всегда почему-то эти его маленькие победы связывали с комсомолом или партией, и все видели его в их рядах. И сам Василий понимал, что если бы не случилось в его жизни всего, что случилось, – и даже ареста отца, – он не попал бы на Путиловский, не стал бы модельщиком, а стал бы неизвестно кем: может, и по се дни робил на мельнице, не зная ни завода, ни рабфака, ни поездки в Москву…
Впрочем, не случись революции, не было бы и мельницы. И был бы жив отец. И получается странная вещь: одно и то же для одних – плохо, а для других – хорошо. Неужели так оно и должно быть? И ведь спросить не у кого. Значит, надо учиться и самому до всего доходить своим умом.
Глава 4
Открытое комсомольское собрание цехового куста проходило в кабинете начальника литейного цеха. Василий, уже помывшись под душем и переодевшись, сидел в дальнем углу, за спинами собравшихся. Парни, какие-то не похожие на себя, входили, рассаживались, сдержанно переговаривались, многозначительно поглядывали в сторону Василия. Было и несколько девчонок, те сгрудились в одном месте, сидели важно, перешептывались и тоже косили в его сторону.
"Обсуждают, – подумал Василий, завидуя им, уже прошедшим через все, что ему только еще предстояло. И успокаивал себя: – Ничего, и для меня это через час станет прошлым, как экзамены в школе или на рабфаке, как защита своего рацпредложения".
Тут же вспомнив, что через несколько дней ему предстоит получение премии, покупка костюма по талону за ударную работу и многое другое, приятное само по себе, независимо от сегодняшнего дня, улыбнулся и почувствовал себя увереннее.
Пришел всегда мрачный Савелий Громов, зыркнул глазом в сторону Василия и сел в первом ряду у стены.
Пришел какой-то тип с тощим портфелем, сел рядом с Громовым, перед этим почтительно пожав ему руку, портфель положил себе на колени и стал оглядываться по сторонам, вроде бы даже с беспокойством, но, отыскав глазами Василия, больше не оглядывался.
Пришла Владлена Менич с папкой для бумаг и сразу же стремительно проследовала к столу президиума, на ходу хрустя кожаной курткой, а оттуда, поблескивая очками, оглядела черными увеличенными глазами просторный кабинет и, как показалось Василию, лишь обнаружив его, тоже, как и тип с портфелем, потеряла интерес к собравшимся.
А люди все входили и входили, уже со своими стульями, и совсем загородили Василия в его углу. И вообще, чем дольше тянулось время, тем больше Василию казалось, что все эти люди пришли сюда, побросав свои дела, исключительно ради того, чтобы принять его в комсомол. И он судорожно вздохнул, унимая дрожь во всем своем теле.
Однако принимали в этот день в комсомол не только Василия Мануйлова. И начали не с него, как он ожидал, помня слова секретаря парткома завода о срочной необходимости принятия именно Мануйлова, передового рабочего и тому подобное, так что вроде бы каждая минута промедления была для советской власти чуть ли ни катастрофой, а начали с парнишки из кузнечного, который, как оказалось, ну ничем себя не проявил.
Парнишка этот, отвечая на вопросы, мямлил, шмыгал носом и, похоже, в комсомол совсем не рвался. Единственным его капиталом оказался тот факт, что отец его, кадровый путиловец, погиб в уличных боях с юнкерами в октябре семнадцатого года. Даже удивительно, зачем принимали этого парнишку: учиться он не хотел, полагая, что и четырех классов ему вполне достаточно, дневные задания не выполнял, а о том, чтобы принимать встречный план, и говорить было нечего.
"Ну, если таких принимают…" – подумал Василий, распрямляясь и усмешливо оглядываясь. Вот Сережку Еремеева почему-то принимать не хотят, и уже второй раз продлили испытательный срок, а Сережка – у него ж золотые руки! – и планы всегда перевыполняет, а модели какие делает – загляденье! – так что иные старики покачивают от удивления головами. Правда, Сережка и не тужит, что не принимают, но это потому, что нет у него никакой в жизни цели, перспективы он не видит и видеть не хочет. А так парень он – лучше не бывает.
Принимали других. Человек пять отстояло свое между столом президиума и собравшимися. Первых двух мурыжили долго, гоняя и по внутренней политике партии, и по внешней, и по речам товарищей Сталина, Кирова, Молотова, Кагановича и других вождей, и по уставу комсомола, по фамилиям членов политбюро и советского правительства, по задачам комсомола в военном строительстве, по борьбе с троцкизмом и всякими другими предателями и оппозиционерами, по коллективизации сельского хозяйства и индустриализации, по пятилетке и важнейшим стройкам.
Вопросы сыпались как горох, но третьему их досталось меньше, а на четвертом-пятом все уже назадавались и задавать было нечего: не спрашивать же об одном и том же по два раза. И споров уже никаких не велось, и вся торжественность как-то незаметно улетучилась, в задних рядах так даже позевывали, а иные и дремали.
Да и сам Василий стал иногда будто проваливаться куда-то, потому что не высыпался последнее время отчаянно, просиживая над учебниками частенько далеко за полночь.
– Мануйлов… Василий! – прозвучало вдруг в наступившей тишине, и Василий, тряхнув головой, вскочил на ноги, чувствуя, как все внутри оборвалось и ухнуло куда-то вниз, а по телу побежали мурашки.
Он долго выбирался из своего угла, спотыкаясь о чужие ноги, протискиваясь между спинками стульев и коленями. Вот наконец и проход между рядами, а вдалеке стол президиума, заволоченный туманом. Руки стали влажными, а в горле, наоборот, пересохло.
Василий вышел к столу и повернулся лицом к сидящим в кабинете людям, стиснул челюсти до боли в зубах, прогоняя мурашки и туман. Из тумана выплыли совсем чужие лица, чужие глаза, лишь в некоторых читалось обыкновенное любопытство, а больше все какая-то подозрительность и настороженность. Вот только Сережка Еремеев подмигнул из заднего ряда, мол, не дрейфь, Васька, три к носу.
За спиной у Василия прокашлялся Петька Пастухов, бессменный комсомольский секретарь цехового куста, куда входил и модельный цех, выросший из комсомольского возраста и давно состоящий в партии. Он прокашлялся и в шестой раз начал, как тот дьячок на крестинах, одно и то же:
– В комсомольскую организацию поступило заявление Мануйлова Василия Гавриловича, 1912 года рождения, русского, беспартийного, образование девять классов, учится на рабфаке, о приеме в комсомол. Вот это заявление: "Прошу принять меня в ряды ленинского коммунистического союза молодежи, так как хочу находиться в передовых рядах советской молодежи и рабочего класса в его борьбе за построение коммунизма и мировую революцию и внести свой вклад в великое дело Ленина-Сталина". Число, подпись. Имеется также автобиография и поручительство двух комсомольцев. Василий Мануйлов прошел испытательный стаж как бывший крестьянский элемент, зарекомендовал себя с положительной стороны. Какие будут суждения, товарищи? – И Пастухов, отложив бумажки, уставился в зал с суровой требовательностью.
– Какие там суждения! Знаем его! Мировой парень! Да! Рационализатор! На рабфаке учится! Повышает! Принять! Чего там! – послышалось со всех сторон.
– Минуточку, товарищи, минуточку! – остановил шум Пастухов. – Нельзя же так – без обсуждения! Мало ли что может выявиться. Может, у кого есть и другие мнения. Поэтому прошу высказываться по существу.
– Какие другие мнения? – вскочил обрубщик Алешка Исаков, известный всем задира, особенно по отношению к начальству. – Мы ж его как облупленного знаем! Уж если других каких приняли, то Васька' – с закрытыми глазами! Вот! Правда, ребята? – И сел, победно оглядывая президиум.
– Что значит – если других? – напрягся Пастухов. – Ты, Исаков, выбирай выражения.
– А я и выбираю. Если бы Мануйлова принимали первым, то других-каких, может, и принимать не стали бы.
В кабинете загудели: этот Исаков всегда что-нибудь ляпнет, не подумавши.
– Пусть биографию расскажет, – предложила из президиума Владлена Менич ужасно скучным голосом, будто и ей все надоело и теперь главное – соблюсти порядок. – Не все же его так хорошо знают, как Алексей Исаков.
– Ладно, пусть рассказывает, – снисходительно махнул рукой Алексей. И добавил, хохотнув: – Родился, учился, еще не женился…
И Василий стал рассказывать.
Он начал медленно, с трудом подбирая слова, хотя по-русски говорил уже вполне свободно, да нет-нет, и проскользнет в его речи что-нибудь белорусское. Постепенно освоился, а окончательно обрел уверенность, лишь заметив, с каким интересом его слушают, какая тишина стоит в кабинете, а некоторые одобрительно, как ему казалось, кивают головой, слушая его рассказ, потому что сами имеют почти такую же биографию.
Василий рассказывал, где и когда родился, как учился и работал на мельнице, помогая отцу, который тоже работал, само собой, там же; и как учительница ихняя, Наталья Александровна Медович, очень хорошая учительница и большевичка, порекомендовала ему, то есть Василию, ехать учиться дальше, потому как был он первым учеником в школе и имел почетные грамоты; и как председатель сельсовета, Митрофан Ксенофонтыч Вулович, тоже старый большевик, дал ему такое направление, чтобы ехать в Ленинград. Вот и все.
– А мельница эта чья была? – тоже скучным голосом задал уточняющий вопрос Пастухов, и Василий сразу же насторожился, почувствовав, что вопрос этот задан ему неспроста, что, быть может, они, то есть которые из комитета, писали в Лужи, и им ответили…
Только не мог однорукий Митрофан отписать комитету, что Василий есть сын кулака и врага советской власти и что поэтому фамилия у него совсем другая… Не мог.
– Ну, что ж ты, Мануйлов, будто язык проглотил? – настаивал Пастухов ехидным голосом. – Неужто не помнишь, кому принадлежала мельница?
У Василия, действительно, в горле снова пересохло и язык будто застрял между зубами. А тут он еще увидал в проходе Аллу Миронову, которая хотя и не состояла в их организации, но тоже пришла… из-за него и пришла же. А он ее только один раз и поцеловал…
– Почему не помню? Помню, – ответил Василий, глядя поверх голов собравшихся сузившимися глазами, будто вглядываясь в свое прошлое. – Очень даже хорошо помню. До революции мельница принадлежала богатею Шулешкевичу, у которого кроме мельницы были еще и лавки в Валуевичах, и маслозавод, и винокуренный, а после революции он сбежал за границу к буржуям, а мельница его отошла к обществу, то есть крестьянам деревни Лужи. А уж они на своем сходе постановили, чтобы мой отец на этой мельнице работал и молол муку… для общества, значит. Кто-то ж должен был на ней работать, на мельнице-то. Нельзя ж без муки-то.
– А вот в автобиографии своей ты этого не пишешь, – повысил голос Пачтухов. – И это есть прямой обман комсомола и своих товарищей по совместному труду.
– Так я ж свою биографию писал, а не отцову, – тоже повысил голос Василий, начиная испытывать злость и на секретаря, и на всех, кто заставил его вот так вот унижаться и выкручиваться.
В Василии вдруг проснулась и ударила в голову наследственная строптивость и бешенство, гонор многих поколений Мануйловичей, не привыкших ни перед кем ломать шапку, потому что чувствовали за спиной родовую свою многочисленность и силу, – злость и бешенство, которые всегда ударяли в голову всем Мануйловичам, когда начинало получаться не по их.
Василий готов был кулаками защищать свое будущее, хищная горбинка на носу его побледнела, голос окреп, в нем появились угрожающие нотки:
– И я не виноват… Да, не виноват! – что общество решило… назначило отца работать на мельнице. Он в технике разбирался, а других таких в деревне не оказалось. Он на железке работал ремонтным рабочим еще до революции. Поэтому вот. А по-твоему получается так, что пусть бы мельница стояла, а люди грызли зерно заместо хлеба! Так получается? Сам, небось, хлеб любишь, да чтоб побольше, да чтоб горбушка поподжаристей! – уже с ненавистью заключил Василий и утер со лба ладонью обильный пот.
– А ты, Мануйлов, на нас тут не кричи, голос не подымай! – пристукнул по столу кулаком Пастухов. – Это тебе комсомол, а не что-нибудь! Говори по существу и отвечай прямо на поставленные вопросы. Одно дело – работать на мельнице, и совсем другое – быть ее владельцем, частным собственником, буржуем, сельским кулаком-мироедом. Партия кулачество уничтожает как класс, и мы, комсомол, первые в этом деле партии помощники. А какой ты можешь быть помощник, если твое прошлое для нас темно и непонятно? С темным прошлым может быть только двурушник, классовый враг нашей партии, комсомолу, советской власти и трудовому народу.
– Это я – враг? Я? Да я на заводе работаю чуть меньше четырех лет, а пользы принес больше твоего! И это я говорю не для похвальбы, не я так говорю, а директор завода и партийный организатор так давеча говорили. Ты-то языком своим много пользы принес советской власти и мировой революции?
Просторный кабинет начальника литейного цеха вдруг стал тесен Василию, воздуха в нем не хватало, и он рванул ворот рубашки тем движением, каким когда-то рвал его отец, и его дед, Чумной Василий, и, может быть, все его пращуры вот так-то вот рвали ворот рубашки перед лютой дракой. К тому же он вдруг увидел, как в кабинет, пригибаясь, проскользнули Монька Гольдман и еще какой-то парень, тоже чем-то неуловимо знакомый. И Василий понял, что все: не видать ему ни комсомола, ни рабфака, ни института.
Но вместо того, чтобы опустить голову, пойти на попятный, покаяться, он вдруг почувствовал облегчение: кончилась его двойная жизнь, не нужно вздрагивать всякий раз, когда кто-нибудь поинтересуется его прошлым или когда вдруг увидишь на улице чем-то знакомую фигуру или выражение лица, и сожмешься весь, хотя и ясно, что обознался, что даже случайная встреча с кем-то, кто знал о нем все, вряд ли может грозить ему неприятностями, но все равно – сколько можно жить так-то? И ради чего?
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!