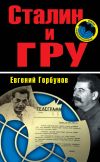Текст книги "Жернова. 1918–1953. Книга третья. Двойная жизнь"

Автор книги: Виктор Мануйлов
Жанр: Историческая литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 12 (всего у книги 41 страниц) [доступный отрывок для чтения: 13 страниц]
Глава 6
Помощь пришла, но оттуда, откуда помощи Михаил Золотинский никак не ожидал.
Однажды его пригласили в районное отделение милиции, пригласили обычной повесткой, прочитав которую, он чуть не умер на месте от страха, потому что сердце вдруг, как ему показалось, остановилось и начало куда-то падать… падать… и если бы не работница домового управления, которая и принесла ему эту повестку и с любопытством наблюдала за ним, пока он ее читал, он таки бы и умер. Но ведь надо еще расписаться, надо показать, что ничего такого не случилось, что такие повестки – дело вполне для него обычное и привычное, что за ней не стоит никакого преступления с его стороны, следовательно, и умереть было нельзя. Ко всему прочему, в Москве он пообтерся, получил кое-какие навыки, совершенно лишние в родных Волуевичах, и это тоже помогло ему удержаться на ногах.
Поскольку повестка требовала от него явиться сегодня и даже вот через какой-то час по такому-то адресу, то Золотинский не умер еще и поэтому: он просто отупел и потерял способность соображать.
Поднявшись к себе на третий этаж и закрыв за собой дверь на хлипкую задвижку, Михаил опустился на кровать и тупо уставился все в тот же темный угол. Но через несколько минут в голову начали приходить дикие мысли: то ему казалось, что надо немедленно бежать из Москвы в Валуевичи, где его все знают и ценят и где с ним ничего не может случиться, – и он лихорадочно начинал собирать свои вещи; то, бросив чемодан, хватался за черновики своей поэмы, за письма из дому, другие какие-то бумаги и, прижимая их к груди, растерянно оглядывался, не зная, что с ними делать – сжечь или спрятать…
А ходики на стене неумолимо отсчитывали минуту за минутой, и вот уже времени не осталось ни на что…
Золотинский даже не помнил, как добрался до отделения милиции, как очутился в маленькой комнатке перед однотумбовым столом с чернильными пятнами на исцарапанной поверхности. А напротив женщина, очень похожая на соседку Магду Израилевну, которая живет в Валуевичах, и муж у нее – старьевщик; а на единственном окне этой мрачной комнаты – вот удивительно! – нет решетки и стоит горшок с геранью.
Женщина, похожая на Магду Израилевну, по-славянски круглолицая, но с семитским разрезом бездонных глаз, узким ртом и маленьким подбородком, представилась сотрудницей ОГПУ, назвала свое имя-отчество, которое Михаил тут же и позабыл, оказалась приветливой и милой, на грозную чекистку ничем не похожей. Она с таким радушием встретила Золотинского, как если бы действительно была Магдой Израилевной, очень доброй и крикливой женщиной, иногда приглашавшей Михаила на блины с медом, пока муж ее сидел в своей лавке, принимая всякую дрянь, или таскался по помойкам, но именно это радушие напугало поначалу Михаила больше, чем если бы его сразу же начали бить, и он несколько минут даже не мог сообразить, о чем ему говорят.
Но голос Магды Израилевны звучал так обворожительно мило то на полузабытом идише с белорусской огрубленностью и польской шепелявостью, то на таком же местечковом русском, что Михаил постепенно успокоился и подтянул краешек губ, исправляя свою криворотость.
Озаряя тесную комнатушку лучезарной улыбкой на несколько грубоватом лице, Магда Израилевна расспрашивала Золотинского о его житье-бытье, о родителях, соседях, о работе, коллегах, друзьях-приятелях – и все это так участливо, с такой непосредственностью, что Золотинский растаял и выложил ей все, как на духу.
Собственно, выкладывать ему было нечего, но он в какой-то момент осознал, что вызвали его не случайно, не для праздного разговора о том о сем, и поэтому постепенно настроился на определенный лад, как настраивался, вникая в сатирический рисунок, прежде чем написать первую рифмованную строчку, а настроившись, начал вспоминать все, даже без наводящих вопросов, что имело хоть какой-то намек на антисоветчину, антипартийность и, разумеется, антисемитизм, с которыми ему приходилось сталкиваться, пусть даже мимолетно, пусть даже в трамвае, пусть даже ему это только показалось.
Монька Гольдман был по-своему честный, хотя и увлекающийся малый. Идея мировой революции, о которой твердили повсюду, вошла ему в кровь и плоть, как когда-то, в далеком детстве, вошла идея избранности еврейского народа среди народов Земли. Точно так же он поверил и в собственную особость по сравнению с другими людьми, а причастностью к Революции гордился так же, как и принадлежностью к Избранному Народу Израилеву.
Но к той поре, когда Михаил Золотинский очутился в тесной комнате с геранью на окне и Магдой Израилевной напротив, законы Моисея странным образом переплелись в его сознании с законами Маркса, хотя те и другие он знал весьма поверхностно. Зато он твердо знал, что все, что противостояло и противостоит этим законам, подлежало и подлежит изничтожению:
«И сказал Господь Моисею, говоря: когда пойдет пред тобою Ангел Мой, и поведет тебя к Аморреям, Хеттеям, Ферезеям, Хананеям, Евеям и Ивусеям, и истреблю их… Ужас мой пошлю пред тобою, и в смущение приведу всякий народ, к которому ты придешь, и буду обращать к тебе тыл всех врагов твоих…»
«…идеи…, которые овладевают нашей мыслью, подчиняют себе наши убеждения и к которым разум приковывает нашу совесть, это узы, из которых нельзя вырваться, не разорвав своего сердца, это демоны, которых человек может победить, лишь подчинившись им…»
«И хулитель имени Господня должен умереть, камнями побьет его все общество. Пришлец ли, туземец ли станет хулить имя Господне, предан будет смерти… Я Господь, Бог ваш, который отделил вас от всех народов…»
Все происходило точно так, как происходило в детстве, когда в классе еврейского хедера что-то случится неположенное, и рабби, вытянув палец в сторону Моньки Гольдмана, спрашивал, кто участвовал в этом безобразии – и Монька, потупив голову, называл безобразников едва слышным голосом.
Ему доставалось от сверстников.
Вот и теперь Михаил мучительно морщил лоб, стараясь вспомнить как можно больше своих и чужих прегрешений, и был рад, когда вспоминалось нечто, на что он в другом месте и при других обстоятельствах даже не обратил бы внимания.
Здесь, в этих казенных стенах, мелочи жизни, проходившие обычно мимо его сознания как досадные недоразумения, в эти минуты, озаренные улыбкой женщины, так похожей на Магду Израилевну, вдруг начали обретать свой тайный и коварный смысл и пали тенью на Мировую Революцию. Но Золотинский не удивился этому: он уже был подготовлен к такому повороту событий теми изменениями в его сознании, которые происходили помимо его воли под ударами обстоятельств.
Стечение обстоятельств – вот что встало преградой на его пути к признанию, к славе. Следовательно, виноваты обстоятельства, то есть те самые мелочи жизни, в которых приходится барахтаться, как барахтаешься в заросшем тиной пруду, вместо того чтобы плыть по чистой воде, легко и свободно раскидывая руки. А обстоятельства, то есть тина, – это мелкие, ничтожные людишки, их зависть, жадность, глупость и подлость, и людишки эти – в основном гои, хотя встречаются и евреи.
Михаилу даже не пришлось убеждать себя в том, что ему необходимо говорить об этих досадных, а подчас и постыдных мелочах жизни. Он просто как открыл рот, так говорил и говорил, боясь, что его остановят, и в его речи – как-то отдельно от него самого – замелькали имена… имена… имена… И была там и Наталья Александровна, и Петр Варнавский, и кто-то из художников-плакатистов, и кто-то из поэтов-рифмоплетов, и кто-то из даже известных поэтов, кто иногда допускал его до своей персоны, и кто-то из бывших сослуживцев по редакции, и кто-то из соседей по квартире… пока его таки и не остановили.
Он замолчал, тяжело дыша, с испугом глядя на Магду Израилевну, то есть на женщину, так похожую на Магду Израилевну. А женщина улыбалась…
Потом они с женщиной пили чай – с баранками…
Теперь женщина, похожая на Магду Израилевну, что-то говорила ему сама – и тоже про мировую революцию и про то, как много у нее врагов, а еще больше врагов у евреев, положивших так много сил и жизней на высокий жертвенный алтарь этой Революции, потому что именно в революции было не только их спасение, но и вознесение. Она говорила о том, что все честные коммунисты и комсомольцы, а сами евреи – так в первую очередь, должны выявлять этих врагов, где бы они ни встречались, и не только врагов, но и врагам сочувствующих, и даже просто равнодушных, ставить о них в известность органы, при этом не испытывать ни сомнения, ни жалости. Но главное – партия должна знать политические настроения всех слоев общества, чтобы вовремя реагировать и принимать соответствующие меры.
Что же касается Моисея и истории евреев, так это все легенды, выдуманные для того, чтобы опорочить народ, который ни в чем не виноват перед человечеством, но ему, этому человечеству, угнетенному и забитому, всегда было необходимо иметь козлов отпущения, и такими козлами становились не только евреи, но и другие народы: цыгане, например, неприкасаемые в Индии и прочие. Но чаще всего, конечно, евреи. Тут главное – знать, кому это выгодно, как говорил Маркс, и тогда все встанет на свои места. А выгодно это исключительно контрреволюционерам всяких мастей, шовинистам, русским националистам-черносотенцам и, разумеется, антисемитам. Но она вполне понимает товарища Золотинского, понимает его поэтические искания и приветствует их, надеясь, однако, что они не уведут его в сторону от столбовой дороги марксизма-ленинизма и указаний товарища Сталина.
И Михаил во всем соглашался с женщиной, так похожей на валуевическую соседку, удивляясь в то же время, как это он отважился открыться ей, – человеку, которого видел впервые в жизни и которая – ОГПУ.
За чаем женщина, как бы между прочим, дала Золотинскому подписать бумагу, смысла которой он тогда не понял, потому что на него вновь нашло такое же отупение, когда он прочитал эту бумагу, как и по прочтении повестки.
Только выйдя из отделения милиции, крепко сжимая в потном кулаке деньги, он медленно стал осознавать все, что с ним только что произошло, и ему захотелось, как в детстве, забраться под кровать и затеряться там среди старых башмаков и пыльных узлов, чтобы никто его не видел и чтобы все забыли, что он существует, и сам бы он забыл обо всем, что сделал. И о самом себе тоже.
Но тут же мстительное чувство овладело им: пусть будет так, как оно есть! Пусть! Тем хуже для тех, кто толкнул его на этот путь. И он покажет это в своей поэме, покажет иносказательно, но… но они – Они! – поймут, и им – Им! – станет стыдно. Это даже хорошо, что он изведает и этот путь. Вон Бабель – служил же он в Чека, участвовал в "красном терроре", а во время польской кампании, говорят, доносил обо всем не только Дзержинскому, но и лично Троцкому, в результате несколько сот казаков было расстреляно за убийства и мародерство в еврейских кварталах; а еще еврейский поэт Фефер, а еще Маяковский, Демьян Бедный, и кто-то еще и еще, – и гордятся этим, и продолжают служить в ОГПУ, потому что служить в ОГПУ или помогать ему – честь для каждого советского гражданина.
Следовательно, каждый настоящий поэт или писатель – и он, Золотинский, тоже! – должен пройти через все закоулки жизни, все испытать и изведать. И ничего не стыдиться. Только познав жизнь со всех сторон, во всех ее проявлениях на собственной шкуре, поэт может рассказать об этой жизни так, что другие, то есть читатели, сразу поймут, что хорошо, а что плохо, и… и… и поймут, что это знание дал им человек, доселе никому не известный, но наделенный таким дарованием, что пробил глухую стену неизвестности и даже вражды, пробил и победил время. Вот.
От этих возвышенных мыслей Михаилу хотелось плакать, и он плакал, но больше от жалости к себе, чем от предчувствия грядущей славы.
Глава 7
Странная у Михаила Золотинского пошла с тех пор жизнь. Она как бы раздвоилась: в одной жизни, за порогом своей каморки, существовал будто бы и не он сам, а лишь его подобие, которое что-то делало, куда-то ездило, встречалось с людьми, что-то говорило, задавало вопросы и отвечало на вопросы других, ело и пило, не разбирая ни вкуса, ни запаха, сидело на партийных собраниях, мерцая черными глазами из-за спин товарищей-партийцев, писало ненавистные стишки про кулаков и прочих антисоветских элементов (его снова приняли на прежнее место работы) и еженедельно аккуратно и дотошно отписывало обо всем, что видело и слышало в так называемых политдонесениях, относя их по указанному адресу, ибо партия должна знать о настроениях управляемого ею народа.
Но едва Михаил переступал порог своей убогой каморки, как он через какое-то время из своего подобия – невзрачного человечка с потухшим взором – превращался в великана, тень от которого падала не только на стену и пол, но и на потолок, отодвигая в темноту весь остальной мир, который не он сам, Михаил Золотинский.
Открывалась толстая тетрадь в клеточку из зеленоватой бумаги, чуть ли ни наполовину исписанная шифрованными строчками, и почти сразу Золотинский погружался в другой мир, где люди жили открыто и гордо, не скрывая своих мыслей ни от врагов, ни от друзей. В его поэме пролетарии, сбросив с себя ярмо капитала, шагали к мировой революции, обещанной Марксом, как некогда израильтяне, уйдя из египетского рабства, шагали к Земле обетованной, то есть к земле, обещанной богом Израиля, давшим обет Моисею довести народ Израиля до этой земли, – и во главе пролетариев шагал он, Михаил Золотинский, стройный, красивый, с гордо поднятой головой.
Вот и у Блока в поэме «Двенадцать» – тоже о Христе, который впереди. Но очень как-то невнятно и балалаечно. А надо так, чтобы каждый понял, даже самый тупой, но не про Иешуа из Назарета, называвшего себя истинным царем израильским, а вообще… в том смысле, что народ, вождь и так далее – до полной победы.
И чем дальше, тем советская действительность в его поэме все теснее смыкалась с библейскими легендами и даже объяснялась ими, так что, помимо воли автора, гордое движение всемирных пролетариев к заветной цели стало незаметно окрашиваться в другие тона, и это уже были вовсе не пролетарии, а исключительно евреи, сами мысли Михаила Золотинского под влиянием им же написанных слов получали другое направление, то есть все дальше уходили в сторону от столбовой дороги марксизма-ленинизма и указаний товарища Сталина.
Впору было писать донос на самого себя, но из-под пера выходило совсем другое:
И он поднялся на Синай,
И говорил там с Всемогущим,
И сорок дней средь голых скал
Его ждали израильтяне.
Но ропот в стане их возник…
О ты, народ жестоковыйный!
И пали тысячи из них —
Их смерти предали левиты…
Было многое, как казалось теперь Золотинскому, что объединяло Революцию с Исходом израильтян из Египта. Чем глубже он погружался в мир Библии, которую раскопал в пыли и хламе редакционной библиотеки, обернул толстой бумагой и прятал под матрас, тем больше находил сходства: вот Моисей обманул фараона, сказав, что израильтяне идут в пустыню лишь на три дня поклониться своему богу, а на самом деле они решили совсем уйти из Египта, где четыреста тридцать лет владели лучшими землями, платя лишь десятую часть из произведенного продукта; где из немногочисленного рода Израилева – всего в семьдесят душ! – выросли в почти миллионный народ, лишь по языку оставаясь израильтянами, а по крови, что естественно, давно превратившись в египтян (так и у большевиков похожее: это по названию они партия рабочих, а на деле в ней кого только нет); и как израильтяне обобрали Египет, унеся оттуда все серебро и золото (и большевики точно так же поступили с царской казной и частной собственностью); и много чего еще…
А еще – там и тут была цель, которая достигалась большой кровью. И вообще так много открывалось общего между историей евреев и нынешней революцией, в которой евреи играли такую выдающуюся роль, что Золотинского то брала оторопь перед своими открытиями, то его охватывал восторг, но в любом случае он испытывал болезненное удовлетворение, когда в истории израильтян и в истории русской революции, в личностях Моисея и Ленина находил соединяющие их узы.
И сладко, и жутко становилось от собственных мыслей, и сердце колотилось в ребра с такой силой, что приходилось прижимать к груди руку, иначе, казалось, оно либо остановится, либо выскочит, прорвав его слабую грудь.
Золотинский, мучаясь и ликуя над своей поэмой, сознавая, что все дальше уходит в ней от действительности и от самого себя, будто мстил кому-то каждой строкой ее за свои унижения, за еженедельные политотчеты обо всем, что он видел и слышал, за свой постоянный страх перед неизвестностью, за невозможность жить по-другому, то есть как-то не так, а как надо – не знал и даже представить себе не мог. Он казался себе разведчиком, соглядатаем среди врагов; ему приходилось постоянно притворяться, что он такой же, как и все, вместе со всеми восторгаться и возмущаться, хотя в самой жизни он давно не видел ничего такого, чем можно было бы восторгаться и возмущаться, ибо она, эта жизнь, не представляла никакого интереса, еще меньший интерес представляли люди, окружающие его.
Интерес представляло лишь то, что жило в нем самом.
К тому же нельзя же назвать злом милую женщину, так похожую на Магду Израилевну. А Моисей, а Ленин или Сталин – разве они были или есть это зло? Может, они, как и сам он, Михаил Золотинский, в недавнем прошлом Монахем Гольдман, лишь орудие в руках чего-то высшего – не Бога, нет! – а некой предопределенности мировой истории. Им и ему только кажется, что они творят историю, а на самом деле… Вот же и у Толстого… Но дело, разумеется, не в Толстом, и не в том, что сказал тот или иной мыслитель, а в той стихии, которая захватывает его, Михаила Золотинского, и несет в неизвестность, раскачивая на своих волнах. Движение в этом потоке и есть счастье, и есть творчество, а куда вынесет этот поток, не столь уж и важно.
Однако, чем больше страниц покрывали значки им самим изобретенного шифра, тем с большим ужасом Золотинский сознавал, что поэма его – и он вместе с ней – проваливается в какую-то бездну, из которой выхода может и не быть. Вместе с тем им уже овладел такой азарт, что отступиться было невозможно, он был во власти тех самых «демонов», «которых человек может победить, лишь подчинившись им», как верно сказал Маркс, и не важно, что родится в этом его выдуманном мире, важно было подчинить себе «демонов».
И все чаще Михаилу казалось, что он идет дорогой Моисея, который тоже, прежде чем начать проповедовать о новом боге израилевом, выбравшем их и выделившем из других народов, прошел путь унижения и поиска истины. А пройдя этот путь, повел израильтян за собой, и те пошли за ним и пришли в Землю обетованную, залив ее кровью живших там народов, – то же и революция; поселившись в Земле обетованной, израильтяне погрязли в грехе, – то же и революция; и как тогда, более двух тысяч лет назад, так и сегодня возникла необходимость в очищении от этих грехов, необходимость в новом Мессии…
А вдруг этот Мессия есть ни кто иной, как он сам, Михаил Золотинский? Почему бы и нет? Что можем мы знать о нашем завтрашнем дне? И тогда история повторится вновь: снова нетерпимость со стороны старых жрецов, унижения, страх и… возвышение над человечеством. Но возможно и другое: падение, муки и страшная смерть. Как у Иешуа из Назарета.
И воображение подсовывало маленькому еврею то озабоченную физиономию Петра Варнавского, то ласковую – Магды Израилевны, то самодовольную – кого-нибудь из известных поэтов, то есть людей, творящих нечто искусственное, следовательно, не вечное.
На косоротом лице Монахема Гольдмана, сведенном ужасом перед предстоящей казнью, начинала блуждать полусумасшедшая ухмылка, восторженные слезы застилали глаза – и пропадали линялые обои, уродливая тень на стене и потолке, виделся мир совершенно другой, а в нем – совершенно другой Монахем Гольдман, красивый и величественный. Грезить наяву было так приятно и жутко, а главное – забывалась омерзительная действительность, потому что ничего, кроме омерзительного, Михаил в ней не видел с тех пор, как переехал в Москву.
В коридоре раздался грохот упавшего корыта, хриплый голос пьяного соседа, визг его жены, ругань других соседей.
Золотинский сжался на своей табуретке, ожидая стука в дверь: сосед, который несколько лет назад содержал сапожную мастерскую, а теперь работал простым рабочим на обувной фабрике "Буревестник" и был явно недоволен таким поворотом своей судьбы, по пьяному делу всегда ломился к Михаилу и кричал, чтобы пархатый жид объяснил ему, почему он, Иван Черноносов, дошел до такой жизни. И грозился еще больше покривить рожу косорылому жиду, повыдергивать у него ноги и руки, изувечить до полной неузнаваемости. И он мог, смог бы – этот Иван Черноносов: был здоров, как бугай, силы хватило бы и на большее. Но почему-то ни разу, дергая за ручку двери, не сорвал жалкой задвижки, будто сам боялся собственных угроз и собственной мощи.
В конце концов, дав ему побушевать, жена уводила его от двери тихого жильца, и в коридоре все затихало до следующего раза.
Золотинского ни раз подмывало указать на соседа в своих политдонесениях, но почему-то рука до сих пор не поднималась сделать это. Однако он давал себе слово, что следующий раз уж обязательно: сосед был частью зла и вселенского греха, от которого надо было очиститься. Хотя бы для собственного спокойствия. А еще Иван Черноносов ненавидел евреев – евреев вообще, то есть был антисемитом, следовательно, преступником более опасным, чем вор или убийца.
Михаил, ожидая стука в дверь, представлял себе, как придут арестовывать этого громилу-сапожника, каким жалким он будет выглядеть, и испытывал почти то же самое чувство мстительного удовлетворения, что и при писании стихов.
Он руку грозную простер
Над бесноватым человеком,
И человек упал ничком
В навоз и пыль пред всем народом…
В дверь забарабанили, Золотинский обхватил голову руками и замер: только бы выдержала задвижка.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?