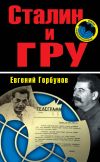Текст книги "Жернова. 1918–1953. Книга третья. Двойная жизнь"

Автор книги: Виктор Мануйлов
Жанр: Историческая литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 13 (всего у книги 41 страниц) [доступный отрывок для чтения: 13 страниц]
Глава 8
Миновало полгода, и Михаил Золотинский переехал – по совету женщины, так похожей на Магду Израилевну, – в Ленинград. Там он устроился в издательство корректором же, продолжал сочинять сатирические и всякие иные стишки к плакатам и праздникам, еженедельно относил по указанному еще в Москве адресу политдонесения, писал, таясь ото всех и вздрагивая от каждого постороннего звука, свою поэму, которая все дальше и дальше уводила его от первоначального замысла – прославления Революции, то есть делал все то же, что и в Москве. Но если там материальные блага давались ему с трудом и не сразу, то здесь все пришло само собой и без всякого усилия с его стороны: приличная комната в доме-коммуне со всей обстановкой и даже постельным бельем, в очень приличном доме, с очень вроде бы тихими и приличными соседями. Во всяком случае, никто не бушевал в коридоре, никто не ломился в его дверь и не поминал вслух жидов. Правда, далеко не все смотрели на Михаила с приветливостью, иные – так даже косо, но он к этому привык и косых взглядов не замечал.
Зато в нем самом что-то переменилось. Поэма Поэмой, Великое Будущее Великим Будущим, но обычная жизнь как-то не давалась Михаилу, чего-то в ней не хватало, там и сям зияли пустоты, которые нечем было заполнить.
Теперь Михаил частенько завидовал людям – буквально всем подряд, – что они, эти люди, могут жить так беспечно и беззаботно, могут зубоскалить, ходить на танцульки, назначать свидания, жениться и выходить замуж, разводиться… – и никого из них не мучат мировые проблемы, никому из них дела нет, придет или не придет новый Мессия, то есть человек, который откроет им глаза и покажет, как плохо, как несуразно они живут, как далеки они от тех принципов, которые сами же провозглашали, разрушая старый мир. И не только русские, но и евреи.
Золотинский завидовал людям, боялся и презирал их – тоже всех подряд, но больше всего тех, кому шли его политдонесения. Он всякий раз наслаждался злорадством, когда в политдонесении мог написать нечто, что явно должно не понравиться тем, для кого эти политдонесения собирались: анекдоты про советскую власть, про Сталина, про Чапаева с Петькой, про Пушкина, про евреев, про партию. Или подслушанный в трамвае торопливый разговор, или в унылой очереди, или в серой толпе, движущейся по бывшему Невскому проспекту, переименованному в улицу 25-го Октября…
Из его политдонесений выходило, что чуть ли ни все жители Ленинграда чем-то недовольны и даже каждый по-своему выражает свое недовольство практически. Он не сообщал фамилий да и не знал их: не станешь же спрашивать в трамвае фамилию у человека, который обложил матом смольнинских или кремлевских правителей или, таясь, но все же так, чтобы слышали другие, рассказал анекдот про то, как едет Сталин на машине, а на дороге стоит бык, которого и палками, и уговорами, а он ни с места. Тогда Сталин и говорит: бык-то, небось, единоличника, вот я его в колхоз отдам! И не успел договорить, как бык задрал хвост и… только его и видели.
Золотинский и сам не заметил, как изменилось его поведение на людях. Если раньше, погруженный в себя, на ходу шепча приходящие в голову рифмованные и просто ритмические строчки, он людей не замечал, не слышал их разговоров, то теперь он впитывал все, происходящее вокруг него, все замечал, все запоминал и был уверен, что способен по обрывку фразы восстановить весь разговор, и даже реплики собеседников.
Он научился определять профессии людей не только по лексике, по произношению, по их виду, но и по тому, о чем они говорят. Даже не видя говорящих. И день ото дня все больше убеждался, что просто обязан что-то сделать, как-то изменить этот мир, потому что больше некому, потому что все только ворчат, но не знают, что делать, а он знает, может, он единственный, кто обнаружил некую закономерность: то там, то сям в мире время от времени появляется человек, для которого мирские порядки и обычаи становятся препятствием для осуществления его дерзких помыслов, и этот человек, осознав свое предназначение, одержимый своей идеей, дает своему народу меч, увенчанный оливковой ветвью.
Моисей, Христос, Магомет, Будда, Наполеон, Маркс, Ленин, Сталин… Теперь вот в Германии Гитлер… – и все только меч. А почему бы он, Михаил Золотинский, здесь, в России, – не оливковую ветвь? И без меча… Или без меча нельзя? Потому что без меча оливковая ветвь – не ветвь? Но сперва – ветвь. А там будет видно…
Главное, разумеется, понять, каким образом это сделать, как уловить благоприятный момент, потому что без этого не будет ни ветви, ни… И потом, наверняка были другие, кто пытался сделать то же самое, но были отвергнуты народами. И погибли в безвестности… Потому что… потому что либо начали не так, либо слишком рано, либо слишком поздно. И никто никогда не узнает их имен… Может, и его, Михаила Золотинского, имя тоже никогда не узнают. Ну и пусть.
От этих мыслей холодело внутри, сжималось и замирало сердце. Но через какое-то время что-то непонятное начинало в нем пульсировать, распирая тело, и комната становилась тесной, мир становился тесным, и страшно было расправить плечи и развести руки: вдруг все сразу вокруг рухнет и погребет под своими обломками его самого…
Михаил не представлял, как выйдет на люди, каков будет его первый шаг. Казалось: вот он закончит свою поэму – тогда-то все и свершится.
Может быть, размножить ее и потихоньку вкладывать в ящики тем знакомым, кто не побежит с ней сразу же в органы, а прочитает, поймет и передаст другим? Быть может, именно так его поэма подготовит почву для… – и тогда выйдет он сам – высокий, стройный и кра… И все, кто увидит его, поймут, что это и есть тот человек, которого все ждали и который спасет… И пусть даже невысокий и некрасивый, а такой, какой есть. Разве в этом дело? Нет, дело не в физической красоте, а в духовной. Потому что…
Вот мангал – что в нем красивого?
А горит – и всем тепло…
Или взять кобылу сивую
С брюхом вислым. Но седло
Для нее не зря сварганили,
Чтоб не только восседать (тут надо еще поработать),
Чтобы нам не только Сталину
Пышные стихи слагать…
Впрочем, дело не в словах, а в смысле. Главное – содержание, а форма… форма приложится. А еще главнее – понимание.
Вот Мара Катцель, соседка по квартире, невысокая угловатая девушка лет двадцати трех, с тяжелой топающей походкой… Именно она должна понять в первую очередь. Несмотря на своего отца Иоахима Моисеевича, работника Торгсина, сразу же невзлюбившего Михаила – сразу же, как только тот появился здесь в сопровождении управдома, который сорвал печать и открыл дверь в комнату, где, судя по всему, недавно жили другие люди. Не исключено, что Катцели и сами рассчитывали за счет этой комнаты расширить свою жилплощадь… Но этот папаша Катцель, похожий на мяч, не позволяет Маре разговаривать с Михаилом и всегда кричит противным жирным голосом:
– Мага! Уже хватит таки бовтать, будто тебе уже нечего девать! Иди уже в дом и займись уже своими обязанностями!
Мара уходила заниматься обязанностями, в коридоре стихал топот ее коротких, толстых ног, и Михаилу казалось, что обязанности эти должны ужасно унижать эту девушку, делать ее несчастной. Но даже Иохим Катцель должен в конце концов понять своего соседа. И тоже полюбить. Следовательно, и все остальные, безымянные.
Оставалось уповать на то, что придет время и наступит тот момент, когда он, Михаил, выйдет к людям и скажет свое слово…
Как Моисей или Христос.
Тогда Мара освободится от унизительных обязанностей, станет тоже стройной и красивой. И счастливой. Но не как все люди, а по-другому. Впрочем, люди интересовали Михаила Золотинского постольку, поскольку без них он не мог осуществить своего великого предназначения. Люди унизили его, они же его и вознесут.
* * *
Затем случайная встреча в горкоме комсомола с Василием Мануйловичем, которого Михаил не сразу и признал. Он даже решил было заговорить с Мануйловичем, заговорить как со старым знакомым, которого дома можно не замечать, но который в чужих краях вдруг становится близким тебе человеком, если не сказать – родным. Но всегдашняя стеснительность и сознание того, что собственное и вполне естественное влечение к земляку имеет под собой и другой смысл, совершенно другое любопытство, которое надо будет отразить в политдонесении, плюс Васькина отчужденность, помешали Золотинскому заговорить с ним и напомнить о себе.
А еще через какое-то время неожиданно появился Петр Варнавский в форме младшего командира военно-воздушных сил. И в этом не было бы ничего удивительного, потому что в ту пору молодежь просто ломилась как в морской флот, так и во флот воздушный.
Удивительным было другое: каким образом Варнавский за такой короткий срок стал авиационным командиром, как он отыскал Золотинского в таком большущем городе и почему, наконец, не возымела действия информация о его неблаговидном поступке, сообщенная Михаилом Магде Израилевне еще в Москве?
Но не станешь же спрашивать об этом у Варнавского. Тот вообще всячески уходил от ответов на любые вопросы, зато сам задавал их Золотинскому во множестве.
В этом-то разговоре случайно всплыл Васька Мануйлович и очень почему-то Варнавского заинтересовал… Наконец, неожиданное приглашение на Путиловский, и… и комсомольское собрание, на котором Варнавский присутствовал тоже, но не в своей авиационной форме, а в затрапезном костюмчике, очень похожий на водопроводчика.
Только после собрания Золотинский догадался, что разоблачение Мануйловича связано с Варнавским, что его голубые авиационные петлицы всего лишь маскировка, что он сам, Михаил Золотинский, сыграл в этом деле не последнюю роль. Но ужас от содеянного не посетил Михаила Золотинского.
«Не враждуй на брата твоего в сердце своем; обличи ближнего твоего, и не понесешь за него греха… Я Господь…»
Глава 9
В Вышнем Волочке в вагон, в котором ехал Василий Мануйлов, села девчонка небольшого росточка, чернявенькая, с короткой, по тогдашней моде, стрижкой. Василий лишь вскользь глянул сверху на девчонку, когда услыхал ее тихое «здравствуйте», и вновь, положив подбородок на кулаки, уставился в окно.
Сидящий внизу белобрысый парень с широким лицом и вздернутым носом, в кремовой безрукавке, со значком ГТО на ней, тоже из премированных поездкой в Москву, но почему-то никакого участия в общем веселье не принимавший, помог девчонке затолкать на верхнюю полку ее чемоданчик, узел и кошелку, и через минуту внизу звенел смех этой девчонки, и было слышно, как она отчаянно сдерживается, чтобы не смеяться во весь голос, но из нее то и дело вырывается заливистый хохоток и тут же угасал, зажатый ладошкой.
"Эка ее раздирает, – с неудовольствием подумал Василий. – Небось, палец покажи, она и от пальца расхохочется".
Он отвернулся к стенке и вскоре опять забылся своим недавним прошлым.
* * *
После комсомольского собрания Василий наделал немало глупостей и чуть не попал под суд за прогул. Спасибо Сережке Еремееву, а больше – начальнику модельного цеха Вервиевскому: выручили, не дали окончательно сгинуть. Но с Путиловского пришлось уйти: невозможно стало видеть, как при твоем появлении отворачиваются вчерашние товарищи, будто от прокаженного, многие руку перестали подавать, а Миронова Алка сама подстерегла Василия в глухом тупичке, куда сваливали отработанные модели, и, таясь и озираясь, весьма решительно заявила, что знать его больше не желает и чтобы он близко к ней не подходил.
Как ни странно, разрыв с Алкой принес Василию облегчение. Получалось, что не любил он ее, а так как-то… даже и сам не знает, что у него к ней было. Красивая, конечно, дерзкая… Что еще?.. Гордая. Да. И папа – профессор. И такая вот вдруг на него, на Василия, на деревенщину, обратила свое внимание. И так обратила, что не заметить он этого просто не мог. Может, потому и закружилась у него голова.
А вообще-то, девчонок он еще побаивался. Тем более городских.
Уволившись с Путиловского, Василий устроился на тарный завод плотником, сбивал там поддоны, ящики. Через пару месяцев начальство, оценив его старание, перевело Василия в бондарный цех, где он довольно быстро научился делать бочки.
Делать бочки Василию даже понравилось: работа мудреная, требует верного глаза, понимания дерева, владения инструментом. Но как только освоил этот нехитрый набор навыков и знаний, так и затосковал. Все-таки это не модельное дело. Нет, далеко не то.
А еще на тарном не было общежития, платить же за угол в частном или каком другом секторе не из чего: заработки небольшие, едва на пропитание хватало. Одно хорошо на тарном – народ пожилой, семейный, заскорузлый, ничего кроме работы не знавший и знать не желающий, для них Васильево прошлое никакого интереса не представляло.
Но оттого и скучно здесь, и развернуться негде. Не то что на Путиловском. А он все-таки попривык к беспокойной жизни, рано ему было скукоживаться. Да и учиться – мечта об этом не угасала в нем, бередила душу. Казалось, уйди туда, где тебя не знают, и можно все начинать сначала. Поэтому Василий решил проработать на тарном с годок, до следующей осени, а потом перейти на какой-нибудь серьезный завод модельщиком. Благо, в Ленинграде таких заводов великое множество, а модельщик – профессия редкая и очень нужная.
Но уволиться с тарного пришлось значительно раньше. В конце мая пришло письмо от Полины, а в нем сообщалось, что мать очень плоха и просит Василия приехать, увидеться с нею перед смертью.
Начальник бондарного цеха отпустить Василия в отпуск наотрез отказался, потому что Василий не отработал положенные для отпуска одиннадцать месяцев, так что ничего не оставалось, как писать заявление "по собственному желанию" и обращаться с ходатайством к профкому "в связи с семейными обстоятельствами". Профком добро на увольнение дал.
Хотя Василий был весьма экономен в тратах, деньжат в Питере поднакопить не удалось, и пришлось ехать на родину с дешевыми подарками и несколькими рублями в кармане.
Правда, имелся новехонький костюм, справленный им на ту премию, что получил на Путиловском за рацпредложение. Костюм Василий еще ни разу не одевал, его можно было бы продать, но заявиться к своим в обносках не хотелось, за четыре года должен же он был хоть как-то прибарахлиться и показать, что не зря уехал из дома. Да еще в такую даль.
* * *
Мать, действительно, оказалась очень плохой, однако через пару недель немного оклемалась: видать, приезд младшего сына подействовал на нее благотворно, и уже при Василии начала вставать с постели, ходить и даже кое-что делать по хозяйству.
Жила Полина с семьей в новом доме, лишь недавно построенном на самом краю Валуевичей. Муж ее, Устин Дормидонтович, тихий тридцатилетний мужик, работал главным бухгалтером на спиртзаводе, и с работы всегда приходил под градусом, но не шумел, не дрался, а садился в уголок и читал труды товарищей Ленина и Сталина, потому как был партийным и даже депутатом районного совета.
Посидев несколько минут над этими трудами, он тихо засыпал, положив шишковатую редковолосую голову на книгу, его будили перед ужином, он ел в полусонном состоянии и уходил досыпать уже в спальню. Так что все хозяйство лежало на Полине, разве что дрова рубил по утрам Устин. Между тем за три года замужества Полина родила сперва девку, потом сразу двоих пацанов, и теперь опять ходила с пузом, остро и вызывающе выставленным вперед.
Первые дни Василий никуда из дому не отлучался, в охотку возился по хозяйству или с племянниками, и все порывался съездить в Лужи, на мельницу, навестить могилу отца, но мать хотела, чтобы он поехал непременно с ней, да была слишком слаба даже для не столь уж дальней дороги.
В ожидании, пока она окрепнет, проходили день за днем, и Василию уже казалось, что вот так вот бесцельно пройдет и вся его жизнь, он откровенно скучал, а потом, через неделю примерно, повадился с утра ходить на рыбалку и большую часть времени пропадал у реки, иногда вместе с Машуткой, младшей своей сестренкой, вытянувшейся за эти годы в ладную и пригожую шестнадцатилетнюю невесту.
Однажды тихим вечером, когда Устин одолел очередную страницу толстой серой книги и Полина собрала ужинать, в дверь постучали, и на пороге встала Наталья Александровна Медович, все такая же тоненькая, как тростиночка, больше смахивающая на девочку, чем на взрослую женщину. На ней была черная длинная юбка и белая льняная блузка, расшитая васильками по вороту и рукавам, короткие русые волосы чуть кудрявились, карие глаза смотрели строго, как смотрели они в классе на не выучившего урок, но к привычной строгости прибавилось еще что-то, чего Василий определить не умел по своей молодости, но что кольнуло его в сердце непривычной жалостливостью.
– Ой, какой же ты, Вася, большущий стал! И краси-ивы-ый! – воскликнула Наталья Александровна, переступив порог горницы. Тут же попеняла: – Когда приехал, а не зайдешь.
Василий поднялся из-за стола, смущенно одернул рубаху. Полина пригласила Наталью Александровну отведать чем бог послал, но та отказалась, сославшись на то, что уже отужинала, а вот чаю попьет с удовольствием. Она прошла к столу, протянула Василию руку, пожала ее узенькой ладошкой, села, приказала:
– Ну, хвастайся. – И смотрела на него почти влюбленными глазами, так что Василий от смущения даже вспотел.
Устин, допив чай, ушел спать, мать взяла свою чашку и убралась на свою половину, проворчав что-то недовольным голосом, за столом остались лишь Полина, Василий да Наталья Александровна.
И Василий начал хвастаться, и сам удивлялся, как складно у него получалось. Нет, он не то чтобы врал, а всего-навсего рассказывал свою жизнь, какой она была до комсомольского собрания. Он и матери, и сестрам, и зятю своему рассказывал то же самое, а его новенький, с иголочки, костюм и скрипучие штиблеты служили доказательством правдивости его слов. Вовсе не обязательно родным знать, что у него там, в Ленинграде, стряслось, у них и своих забот полон рот, только успевай поворачиваться.
По мере того как он рассказывал, взгляд Натальи Александровны все более теплел и заволакивался туманом, губы полураскрылись и между ними заблестела белая полоска мелких зубов. Наталья Александровна временами кивала головой, как бы удостоверяя его слова, и видно было, что рассказ Василия доставляет ей удовольствие, так что Василий под конец даже вдохновился своей ложью настолько, что начал выдумывать и такое, чего и не было.
– Ах, как я за тебя рада, Васенька, – мечтательно произнесла Наталья Александровна, когда он замолчал, и вдруг протянула руку и потрепала его по голове, чем привела Василия в полное замешательство. – За все время у меня еще не было такого способного ученика, как ты, и это такое счастье видеть, что твои ученики идут дальше своей учительницы.
Шумел самовар, пили чай с конфетами, которые привез Василий, и с баранками. Полина то и дело отлучалась к детям, Машутка еще не вернулась с гулянки.
Наталья Александровна, выслушав Василия, сама стала рассказывать, что произошло в местечке за эти годы, кто куда уехал из бывших одноклассников Василия и вообще из ее учеников, кто чего достиг или не достиг. Говорила она обо всех почему-то печально, как о покойниках, или о людях, которых она отправила на верную гибель, и они таки наверняка погибли, только нет пока еще об этом известий, не дошли они до их захолустья. И часто вздыхала.
Помянула она и Моньку Гольдмана, но вскользь, сказав лишь, что работает и живет в Ленинграде же, но распространяться о нем не стала, зато Василия привела в смущение: он подумал, что Монька мог написать о нем в Валуевичи, и вся его, Василия, ложь станет известной всем и каждому, и если о ней домашние и сама Наталья Александровна помалкивают, то исключительно из деликатности.
– А что, Монька-то пишет? – решил Василий проверить свою догадку, потому что по опыту своему знал, что пусть уж лучше все сразу откроется, чем носить в себе и мучиться неизвестностью.
– Нет, не пишет, – ответила Наталья Александровна. – Из Москвы писал иногда, а из Ленинграда не пишет. – И опять вздохнула, что-то вспомнив свое.
Василий успокоился. Теперь он уже без смущения рассматривал свою бывшую учительницу, в которую был когда-то, еще сопливым мальчишкой, ужасно влюблен. Впрочем, не он один, и ему казалось, что те давние времена вернулись, он снова всего лишь деревенский мальчишка, а его учительница пришла к ним, как она приходила в дом ко всем своим ученикам, чтобы рассказать их родителям об успехах или неуспехах своих чад, при этом никого не обидев и оставив в семье после своего посещения такое же благорасположение друг к другу, как когда-то после посещения местного священника отца Виссариона.
Да, внешне Наталья Александровна почти не изменилась: такая же тоненькая, такая же миленькая, но нет былого задора, в глазах застыли грусть и мудрость женщины, потерявшей что-то важное. Василий не знал, что именно потеряла Наталья Александровна, как не знал и того, что и у него в глазах такое же выражение, но это его выражение еще надобно уметь разглядеть за врожденным упрямством и дерзостью, а у Натальи Александровны оно на виду, как на ладони. И Василия вновь охватила жалость к своей учительнице, захотелось утешить ее чем-то, да только не знал, чем именно и как.
После чая Василий обрядился в свой новый костюм и пошел провожать Наталью Александровну.
Полина, поджав губы, проводила их до порога, ее неодобрительного взгляда Василий не заметил.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?