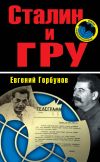Текст книги "Жернова. 1918–1953. Книга третья. Двойная жизнь"

Автор книги: Виктор Мануйлов
Жанр: Историческая литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 11 (всего у книги 41 страниц) [доступный отрывок для чтения: 13 страниц]
Облегчение при виде кривобокой фигуры Моньки Гольдмана не уняло бешенства Василия Мануйлова, оно сделало его холодным и расчетливым: уж если драться, так до последнего.
Теперь Василий стоял вполоборота к президиуму, переводя побелевшие глаза с Петьки Пастухова на Владлену Менич и обратно. Остальные трое, из работяг, сами испуганно смотрели на Василия и угрозы ему не представляли.
– Вот ты как заговорил, – процедил сквозь зубы Пастухов, тоже побелев лицом и глазами. – Вот она, сущность-то твоя кулацкая когда выявилась. Может, ты нам теперь расскажешь, как твой отец боролся с советской властью?
– Я тебе, гад, за такие слова… – шагнул Василий к столу, стиснув кулаки и согнув в локтях руки, но сзади него поднялся такой шум, такой крик и разноголосица, что не поймешь, против кого этот крик – против Василия или Пастухова. Да и президиум почти весь вскочил на ноги, то ли собираясь защищать своего секретаря, то ли еще почему.
А Владлена Менич взвизгнула и, показывая на Василия вытянутой рукой, закричала:
– Милицию! Его в милицию надо уже сдавать! Это форменное хулиганство! Что же вы смотрите, товарищи? Ведь это ни на что такое уже не похожее! Он ведь уже ударить даже может! У него и нож наверно есть…
И еще она что-то кричала, хотя Василий, опомнившись, давно стоял на прежнем месте и не двигался, лишь до боли в пальцах сжимая кулаки.
Кто-то засмеялся в задних рядах – и это отрезвило всех, и шум сразу сник, лишь Пастухов продолжал стучать карандашом по графину с водой.
Но вот он бросил карандаш на стол, одернул пиджак, пробежал пальцами по прилизанным волосам.
– Ничего, ничего, – проговорил Пастухов дребезжащим голосом. – Мы и не такое видали. Нам, комсомольцам, не привыкать. А на твои, Мануйлов… или как там тебя?.. обвинения в мой адрес, я могу сказать только одно: все твои достижения – это лишь желание приспособиться и пролезть в наши ряды. Лично мне приспосабливаться не нужно, поэтому я… А врагам советской власти это как воздух, что и доказали процессы над "Промпартией", "Крестьянской партией" и "Союзным бюро РСДРП". Там тоже хвалились достижениями и всякими открытиями и изобретениями, прикрываясь которыми, вредили советской власти. Знаем, как это делается! Знаем! Так что можешь нам пыль в глаза не пускать… А известно ли тебе решение пятнадцатого съезда ВКП(б) о том, что – цитирую: "Члены партии, отказывающиеся правдиво отвечать на вопросы контрольных комиссий, подлежат немедленному исключению из партии"? Члены па-арти-и!
Пастухов многозначительно воздел вверх палец и оглядел присутствующих. Он снова начал взбираться на своего конька, с которого только что свалился, и голос его обретал все большую уверенность.
– Так это члены партии, а ты даже еще не стал комсомольцем, а уже бессовестно врешь своим товарищам прямо в глаза.
Пастухов помолчал многозначительно и, видать, окончательно оправившись от испуга, спокойно задал вопрос:
– А теперь расскажи нам, Мануйлов, всю правду про своего отца и про себя. Рассказывай! Товарищи ждут. Мы должны знать, кто работает рядом с нами, мы должны знать его истинное лицо.
В кабинете, где от тесноты воздух стал тяжелым, установилась уже совсем невозможная тишина, будто люди перестали дышать, так что Василию показалось даже, что он оглох. В нем еще бушевали злость и бешенство, но он уже понимал, что ни криком, ни кулаками тут не возьмешь, что он проиграл окончательно, что прошлое властно вторглось в его нынешнюю жизнь и теперь никогда и никуда его не отпустит.
Напрасными были годы труда и надежд, напрасными и глупыми были мечты. Он оглядел кабинет, видя лишь белые пятна лиц, отыскал Сережку Еремеева, скользнул взглядом влево-вправо от двери – Аллы Мироновой не было видно: ушла, чтобы не видеть его позора. Скорее всего, он и ее потерял тоже…
Зазвенел графин под карандашом Пастухова, Василий облизал сухие губы. Рассказывать про отца? Что рассказывать? Да и зачем? Что это теперь изменит? Отца уже нет в живых, если он чем и был виноват перед властью, то смертью искупил все свои вины. Да и как про отца рассказывать? И кому? Пастухову? Ну уж…
– Нечего мне рассказывать, – глухо произнес Василий. – Свою жизнь я вам рассказал, другой у меня не было.
– Нет, была.
Голос раздался из середины белых пятен, и это оказался голос человека с портфелем. Человек встал и, постепенно проявляясь, пошел к президиуму, глядя на Василия черными горошинами мышиных глаз. Он по-хозяйски прошел за стол президиума, открыл свой портфель, достал из него серую папку и показал ее собравшимся.
– Здеся, в энтой вот самой папке, вся правда о Василии Мануйлове, а вернее будет сказать, о Василии Мануйловиче. Правда энта собрана нами, чекистами, как только мы восчувствовали, что в поведении вышеозначенного гражданина Мануйлова, в евоных поступках и действиях имеет присутствие определенная двоякость образа личности. Нам не составило, сами понимаете, товарищи рабочие, труда установить ясность действительного положения вещей, а именно, что отец данного, мягко говоря, гражданина, Гаврила Васильевич Мануйлович, являлся ярым и заклятым врагом советской власти, коллективизации сельского хозяйства и индустриализации нашей отсталой по причине царской власти и гражданской войны промышленности. В результате своего образа мыслей Мануйлович-старший был осужден за антисоветскую пропаганду и антисоветские деяния. Отец, мягко говоря, гражданина, который предстоит тута перед вашими честными рабочими глазами и имеет наглость выдавать себя за сознательного и передового пролетария, чтобы пролезть в комсомол и подрывать его изнутря своими антисоветскими действиями, – человек с портфелем ткнул пальцем в сторону молчаливо стоящего Василия, – был отправлен отбывать свой законный срок заключения на строительство объектов социалистической индустриализации, но не раскаялся через посредствие честного труда, а составил тама антисоветский заговор, бежал совместно с другими яростными врагами советской власти из зоны, зверским образом убив пятерых красноармейцев. Обложенный наподобие кровожадного волка доблестными чекистами, Гаврила Мануйлович был застрелен недалеко от своего дома, имея преступное намерение покуситься на жизнь бывшего секретаря местной партячейки, которого советская власть назначила на должность директора мельницы… Да-да, той самой мельницы, которой владел до ареста и суда Гаврила Мануйлович!
Человек с портфелем передохнул, налил из графина воды в стакан, выпил, громко двигая острым кадыком, обтер губы ладонью.
– Такова была гнилая мелкобуржуазная яблонька, – продолжил он. – Тепереча посмотрим, какое яблочко она произвела на свет. Но про яблочко вам лучшее расскажет человек, который хорошо знавал Мануйлова-Мануйловича еще в те самые поры, когда энтот Мануйлов имел бытность просто Мануйловичем. Человек энтот, которого я имею в виду и который в данный ответственный момент находится посреди нас, имеет безупречную репутацию истинного большевика, активного пропагандиста указаний товарища Сталина по вопросам социалистического строительства. Прошу выйтить сюды, товарищ Золотинский.
В задних рядах произошло шевеление, и в проходе очутилась щуплая и кривобокая фигура Моньки Гольдмана, будто выдавленная из тюбика. Сильно выворачивая ступни, как в цирке ходят клоуны, он подошел к столу и остановился в двух шагах от Василия, не глядя на него и теребя в руках кепку. Значки на его поношенном пиджаке на этот раз почему-то отсутствовали.
– Расскажите нам, товарищ Золотинский, всю доподлинную правду, которая известна вам с самого, можно сказать, рождения, о присутствующем здеся Мануйловиче Василии Гавриловиче, – властно приказал человек с портфелем, и Монька повернулся лицом к присутствующим и заговорил.
Заговорил он тихим голосом, но из задних рядов крикнули, чтоб говорил громче. Монька споткнулся, прокашлялся, однако громче говорить не стал: он просто не умел говорить громко. Разве что стихами, да и теми криком и нараспев.
Впрочем, Василий, хотя и стоял рядом, все равно ничего не слышал. Голос Моньки доходил до него издалека, но это был другой голос – восторженный голос человека, рассказывающего – после сытного ужина, – как хорошо будут жить люди при коммунизме. И видел Василий просторную горницу, горящую над столом керосиновую лампу, своих братьев и сестер, видел мать возле печи, озаряемую красным пламенем, отца в углу под образами, окутываемого табачным дымом, слышал пришепетывающий голос Моньки… – и такая тоска вдруг охватила его душу, что он, как пьяный, ничего не соображая, медленно побрел к выходу.
– Мануйлов! – выкрикнул Димка Пастухов. – Стой! Мы еще не кончили! Комсомольская организация…
– Да пошли вы в жопу! – тихо произнес Василий, едва обернувшись, и выбежал вон, ударом ноги открыв тяжелую дубовую дверь кабинета начальника литейного цеха, кабинета, где он, Василий, столько раз сиживал один на один с его владельцем, старым инженером Вервиевским, разбирая свои рацпредложения. Этот Вервиевский очень помогал Василию и всячески поддерживал в нем стремление к образованию и изобретательству.
И вот в этом кабинете, где Василий отращивал свои крылья, крылья эти теперь обрубили…
Все, ничего теперь этого не будет, не будет умных разговоров с начальником цеха Вервиевским, а значит, не имеет никакого значения, что там наговорит на него Монька Гольдман.
Глава 5
А Монька Гольдман ничего такого про Василия не наговорил. Он лишь попытался повторить то, что перед этим сообщил человек с портфелем.
На Моньку шикали, от него требовали говорить громче, смотрели с подозрением, потом стали задавать вопросы, кто он сам и откуда, какова его настоящая фамилия, почему очутился на этом комсомольском собрании, будто именно Монька был виноват в том, что Васька Мануйлов вдруг оказался совсем не тем, каким они его знали, любили и считали своим в доску.
Монька на все каверзные вопросы лишь вертел головой, снимал и надевал очки, кривил рот да поглядывал на человека с портфелем, ища у него то ли поддержки, то ли каких-то разъяснений, но на помощь к нему из-за стола президиума приходила лишь девушка в очках, объясняя за него все, чего сам он объяснить не мог.
Вся штука в том, что бывший Монька Гольдман, а ныне Михаил Золотинский, не собственной волей попал на это собрание, не был к нему готов, даже не знал, кого он там встретит, и не было у него ни малейшего желания топить Ваську Мануйловича. Не замечать – куда ни шло, но топить – нет: Михаилу Золотинскому это совершенно не было нужно.
Вообще говоря, ему, Михаилу, как выяснилось, ничего не было нужно, кроме как писать стишки, и ничего другого ему делать не хотелось. Страсть к рифмоплетству в нем родилась неожиданно, талантов к этому роду деятельности он даже не подозревал в себе до тех пор, пока ему не поручили – еще в Валуевичах – выпускать комсомольский листок. То есть не ему одному, конечно, но он был там одним из самых грамотных. Не считая учительницы Натальи Александровны Медович.
С этого листка все и началось – все его радости и горести. Начал он с подписей под рисунками, на которых изображались кулаки, торговцы-нэпманы, спекулянты, бюрократы и прочий антисоциальный элемент. Потом пошли частушки, за ними – стихи.
Первое же его стихотворение было напечатано в районной газете, и вскоре ни один номер ее не выходил без стихов М. Золотинского. И года не прошло, как Михаил стал знаменитостью районного масштаба: его фамилия звучала столь же привычно для слуха местного жителя, как и фамилия секретаря райкома партии или завмага, а тщедушная фигурка местечкового поэта появлялась перед народом даже чаще всех остальных партийных и советских деятелей, вместе взятых.
Дело в том, что Золотинский не только печатал стихи в своем листке и районной газете, но и читал их на собраниях и митингах, напрягая до последней возможности свои слабые голосовые связки, читал в школах, в детдоме, в доме общества политкаторжан и престарелых большевиков, в больницах и даже на свадьбах и похоронах. Его поэтическое дарование оказалось столь многогранным, что вмещало в себя все стороны, углы и ребра тогдашней кипучей жизни.
Радость и счастье в народной среде,
Скучных и грустных не видно нигде:
Новый родился сердечный союз,
Строить им новый Советский Союз!
– выкрикивал Монька, стоя посреди загса.
Моньку качали, будто женится именно он, а не кто-то другой, совали в карманы деньги, а когда он уходил домой, нагружали пакетами с едой и выпивкой. Он стал в Валуевичах необходим всем так же, как местечковый еврейский оркестр.
Ушел наш товарищ, отдав все борьбе.
Спасибо, товарищ, за это тебе!
Тебя не забудет рабочий народ,
А имя твое поведет нас вперед.
И неважно было, кого хоронили: старого ли еврея, бывшего лавочника, помершего ли от ран бывшего чоновца или от перепою самогонкой местного золоторя. Для всех Монька находил прочувственные слова, всех вводил в пантеон борцов за светлое будущее.
Люди, слушая его, плакали. И не только женщины. И всем казалось, что покойный был действительно великим человеком. В этом случае Моньку не качали, но едой нагружали обязательно.
Одно огорчало: никто в Валуевичах не признавал его за Михаила Золотинского, называя по-прежнему Монькой, сыном цирюльника Гольдмана, который, на горе Михаила, принадлежал к антисоциальным частнособственническим элементам.
Между тем к концу двадцатых многие лавочники и индивидуалисты-предприниматели стали объединяться в кооперативы и создавать на их основе государственные предприятия, а цирюльник Гольдман объединяться не хотел, объясняя свое нехотение тем, что объединяться ему не с кем (он к тому времени остался единственным парикмахером на все Валуевичи, потому что другие евреи-парикмахеры разъехались по большим городам и столицам) и объединять ему нечего – разве что своих криворотых детей с другими, поскольку весь его производственный инвентарь составляют несколько пар ножниц, расчесок, машинка для стрижки волос да большое порыжелое зеркало, обсижанное мухами.
Михаил пытался воздействовать на отца, но из его воздействия, робкого и неуверенного, ничего не получилось, и тогда ему пришлось уйти из дому и устроиться на квартиру, чтобы на высокое звание пролетарского поэта и комсомольца не падала мелкобуржуазная тень.
Посылал Михаил свои стихи и в областную газету, но там напечатали пару раз, при этом сильно переврав, – и все. Это показалось весьма странным и даже подозрительным не только самому Михаилу, но и многим его валуевическим почитателям.
– Зажимают, – вынес свой приговор бывший секретарь райкома комсомола, а ныне инструктор райкома партии по работе с молодежью Петр Варнавский. – А может, и чего хуже. Может, там, в области, окопалась контра и не дает тебе хода. Ничего, мы их выведем на чистую воду.
Как он собирался выводить на чистую воду контру из областной газеты, Михаил не представлял, но верил, что вполне способен: в Валуевичах все знали, что Петр Варнавский связан с Гэпеу.
Поддерживала Михаила и Наталья Александровна, единственный в округе специалист по стихам. Да и многие другие. И все считали, что ему надо ехать в Москву или в Ленинград, где его способности смогут оценить по достоинству. Но Михаилу было страшно покидать Валуевичи, где его знают все и он знает всех, где он нужен и добился известного положения, а что будет в столице, не известно даже самому господу богу, которого, разумеется, не существует.
Сомнения и нерешительность Михаила Золотинского, быть может, так бы и не вывели его из разряда местечковых знаменитостей, если бы не случай: Петра Варнавского послали учиться в Москву на, как он сам сказал, партийные курсы, и он, собираясь туда, предложил Михаилу:
– Поедем вместе. Москва большая, как-нибудь устроишься, а главное – там все поэты собраны. Покажешь свои стихи Маяковскому… или Демьяну Бедному… и сразу перед тобой откроются все двери. Не дрейфь: это наша страна, мы в ней хозяева, нам и решать, кто чего стоит.
И Михаил, убежденный столь вескими доводами, согласился. Действительно, терять ему хотя и было чего, но все это мелочи в сравнении с тем, что могло образоваться в Москве… А если не получится, так тоже не беда: кому-то надо засевать культурную ниву и в Валуевичах.
Однако Михаил не представлял себе возможности своего возвращения назад, а от мысли, что он в Москве познакомится с известными всей стране поэтами и писателями, у него захватывало дух. Ему ничего не стоило убедить себя в том, что он непременно и сразу же, как приедет, познакомится со всеми знаменитостями. Более того, ему уже казалось, что в Москве его ждут, что там существует нехватка именно его, Михаила Золотинского. А когда он закончит свою поэму о революции, то даже Маяковский…
И он поехал. Благо, собирать особо было нечего, оставлять – тоже.
Бог его знает, как бы в Москве все обернулось, если бы отец не дал ему письмо к какому-то дальнему родственнику, и этот-то родственник, – то ли снабженец, то ли спец по финансовой части, – свел Золотинского с нужными людьми, а нужные люди ввели его в мир московских поэтов.
Случилось это в тридцатом году, весной, когда Васька Мануйлов уже работал на Путиловском в Ленинграде.
Увы, в Москве у Михаила, несмотря ни на какие протекции, не получилось ничего из того, о чем он мечтал. Познакомиться с поэтами он познакомился, – не со всеми, правда, и не с Демьяном Бедным, и не с Маяковским, которого уже не было в живых, но все-таки с известными: с такими, например, как Светлов и Пастернак. Эти знакомства помогли ему открыть двери поэтического семинара для начинающих пролетарских поэтов, устроиться корректором в один из московских журналов и получить маленькую каморку в коммуналке, а вот стихи его как не печатали, так и не печатали, при этом не объясняя, почему: то ли стихи не стихи, то ли не про то писаны.
К тому же Петр Варнавский довольно скоро отдалился от него: своя жизнь, свои заботы, свои устремления. Да и встала неожиданно между ними Наталья Александровна Медович. В том смысле, что их отъезд раскрыл Михаилу Золотинскому связь между учительницей и инструктором валуевического райкома партии, связь, которая не делала чести Петру Варнавскому, и прознай про эту связь партийное руководство, не только Москвы ему не видать, но и партийного билета: брюхатой Наталья Александровна оказалась от Петра Варнавского, но он не пожелал жениться на ней, заставил сделать аборт, а это не укрылось от всезнающих и всевидящих валуевических кумушек.
Из дома писали, что для Натальи Александровны ее любовь к Варнавскому обернулась исключением из партии за моральное разложение, но что Петра Варнавского она не назвала, как только к ней ни приступали.
Ко всему прочему, Михаил к Наталье Александровне относился не просто с большой симпатией, а даже больше, чем с симпатией: он был в нее безнадежно влюблен, однако тщательно это скрывал как от Натальи Александровны, так и от всего мира. Получалось, что Варнавский нанес обиду не только Наталье Александровне, но и Михаилу тоже.
У Михаила даже появилось желание вернуться в Валуевичи, придти к Наталье Александровне и признаться, как давно и безнадежно он ее любит, и что теперь, когда с ней так не по-большевистски поступил Варнавский, он, Михаил, готов забыть прошлое и протянуть ей свою дружескую руку. И даже жениться.
В мечтах все это так сладко и красиво выглядело, что Михаил, умиляясь своим благородством и жертвенностью, плакал по ночам, а утром, умывшись холодной водой из-под крана и повздыхав, отправлялся в редакцию вычитывать чужие статьи и очерки на предмет правильности расстановки знаков препинаний и чередования гласных.
Так что пути у Золотинского с Варнавским разошлись – и слава богу: мучили поэта, хотя и не признанного еще, сведения о бывшем инструкторе, компрометирующие его, сведения, которые разрастались с каждым письмом из дому и с которыми он не знал, что делать: став к тому времени кандидатом в члены партии, он должен был известить о моральном падении Варнавского свою парторганизацию, но как бывший его друг и земляк, как человек стеснительный и нерешительный, он старался об этих падениях как бы не помнить, а самого Петра Варнавского избегать.
За год с небольшим, что Золотинский провел в Москве, он достиг лишь того, что ему стали поручать подписи под сатирическими плакатами второстепенных художников да сочинять всякие стихотворные приветствия по случаю того или иного пролетарского праздника или события заводского или фабричного масштаба, в результате чего Михаил как бы приблизился к порогу, за которым процветал узкий круг лиц, занимающийся этим не только в масштабах Москвы, но и всесоюзном, но только лишь к порогу, подбирая остатки, которые не могли, по причине перегруженности, переварить мастера цеха рифмоплетов, цеха, возникшего на развалинах знаменитых "Окон сатиры РОСТА".
Велик пролетарский кулак и тверд,
Контру он в порошок сотрет.
Пусть контра при этом хрустит, как стекло,
Будет в мире светло.
Или:
Сталина гений ведет нас вперед.
Смело шагает советский народ,
Стиснувши зубы и сжав кулаки,
Ради того, чтоб дрожали враги.
Особенно впечатляюще эти стихи выглядели, когда начальные буквы строк набирали красным цветом, тогда каждый сразу же мог увидеть: ВКПБ и СССР.
На акростихи Михаил оказался большим выдумщиком. И даже на такие, где шифровались целые выражения. И про ОГПУ тоже было:
Огнем каленым выжжем бюрократизм!
Гадов подколодных вытащим на свет!
Пусть Политбюро ведет нас в коммунизм,
У нас другого пути, товарищи, нет!
Но Золотинский мечтал не о таких стихах, а о поэзии высокой. Однако жизнь распоряжалась по-своему, она не спрашивала о желаниях самого Золотинского, а грубо и властно диктовала ему свою волю. У действительности как бы не существовало полутонов, вся она была расцвечена лишь в две краски: красную и черную, какими набирали на плакатах строчки его акростихов-комментариев. Да и сами карикатуры.
Хлеб в деревне гноит кулак.
Ложится спать сытым он.
Если и дальше пойдет так,
Быть кулаку битому.
Конечно, приятно видеть свою фамилию рядом с фамилией художника на ярком плакате в витринах магазинов, в фойе кинотеатров или на специальных стендах, разбросанных по всей Москве, но кроме этой мимолетной приятности и ничтожных гонораров такое творчество ничего не давало. Более того, чем больше плакатов выходило с его фамилией, тем прочнее закреплялась за Михаилом определенная репутация, несовместимая с репутацией настоящего поэта. Надо было работать и ждать своего часа, ни в коем случае не довольствоваться жалкой, как он это понимал, ролью комментатора, каковой удовольствовались многие его коллеги. Да и возраст – уже под тридцать, осталось не так уж и много, но должен же придти и его день, непременно должен.
К тому времени Золотинский забросил просто стихи и упорно писал поэму о Революции, о той Революции, о которой мечтало человечество, может быть, со дня сотворения мира. Да-да, именно так, потому что на пустом месте ничего не возникает и ничто не возникает из ничего. Революция виделась ему Прекрасной Дамой, ведущей к всемирному счастью неразумных чад своих, наподобие… наподобие доброго милиционера в белоснежной форме и остроконечном шлеме, переводящего через шумную Тверскую выводок октябрят.
Между тем тот факт, что Золотинский так и не переступил порог цеха рифмоплетов, спас его от многих неприятностей, когда очередная волна борьбы с троцкизмом накрыла и этот цех. Волна эта не погребла под собой Золотинского, она лишь отбросила его в сторону, оставив барахтаться в луже вместе с головастиками.
Надо было начинать все сначала, но в Москве к нему относились уже с настороженностью, однажды даже не пустили к поэту Михаилу Светлову, сказав, что того нет дома, хотя Золотинский только что слышал за дверью его голос. А вскоре уволили из журнала. По сокращению штатов.
Это были три недели полного отчаяния. Золотинский не понимал, почему с ним так поступили. Во-первых, арестовали почти всех "ростовцев", как они себя называли, а ведь это были преданнейшие революции люди, и чтобы убедиться в этом, стоило лишь прочитать хотя бы немногое из того, что выходило из их цеха; во-вторых, почему он вдруг стал как бы изгоем среди тех, кто лишь вчера относился к нему, хотя и несколько снисходительно, но вполне по-товарищески и даже по-приятельски? Было много и других вопросов, которые сами по себе пугали Михаила, а уж чтобы искать на них ответ, и говорить нечего.
Михаил чувствовал на себе будто какое-то клеймо, но кто и зачем поставил его на нем, как от этого клейма избавиться, не мог себе представить. Ему даже в долг не у кого было взять, он голодал и подумывал о возвращении домой.
И вот странность: вместе с этими напастями, так неожиданно и незаслуженно на него свалившимися, что-то стало меняться в сознании самого Михаила, меняться незаметно, постепенно, и все эти изменения так же незаметно, по словечку, стали отражаться в его поэме. В ней зазвучали сперва робкие нотки пессимизма, вслед за тем – разочарования, наконец – неверия и даже озлобления. Сам Михаил этого не замечал, он просто упивался переменчивостью своего настроения, но иногда его брала жуть, и он надолго застывал за своим неказистым столом, уставившись в темный угол, куда не достигал свет настольной лампы, не понимая и не пытаясь понять, что же с ним происходит.
Душой его все больше и больше овладевал страх.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?