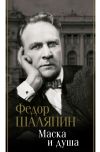Текст книги "Жизнь Шаляпина. Триумф"

Автор книги: Виктор Петелин
Жанр: Музыка и балет, Искусство
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 11 (всего у книги 60 страниц) [доступный отрывок для чтения: 15 страниц]
– А что? Черным-черно? Беспросветно?
– Да, жизнь нелегкая в Нижнем. На днях арестовали кого-то из книжного музея. Еще человек пять арестованы по доносу шпиона. Шпиона убили, но тут же арестовали еще человек двадцать. Но все какие-то незнакомые фамилии. Развелось же, однако, у нас этих людей. Многие полюбили, чтоб их в тюрьмы время от времени сажали.
– Наверное, завидуют твоей популярности. Знают, что вся молодежь выступила в твою защиту, когда тебя посадили.
– Что-то непредсказуемое происходит чуть ли не каждый день.
Шаляпин ожидающе посмотрел на Горького.
– Недавно в Сормове на танцевальном вечере в клубе кто-то выпалил из револьвера в пристава Высоцкого. Не попал. Можешь себе представить, что произошло с приставом, так он перепугался. Публика очень хохотала над испугом пристава… Жестокие нравы.
– Да куда уж там, хуже не бывает, такая напряженность в обществе, все ждут каких-то перемен.
– А тут стали писать мне интересные письма, даже некоторые в стихах, славные такие стихи, в которых очень сильно и образно меня ругают за пристрастие к евреям. Ну, сам догадываешься, «подлая морда» величают, желают подохнуть и так далее и тому подобное. Конечно, и за статью о погроме в Кишиневе, и за «Мещан»… Да разве только я один поддерживаю евреев; кстати, есть за что: ведь это они, в сущности, организовали городскую молодежь и рабочих выступить в мою защиту два года тому назад. Свердлов, сестра и брат Израилевичи, юный Самуил Маршак, нижегородский врач Вигдорчик, высланный в Минусинск за содействие социал-демократам, усыновленный мною Зиновий Пешков, не буду всех перечислять, их много, и они везде: в Одессе, в Питере, в Москве, Баку и Тифлисе…
– И всем нужны деньги, – засмеялся Федор Иванович. – Пятницкий как-то рассказывал мне, как ты опустошил его кассу после удачной распродажи первого твоего двухтомника. То одному нужно выслать такую-то сумму, то другому. А какой-то неизвестный чудак вообще пришел к тебе и говорит: «Алексей Максимович, вы нравственно обязаны…» – а ты при этих словах, рассказывает, побледнел и тут же полез торопливо вытряхивать содержимое своих карманов. «Пусть к нему даже никто не придет, – говорит Пятницкий, – сам станет навязывать. На свете столько симпатичных предприятий, столько симпатичных, несчастных, нуждающихся людей, приходят и просят, а он и готов…» Да, Алекса! Уже легенды складываются о твоих гонорарах и особенно о том, как тратишь ты их…
– Для хороших людей, Федор, ничего не жалко. Вот мог бы дом купить, семью устроить, надоело мотаться по углам да чужим квартирам. Уже изложил свои мысли Пятницкому: хорошо бы на самом краю Откоса построить дом, тогда из Нижнего выслать не имеют права, престиж поднимется, как же, домовладелец, а не какой-нибудь писака, и семья обеспечивается столь нужным и необходимым комфортом. Ну конечно, Пятницкий все представил в ироническом виде… Дескать, в вашем положении мечтания о доме возможны только после того, как хорошо выпили и плотно закусили, а в заключение своих убедительных размышлений обозвал меня Маниловым, потому что на постройку задуманного мною дома нужны не тысячи, а миллионы…
– Дом – это прекрасная мысль! Я вот тоже непременно построю дом где-нибудь недалеко от Кости Коровина, друг его Мазырин готовит проект.
– Это не тот, с которым летом мы чуть не поссорились? Остроги надо строить прежде всего, ишь ты, черносотенец.
– Зря ты, Алекса, взъярился на него, он хороший, чудаковат маленько. Да кто из нас не чудаковат, вот Леонид Андреев…
– Вчера встречались с ним. Был у него. Мирились. Чуть-чуть не заревели, дураки. Штоф даже и не выставил, так вот, как и у тебя, чайком побаловались, и все. А разговор был преинтереснейший. Он тоже весь накален, плесканешь – зашипит… Переделывает своего «Василия Фивейского», конец не получается, говорит. Василий Фивейский должен меньше слез лить, а больше протестовать, должно ощущаться в нем больше бунта. Ну, посмотрим, что у него получится. В очередной сборник «Знания» берем эту его вещь. Ты знаешь, что он эту повесть посвящает тебе?
– Да! Я очень благодарен, мне очень нравится отец Василий.
– Огромная будет вещь. Лучше этого – глубже, яснее и серьезнее – он еще не писал. Ты читал его «Мысль»?
– Мне понравилась. Интересный человек там выведен. Вот если б такого типа в опере сыграть, сложного, противоречивого, непонятного и непонятого…
– Достоевщиной попахивает, никак он не освободится от этого дурного влияния. Зашла как-то об этом речь с Чеховым, еще в Ялте в прошлом году. Ему тоже не понравилась эта «Мысль». Это нечто претенциозное, говорит, неудобопонятное да и ненужное, но талантливо исполненное. «В Андрееве нет простоты, и талант его напоминает пение искусственного соловья», – вот какой приговор вынес Чехов Леониду Андрееву. Я возражал Антону Павловичу, но вижу, как Леонид тянется к Достоевскому, его доктор Керженцев чем-то напоминает Раскольникова… Ему долго пришлось бороться с жалостью к человеку, которого он осудил на смерть. И он пощадил бы своего приятеля, если б он оказался крупным литературным дарованием.
– Леонид вспоминает Раскольникова…
– Да, ему жалко Раскольникова как нелепо погибшего человека. Керженцев считает себя выше Раскольникова по своим человеческим качествам, он представляет себя после убийства и чувствует, что он не дрогнет, будет сохранять полную уверенность мыслящего человека, предвидящего все случайности. Он надеется после убийства сохранить свою волю, крепость неистощенной нервной системы, глубокое и искреннее презрение к ходячей морали.
– И никаких угрызений совести и уверенность в том, что он как человеческая особь гораздо полезнее того, кого он предполагал убить и все-таки убил.
– Да, Федор, этот герой Леонида – гремучая смесь героев Достоевского и Ницше. Но и в этом рассказе есть интересные мысли о том, что во время припадка можно высказать все, что думаешь об окружающих людях. Помнишь? «Борьба – вот радость жизни…» Посмотрел Керженцев во время ужина на своих приятелей, увидел их сытые рожи и закричал: «Негодяи! Поганые, довольные негодяи! Лжецы, лицемеры, ехидны. Ненавижу вас!» И еще что-то, может быть, еще более грубое, но дело не в этом. Он увидел, с радостью увидел их испуг на их самодовольных побледневших лицах. Борьба – вот радость жизни. Этот лозунг я полностью поддерживаю, а в остальном… Я говорил ему не раз, чтоб в обличении господствующей морали он доходил бы до корня. Не раз призывал его: «Пощипли Мысль мещанскую, пощипли их Веру, Надежду, Любовь, Чудо, Правду, Ложь – все потрогай! И когда ты увидишь, что все сии устои и быки, на коих строится жизнь теплая, жизнь сытая, жизнь уютная, жизнь мещанская, зашатаются, как зубы в челюсти старика, – благо ти будет и долголетен будеши на земле». Но не внял моим наставлениям, все эти христианские постулаты у него твердо управляют нашей жизнью.
– Ты не прав, Алекса! А Василий Фивейский проклинает весь этот мир, вопиет против порядков нынешних и вообще против разумности теперешнего мироустройства.
– Так потому и считаю эту вещь большим успехом нашего драгоценного Леонида. То, что не удалось сказать Леониду, скажу я сам. Я почти закончил что-то вроде философского трактата, но назову эту вещь поэмой, как и Гоголь свои «Мертвые души», даже и написал ее ритмической прозой. Но дело не в форме, а в сути, как ты сам понимаешь. А суть в том, чтобы сбросить в тартарары всю эту мещанскую мораль с ее общечеловеческими ценностями, возвысить свободного Человека, свободного и гордого, который шествует далеко впереди людей и выше жизни, один – среди загадок бытия, один – среди толпы ошибок… Идет! В груди его ревут инстинкты; противно ноет голос самолюбья, как наглый нищий, требуя подачки…
Шаляпин и Иола Игнатьевна скорее почувствовали, чем осознали, что Алексей Максимович читает нм только что написанную поэму, и застыли с поднятыми чашками в руках – лишним движением не хотелось разрушить творческий процесс знаменитого писателя.
– …И как планеты окружают солнце, так Человека тесно окружают созданья его творческого духа: его всегда голодная Любовь; вдали, за ним, прихрамывает Дружба; пред ним идет усталая Надежда; вот Ненависть, охваченная Гневом, звенит оковами терпенья на руках, а Вера смотрит темными очами в его мятежное лицо и ждет его в свои спокойные объятья.
Он знает всех в своей печальной свите – уродливы, несовершенны, слабы созданья его творческого духа!
Одетые в лохмотья старых истин, отравленные ядом предрассудков, они враждебно идут сзади Мысли, не поспевая за ее полетом, как ворон за орлом не поспевает, и с нею спор о первенстве ведут, и редко с ней сливаются они в одно могучее и творческое пламя…
Горький замолчал, внимательно посмотрел сначала на Федора Ивановича, потом на Иолу Игнатьевну: как, дескать, впечатление. Иола, ничуть не задумываясь, ответила:
– Не знаю, прихрамывает у вас с Федором дружба или нет, а наша с Федором любовь никогда не бывает голодной, ты уж, Алексей Максимович, извини меня, но напрасно ты оскорбляешь нашу любовь, она у нас вовсе и не уродлива и не одета в старые лохмотья. Правда, Федор?
Горький и Шаляпин переглянулись, широко улыбаясь: Иола Игнатьевна по-своему истолковала высокие душевные порывы творческого вдохновения. «А может, Иолинка права в своей женской простоте? – подумал Шаляпин. – Уж очень снижает значение простых человеческих чувств, которыми мы живем ежедневно и ежечасно, можно сказать, наш драгоценнейший Алекса».
– Ну что, хозяюшка? Спасибо за чай и сахар! Спасибо за угощение… Федор! Я прошу тебя поехать со мной к богатой домовладелице Ганецкой. С ней уже разговаривали, она вроде бы согласна вступить в наше театральное товарищество.
– Поедем! С Верой Ивановной я чуть-чуть знаком. Не откажет…
Глава третья
Добрыня Никитич и Алеко
Солнечные дни сменились ненастьем. Изредка проглядывало солнце, разрывая плотные черные тучи; устанавливалась теплая, тихая погода, без грома и молний, а чаще всего целыми днями сыпал мелкий, нудный дождик. Никуда в эти дни не хотелось выходить. Осень… Горький уехал, собрав около пяти тысяч рублей на общедоступный театр в Народном доме. А театральная Москва жила своей обычной суетной жизнью. Контракты, обязательства вынуждали и Федора Ивановича поддерживать независимый уже от его желаний все ускоряющийся темп жизни.
Начались репетиции «Добрыни Никитича». Шаляпин делал все, что мог, но чувствовал, мало или совсем нет драматического развития действия, нечего играть, образ Добрыни получается статический; открывались лишь некоторые возможности демонстрировать свою фигуру и голос. Да и другие партии столь же невыразительны в игровом отношении. Гречанинов вникает в каждую партию, но успех от этого невелик.
10 октября состоялся концерт в зале Российского благородного собрания в пользу Общества вспомоществования учащимся женщинам в Москве. Еще 6 февраля Шаляпин писал Антонине Васильевне Неждановой: «Простите меня за беспокойство. Я позволяю себе обратиться с покорнейшей просьбой не отказаться в случае возможности с Вашей стороны помочь бедным учащимся женщинам в Москве. В апреле (в конце) устраивается концерт в Сокольниках, буду петь я, предполагается участие Барсукова, Корещенки и Е.И. Збруевой.
Я позволяю себе рассчитывать на Ваше доброе сердце и думаю, что Вы сделаете мне удовольствие петь вместе с Вами в данный вечер. Письмо это передаст Вам милая барышня Дюльбюнчи, которая усиленно хлопочет о всем и пр.
Не откажите переговорить с нею подробно. Желаю Вам доброго здоровья и пользуюсь случаем высказать Вам мое восхищение Вашему дивному голосу и мастерскому пению».
Нежданова, Корещенко, хор студентов императорского Московского университета при императорской Московской консерватории под управлением И. Маныкина-Невструева приняли участие в концерте, но полного состава так и не удалось собрать в этот день. И Шаляпину пришлось в начале концерта выйти на сцену и сказать:
– Дамы и господа! К сожалению, концерт должен состояться не по программе. Многие из участвующих артистов заболели перед самым концертом. Я постараюсь их заменить.
Эти слова были встречены громом аплодисментов. На сцену посыпались цветы.
На следующий день газета «Русское слово» высоко оценила эту благотворительную акцию Шаляпина и Неждановой.
14 октября – премьера «Добрыни Никитича». Забаву исполняла Нежданова, Настасью – Салина, Алешу Поповича – Донской…
Как и предполагал Федор Иванович, отношение к премьере было более чем сдержанное. «Добрыня поет песню, в исполнение которой можно было, пожалуй, вложить больше смелой энергии, но г. Шаляпин и без того дал ей очень выразительные оттенки, – писал Н. Кашкин в «Московских ведомостях» 16 октября. – Среди исполнителей оперы необходимо прежде всего говорить о г. Шаляпине. Нельзя сказать, чтоб он был неудовлетворителен в Добрыне, но, кажется, он бы мог быть значительно лучше, если бы придал своему исполнению более бодрый и энергичный характер, уничтожив всякие следы вялости и тягучести».
17 октября – снова «Добрыня Никитич»; Шаляпин попробовал устранить «всякие следы вялости и тягучести», но из этого ничего хорошего не получилось. Разве можно уничтожить то, что органически присуще всей опере? Да и кругом говорили, что Добрыня Никитич у Гречанинова скорее напоминает доброго пахаря Микулу Селяниновича: «Зачем же воевать, когда можно землю пахать?» Доброта, наивность, недоумение в глазах. Можно, конечно, представить Добрыню живописным: дать копну рыжеватых волос, всклокоченную бороду, можно предстать перед зрителями этаким могучим деревенским мужиком, который бросает любимую и налаженную жизнь ради высоких целей служения своему Отечеству.
Добрыня – Шаляпин с наивным любопытством смотрит на то, как надевают на него бранные доспехи. Убор грозный, говорили ему, а на лице одно добродушие. Но он же должен играть то, что ему дали. Он же не может играть другого человека? Во время битвы со Змеем Горынычем Добрыня и ловок, и красив, и грозен, а как только битва закончилась, он снова стал мешковатым и наивным. Очутившись на придворном пиру у князя Владимира Красное Солнышко, он с удивлением смотрит на танцы балерин, смотрит на них как на нечто неземное и недоступное.
В былинах Добрыня предстает совсем другим – привычным к подвигам, к службе, к застольям у князя и ко всему тому быту, который здесь, в опере, постоянно его почему-то удивляет, и наивность его грез становится чуть ли не главной его характерностью, отличительной особенностью.
«Прав, конечно, Влас Дорошевич. В Добрыне и должно быть много простоты, но простота эта аристократическая, воеводская, а не мужицкая. И действительно, Гречанинов должен был назвать свою оперу не «Добрыней Никитичем», а «Микулой Селяниновичем». Я исполняю только то, что задумано и написано автором музыки и либретто. А либретто бесцветное. Таким языком мог бы говорить любой из богатырей. И тут совершенно прав Влас. Ничего интимного, индивидуального; говорит таким языком, как будто этот язык кем-то утвержден для богатырских разговоров: «Уж ты гой еси» да «уж ты гой еси». «Рученьки» да «ноженьки», авторы считают этих слов достаточно, чтобы перенести нас в богатырскую эпоху. А музыка? «Совсем как в деревне?» Гречанинов написал такую музыку. А что получилось? Добрыня поет самые деревенские песни. Но он же воевода, витязь, а не Микула, деревенский богатырь… И как же играть Добрыню как воеводу, а исполнять песни деревенские? Какая-то бессмыслица. У Добрыни душа не деревенская. И тут прав Влас Дорошевич…» И, несмотря на трудности, Федор Шаляпин на основании того материала, который ему дан и от которого отступить ему невозможно, создал дивный, превосходный, художественный образ добродушного могучего Микулы Селяниновича. «И не его вина, что Добрыня в опере «Добрыня» только в заглавии», – так писал Влас Дорошевич.
Много размышлял Федор Иванович над этими словами Власа Дорошевича, который все-таки сумел похвалить его исполнение, хотя по всему видно было, что опера Гречанинова не удержится в репертуаре и театра, и его, Федора Шаляпина. Провал оперы был очевиден. И никакие силы не смогут ее удержать в репертуаре. Зритель беспощаден, а дирекция, скорее всего, откажется от нее. Не везет операм про богатырей былинных. Несколько лет тому назад так же вот провалилась опера про Илью Муромца. Казалось бы, героические страницы русской истории, битвы с врагами, защита Отечества, а Ивана Сусанина того времени почему-то не получается. Конечно, талант Глинки уникален, ни с кем не сравнить из ныне живущих, только, может, Римский-Корсаков…
Незаметно Шаляпин в своих раздумьях коснулся и предстоящего исполнения партии Алеко. Дважды в этом сезоне он уже исполнял партию, исполнял успешно, так что вроде нет оснований для беспокойства, но на этот раз дирижировать будет Сергей Рахманинов, с которым они некогда разучивали партию. А требовательность автора оперы была общеизвестна. Да и Федору Ивановичу хотелось, чтобы друг остался доволен его исполнением. Вот и волнения…
Рахманинов и Шаляпин давно не виделись, а потому встреча их была теплой и радостной. Шаляпин знал, конечно, что Сергей Васильевич в апреле прошлого года женился на своей двоюродной сестре, что со свадьбой и венчанием были некоторые сложности, но сложности были преодолены: венчали их в церкви 6-го гренадерского полка, венчал их полковой священник, так как он подчинялся военным властям, а не Синоду. Однако во время венчания вынуждены были послать на имя государя прошение разрешить их брак. Только вернувшись домой, они узнали о полученном разрешении и резолюции государя: «Что Бог соединил, человек да не разлучает». И Рахманиновы уехали надолго за границу.
– А я впервые уехал за границу отдыхать, – вспомнил Шаляпин свою недавнюю поездку в Африку. – На пароходе! Здорово! Столько увидел интересного. А вообще-то год плохой у меня…
– Знаю, знаю, Федор. Читал в газетах да и многие наши общие друзья рассказывали о твоем горе, мы переживали за тебя, Иоле Игнатьевне передал мое и Наташино соболезнование.
– И не вспоминай. Как живой до сих пор стоит у меня перед глазами мой Гуленька, мой Игрушка…
– Ох, Федор, ты и не представляешь, как я понимаю тебя. В мае у меня родилась дочь. Счастлив я был безмерно, не знал, куда девать себя от счастья, ходил вокруг моих ненаглядных кругами, не зная, что же я должен делать для них. И тут началось неладное. То у Наташи поднялась температура, сильный жар и слабость. То доченька стала с каждым днем худеть; за пять с половиной недель жизни, вместо того чтобы прибавлять в весе, убавила полфунта, так что стала весить меньше, чем при рождении. Представляешь мою панику?
– Еще бы! Ночь, бывало, не спишь, а утром изволь быть на репетиции в хорошем настроении… Знаю, Сергей, знаю… Молока, видно, не хватало? Раз заболела мать, то это ж сразу сказывается на молоке.
– Теперь-то я грамотный, а три месяца тому назад терзался в догадках, пока местный врач не приказал прикармливать… А Наташа так хотела сама вскормить свою девочку, а когда увидела, что не получается, стала плакать. Говорю тебе, Федор, искренне и серьезно… Так все эти болячки я переживал, что у меня началось у самого что-то вроде неврастении, вернее всего ревматизм. Испытал просто ужас, когда заметил, что болезнь перешла на руки. Так что все лето занимался мало и неохотно. А сколько планировал сделать в это лето. Работал над симфонией – бросил, не то настроение. Взялся за оперу «Скупой рыцарь» – бросил, опять что-то не заладилось. Ну, думаю, возьмусь-ка за «Франческу да Римини», совсем немного требовалось поработать над ней – и тоже потерпел фиаско. Может, зима будет более благоприятна для работы, сейчас вроде бы наладились наши семейные отношения, теперь не так все внове, привыкаем друг к другу… Ужасное лето выдалось, Федор, а в августе еще десять дней проболел ангиной. Представляешь? А потом у моей девочки началась золотуха. А ты, я слышал, в новой опере выступал?
– Жалею, что согласился. В новых операх лучше не выступать, мало интересных. Твой «Алеко» да оперы Римского-Корсакова – вот и все, больше нечего играть и петь. Вот и гонишь одни и те же партии. Очень многого ожидаю от постановки «Псковитянки» в Мариинском; Теляковский обещает «Бориса Годунова» заново поставить в Большом. Вот тогда, может, оживу как артист… Попробовал я новый грим для Алеко, а потом отказался.
– И правильно сделал, Федор, нельзя сюда впутывать Пушкина. А ты не забыл те изменения в партии, которые мы с тобой согласовали?
– Свято придерживаюсь нашей с тобой договоренности. И все дирижеры тоже об этом знают. Как правило, они придерживаются твоего, авторского текста. А мне приходится все время поправлять их, усиливая динамизм и мелодическое движение партии.
– Никто, кроме тебя, не имеет такой привилегии. Нельзя менять то, что уже сделано, написано, плохо или хорошо – это другое дело. В то время я так думал. И в том, вчерашнем, ничего менять уже нельзя. Вспоминаю забавный случай. Ты говорил здесь о Мише Слонове, верном твоем спутнике в поездке по Африке. Мы тоже с ним дружим, ты это знаешь. Он как-то в одном концерте попросил меня аккомпанировать. Ну, ты знаешь, его вокальные возможности скромны, хотя он и очень музыкальный человек. Концерт был не в стенах консерватории, профессиональной публики почти не было; и он попросил меня в арии Игоря понизить на тон, предложил взять ноты для просмотра. Я из дурацкой гордости отказался, дескать, буду транспонировать с листа. И представляешь, совершенно забыл, что нужно сделать: и вместо того чтобы понизить, повысил тональность партии. Можешь себе представить, что почувствовал в этот миг Михаил Слонов.
И Рахманинов засмеялся до слез, а потом виновато потирал голову, словно стараясь этим привычным для него жестом показать всю степень своей ошибки.
Шаляпин тоже смеялся, глядя на развеселившегося Рахманинова. Только что вспоминали о своем горьком лете, тяжких переживаниях, творческих неудачах, которые не удалось преодолеть, и вот легкая шутка, воспоминание о славном друге, попавшем в комическое положение, разрядили тяжелое их душевное состояние, и они весело глядели друг на друга.
– Ты знаешь, он чуть не убил меня после концерта. А потом помирились и пошли в ресторан, где долго смеялись, вспоминая забавный случай. Так всегда бывает… Чаще всего драма такого рода превращается в фарс. Но, Федор, каватину мы должны повторить вместе. Я давно ведь не дирижировал оперой.
– Сергей! Самое главное, я вступаю со словами «а она» во время первого проведения на последней четверти предыдущего 59-го такта, на две четверти раньше, чем у тебя, но это не нарушает согласованности вокальной и оркестровой партии. Помнишь, я говорил тебе, что я чувствую эмоциональное состояние Алеко несколько иначе, чем у тебя написано. Уж будь добр, не забудь, мы ведь обо всем договорились еще несколько лет тому назад. Я хочу показать процесс переживаний Алеко, он не вспоминает, а все еще живет этими чувствами. Понимаешь? Его чувства будут правдивее, глубже…
– Понимаю, понимаю, Федор, эта вещь написана совсем юным композитором, еще не знавшим человеческого сердца. В опере есть затянутые паузы, а в этой каватине есть паузы общей длительностью в пять четвертей. Тут артист должен пассивно ожидать начало второго эпизода в то время, как Алеко – весь во власти бурных своих страстей. И если следовать моему тексту, то артист должен выжидать, а это неизбежно вносит вялость и рассудочность в его исполнение, сковывает его естественное развитие чувств. К тому же возникает противоречие между подъемом мелодической волны в оркестре и пассивностью вокальной партии. И этого мы с тобой избежали еще четыре года тому назад. Я был неопытным композитором, но менять уже ничего не буду. Где возможно, там ускорим темпы. Это в наших силах как дирижера и исполнителя. Ну, мы это сейчас пройдем с оркестром.
Друзья заняли свои места. Оркестр был уже в полном составе, артисты – на сцене. Репетиция началась…
Л. Лебединский в статье «Певец и композиторы» дал превосходный анализ творческого отношения Федора Шаляпина к исполняемой им музыке; в частности, и в каватину Алеко Федор Иванович внес несколько существенных изменений, которые позволили ему сыграть этот образ более глубоким и психологически достоверным. «Конечно, изменения, вносимые Шаляпиным в вокальную партию, чаще всего связаны с его индивидуальным отношением к образу или же с большим эмоционально-психологическим наполнением отдельных эпизодов. Так, если у Рахманинова в фразе «Земфира! Как она любила» Алеко произносит столь дорогое ему имя, пользуясь двумя различными звуками (до, ми, до), то Шаляпину понадобилось тут три различных звука (соль, ми, до) в нисходящем движении, причем их длительность посредством фермат более чем в два раза превышает указанную в нотах, совершенно ясно, что композитор трактует этот момент эмоционально более сдержанно, как начало воспоминания, в то время как в трактовке певца Алеко уже во власти нахлынувшего чувства».
Вскоре после успешного выступления в опере «Алеко» под управлением Сергея Рахманинова Федор Иванович отправился в Петербург, где уже 21 октября исполнял партию Ивана Сусанина. Но главным событием этой поездки в Петербург должно было быть его участие в «Псковитянке»: еще ни разу Шаляпин не пел партию Ивана Грозного на сцене Мариинского театра. На репетициях присутствовал автор, вел репетиции сам Направник, в опере были заняты ведущие артисты театра. И вообще весь театр, весь музыкальный мир Петербурга очень многого ждал от постановки «Псковитянки» с участием Шаляпина: билеты на премьеру были уже распроданы.
25 октября на генеральной репетиции «Псковитянки» присутствовал Римский-Корсаков и его верный спутник Василий Васильевич Ястребцев, записавший некоторые подробности и детали происходившего на ней.
30 октября «Санкт-Петербургские ведомости» отмечали выдающийся успех Шаляпина в опере Римского-Корсакова: «Героем спектакля явился, конечно, г. Шаляпин. Он как-то отодвинул на второй план интерес бенефиса и автора, хотя и поклонился последнему в пояс, когда выходил с ним раскланиваться на многочисленные вызовы. Его Иоанн Грозный ошеломляет, как нечто невиданное и неслыханное на оперной сцене, где все так тяготеет к рутине… Его Грозный притом верен истории, до малейших изгибов этой души, соединявшей болезненную жестокость со страстным стремлением к правде… Одну только правду молят его воспаленные, безумные уста, обращенные к Ольге, которая пришла к нему в царскую ставку излить свою душу. Здесь во всей фигуре артиста сказывается такая страстная мольба, такое отчаяние, которое казалось невозможным на оперной сцене, все же связанной с известными условностями! Затем эта глубокая любовь к дочери, проявляющаяся во всей силе, когда Грозный рыдает над ее трупом и читает затем Апокалипсис! Открыть в злодее человеческие черты, указать, что в сердце Грозного были моменты просветления, когда он становился достоин любви, это – большая заслуга г. Шаляпина… Это отыскание «искры человеческой» даже в злой и мрачной душе роднит его с Достоевским».
В тот же день, 30 октября, у Глазунова состоялся музыкальный вечер, на котором среди многочисленных друзей и посетителей конечно же был Владимир Васильевич Стасов, как всегда, бодрый, энергичный, полный всевозможных сведений о музыкальной, литературной и вообще культурной жизни не только Петербурга, но и всей России и Европы. Все в том же русском наряде – темной рубахе с широкими рукавами, подпоясанной вязаным кушаком, в шароварах, чуть-чуть спускающихся, прямо-таки по-запорожски, над высокими сапогами на каблуках. Только на голове поредели волосы да борода стала подлиннее. А так – никаких перемен… Шаляпина он встретил широкими объятиями и упреками:
– Забывать стал старика, Федор Иванович, забывать… Сколько уж мы не виделись. Знаю, знаю о твоем горе, соболезную еще раз, телеграмму я посылал, но разве этим горю такому поможешь… Ох, милый Федор Иванович, столько тревог, горя, волнений постоянно гнетет человека… Чуть ли не в каждой семье непременно умирает ребенок. Вот у Льва Толстого, на что уж семья благополучная, обеспеченная, хозяйка замечательная, а дети умирают и в этой семье… Ну, не буду. – Владимир Васильевич понял, что эту тему продолжать больше не следует: на глазах у Федора Ивановича показались слезы. – Ох и лето выдалось у меня беспутное, – продолжал Владимир Васильевич, добравшись до благодарного слушателя, который, видимо, уже к позднему вечеру успел выговориться где-то и терпеливо слушал обрушившийся на него гром всяческих высказываний, мыслей, новостей. – Все лето занимался не тем, к чему душа лежала. Думаешь сделать одно, а приходится совсем другое, чаще всего нелюбимое…
– А как себя чувствуете, Владимир Васильевич? – спросил Шаляпин.
– Какое здоровье? 79 лет… Весной совсем было плохо, и все по чистой случайности. Провожал поздно вечером одну знакомую даму, электричество уже выключили, швейцар ушел к себе под лестницу, полагая, что гости все разошлись. Я зажег свечку, пошел провожать на лестницу, но по дороге зацепился за ковер и рухнул, больно ударившись об угол большой резной скамейки. Удар был настолько сильным, что я закричал благим матом. Ну, ясно, переполох, приволокли меня на мой диван. Начались компрессы, мазь, нога забинтована, а когда дело пошло на поправку, начались головные боли, которых не было у меня почти целый год. И пошли такие боли, такие внезапные, неожиданные, такие мучительные, что я уж думал – пришел мой конец. Доктора говорят, что все неблагоприятное в моем организме от переутомления мозга, от большой и постоянно непомерной работы. И ведь правду говорят доктора: всю осень и зиму я почти постоянно сидел до трех часов ночи, а утром – на службу… Немудрено и надорваться. Весна и лето, дача и зелень, побольше отдыха, починили мое старое тело…
– Глядя на вас, Владимир Васильевич, вовсе и не подумаешь, что вы можете болеть и отдыхать. Мощь, напор все еще заметнее всего в вашей фигуре. – Шаляпин с любовью смотрел на пылавшего ярким пламенем Стасова, явно соскучившегося по любимому артисту.
– Главное событие, Федор Иванович, произошло совсем недавно: после своего 75-летия Лев Николаевич Толстой пригласил меня в Ясную Поляну. Провел я там три потрясающих дня, до сих пор не могу прийти в себя от впечатлений.
– В прошлом же году он чуть не умирал? Мы с Горьким навещали его, но он даже не вышел к нам, настолько был болен.
– Нет, он – здоров, храбр и бодр, как никогда, мне кажется, прежде. Когда я заговорил о болезни прошлогодней, он кратко бросил: «Пожар помог украшению Москвы!» Каково? А как только мы приехали, сели за стол, все Толстые как раз обедали, он чуть ли не сразу заговорил про свой юбилей 28 августа, сказал, как утомили его все эти двести телеграмм со всех краев света: «Почти все одно и то же, «великий писатель земли Русской», «великий писатель земли Русской», «земли Русской, земли Русской, земли Русской». Да и только, все в один шаг и одно копыто. Как надоело! Надо же было Тургеневу выпустить этакое слово в публику. Вот и пошли все наперегонки повторять одно и то же. Как не надоест всем!»… Я тут же возразил, Тургенев прав, он попал в общую мысль и выразил общее чувство… Ох, Федор