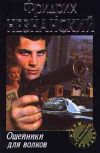Читать книгу "Змееед"

Автор книги: Виктор Суворов
Жанр: Историческая литература, Современная проза
Возрастные ограничения: 18+
сообщить о неприемлемом содержимом
– Врешь, дед! Ты же надеешься дожить до момента, когда эту власть резать будут. Что ж, у тебя на тот случай даже револьвера нет?
– Ружьишком обойдусь.
– Врешь, дед!
– Револьвер – баловство. Если ружьишка не хватит, так я их пулеметом.
– Ну вот, заговорил. Пулемет. С пулеметом мне завтра на танцы несподручно. Но дай мне пулемет, я как-нибудь с пулеметом.
– Нет, девка, с пулеметом тебя завтра повяжут, пулемет отнимут, а мне что останется? Всю жизнь жду… Как же я тогда без пулемета? Иди спать.
Забралась она на чердак, расстелила на сене душистом одеяло, укрылась другим, лежит, в темноту смотрит. Завтра на танцы она идет. Это решено. Как славно под «Амурские волны» выплясывать. Как очаровательно быть центром внимания в этой милой провинции, где нравы столь первобытно просты и не искажены притворством. А пулемет бы в кустах заранее спрятать. Чуть что – вжик их всех из пулемета, и дальше пляши. Чертов дед, где же он пулемет прячет? Весь сад перерой – не найдешь. Уж прятал так, чтоб и чекисты не нашли. Понятно, что ей и пытаться нечего тот пулемет искать. Хрыч старый, сам на танцах не пляшет и людям пулемета не дает.
Покрутилась-покрутилась – не спится. Встала, свет засветила. Хорошо на чердаке. Жаль, луны в окне нет. Ночи почти сентябрьские. Вызвездило небо, а по низам темнотища. Книжку бы какую почитать. Чердак у деда всяким добром завален. Есть тут и книжки. Правда, малоинтересные: какой-то Гудериан, «Внимание, танки!», опять же Гудериан, «Танки – вперед!», Москва, Воениздат, 1935 год. Или вот совсем новенький «Полевой устав РККА 1936 года». ПУ-36. И на черта конотопскому деду Гудериан? И что он в ПУ-36 вычитать может?
С другой стороны, почему бы и не почитать? Вот зависти будет у соперниц, когда в тесном кругу друзей на память ПУ-36 перескажет!
4
Ночь к рассвету, а она страницами шелестит. Занимательная книженция. Уж под утро загрохотал дед железяками во дворе, перекинулся шуткой с подкатившим шофером, и унесло деда по его делам, которые нам совсем не интересны. Тогда и решила она пулемет искать.
Искала – не нашла. А жаль. И вопрос на повестке дня: что делать? Ах как поплясать вечером хочется. Хоть бы три часика, не больше. Ну хоть часок! Хоть танец один, самый-самый пристойный. Ну хоть бы одним глазочком на танцы глянуть. А возвращаться как? Без пулемета? Хорошо, вчера драка выручила. Можно надеяться и сегодня на драку. Но если нет, тогда как? Ведь бывают же исключительные дни, когда в конотопском парке драки нет. Что если такой день и выпадет?
Осмотрела весь чердак в поисках чего-нибудь, что пулемету заменой могло бы служить. Добра, повторюсь, на чердаке том предостаточно. Вот, к примеру, старинные часы-ходики. Чем не оружие! Лежат часы в пыли, кукушечка вся давно проржавела и в домике ее паук-кровосос поселился. Не кукует больше кукушечка: знать, паук-злодей всю ее кровушку вылакал. Знакомая тактика – многие так поступают: написал донос на соседа и отправил его куда следует. Постучат ночью товарищи, шею соседу свернут, а домик свободен, забирайся туда, как паук-мухоед.
Впрочем, кукушкино гнездышко нашу девочку мало занимало. Гирька на цепочке – вот что интересно. Расклепала цепочку щипчиками. Взвесила гирьку в руке – свинец литой. Граммов на четыреста тянет. Прикинула, как гирька на цепочке смотрится. Красиво смотрится. А вот если не цепочку, а тот ремешок кожаный сыромятный в ушко продеть? Помяла ремешок, в масле подсолнечном вымочила, еще размяла, высушила, в ушко свинцовой гирьки продела, двумя узелками прихватила. Покрутила гирьку на ремешке, вспомнила знаменитых гимнасток, которые со скакалочками и прочими штуками на ковре выплясывают под гром аплодисментов. А потом вспомнила, что всю ночь не спала. Рада бы и не спать, но к вечеру ей свежей быть надо. И потому вытянулась на душистом сене, улыбнулась сама себе, да так с улыбкой и уснула. А уж солнце взошло и крышу раскалило, жара на чердаке, а в жаре самый сон непросыпный. Разбросалась, разметалась девочка в наготе очаровательной. Вот если бы в тот момент на том чердаке оказался бы какой знаменитый Гойя с кистями да с красками, увековечил бы. Но не оказалось в тот момент на чердаке ни холста, ни кистей, ни красок, ни самого Гойи, и потому мне вместо него выпало картину описывать. Но сказано: лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Как словами опишешь то, на что взирать надо? Я и не описываю. На слово верьте – было на что посмотреть.
5
Она спала глубоко и спокойно. Снился ей старый добрый британский ручной пулемет. «Льюис». 1914-го года.
47 патронов в диске… В Гражданскую войну вон их сколько навезли. Не все ведь погибли. Не все конфискованы. Народ у нас бережливый. Не пропадать же добру… Кто-то где-то прячет… а как найти?
А еще снился ей конотопский парк. И танцы. И музыку слышала во сне. Вальс. «Дунайские волны».
Счастлив тот, кто музыку во сне слышит.
Испугалась: не проспала ли танцы? Встряхнулась-встрепенулась, из липкой непросыпной тьмы вырвалась в явь чердачную. Видит: солнце к закату. Слышит: за стеной кирпичной танго точно труба фабричная ревет, пролетариев вроде на дела праведные созывает. Схватилась она и давай умываться-причесываться. Час только и прошел. Ну, если не час, то от силы полтора часа, а она уж и готова. В лучшем виде: чулки черные, юбка черная, свитер легонький, черный, на шее косынка шелка азиатского. Черной не оказалось, потому синяя. Темно-синяя. На сегодня решила без каблуков. Стиль сегодня другой.
Подивился дед: штой-то ты, девка, в черном. Не на похороны ли? Смешно деду. А она и вправду на смерть в черное нарядилась: если за вечер танцев надо жизнью платить – заплатит. Жизнь без танцев – все равно не жизнь. Кому такая жизнь нужна? Поцеловала деда в щетину колючую троекратно, сумку черную – на плечо.
И пошла.
6
Гремит парк революцией патефонной. И морды по аллеям. И мусор Васька с цигаркой. Может, со вчерашнего дня та самая цигарка на губе и прилепилась. И не поймешь: блатной в мусора суканулся или мусор под блатного хляет. Идет она парком и пока не боится. Морды все знакомые. Не старалась она морды те запоминать и клички. Но до того народ живописный: хотела бы харю звериную забыть и кличку ее, но не забудешь вовек.
Вот и Аспид. Вот и Ящер. Вот мелкая шпана шелухой вокруг: Минька Гондон, Баклан Соловьевич, Жмот Тугосисий и сопливый такой корешок белоглазый по кличке Срань Тропическая. Всех их она вчера одним взглядом схватила, в память свою каждого отдельно как букашечку в коллекцию занесла, предварительно на булавочку наколов.
Не старалась, но помнит всех и улыбается всем: привет, Аспид! Ящеру – пламенный!
Нехорошо Ящер глянул, на приветствия не ответил. Ощерились шпанистые. Ну и ладно.
Танцует она в удовольствие свое. Час, и другой, и третий. Хватилась только, когда далеко за полночь прощальный вальс объявили. И опять «Амурские волны» парк качнули. Бьют людей по парку там и тут, а драки большой нет. Вот тут ей первый раз страшно стало. До того страшно, что и вальс заключительный танцевать не хочется. Вышла на аллею и, одинокая, домой пошла. Миновала ворота освещенные, во мрак окунулась. Далеко-далеко фонарик мерцает. Собака воет. Ночь – глаза выколи. Прохладой осени дохнуло. Глаза понемногу к темноте попривыкли. Никого позади. И вроде идут. Прибавила шагу. Слышит: те тоже поприбавили.
Оглядываться совсем нехорошо в такой ситуации.
Не оглядывается. Просто слышит: их – пятеро-шестеро. Хотелось бы рвануть жар-птицей в поднебесье. В страшных снах она всегда так и делала: чуть какая опасность – р-р-раз на крыльях, и улетела. Но не во сне она. И крыльев нет. А ногам своим непослушным привередливым командует, чтоб не неслись так быстро. Понимает: это как от собак бежать, побежишь – и они побегут. Только быстрее.
Миновала первый поворот, а до второго за целую вечность не доскачешь. Стенка кирпичная вдоль широченной улицы к самому горизонту невидимому подступается. По другой стороне улицы – заборы в два роста, и дома за заборами темные, мертвые, собаки за теми заборами зубищами лязгают.
Идет она и идет. Те позади ожили – шуточки, смешочки, а то как гаркнут голосищем страшным, и хохочут точно гиены в Африке. Уж не знает она, как до угла следующего добраться. Идет-идет, а он не движется навстречу.
Наконец вырисовался угол во мраке, а те позади вроде бы отстали. Так ей хочется рвануть за угол этот желанный, уж так хочется. И момент самый подходящий: отстали. И вдруг поняла она, что в западне. Там-то за углом ее и ждут. Оттого и отстали задние, чтоб она за угол рванула, чтоб, значит, тем, кто за углом, в лапы самые угодила. И уж знает она наперед, кто там, за углом. Ящер – вот кто. Ему такую кличку за глаза змеиные немигающие дали. И блатной мусор Васька с ним. А сзади отстали – это Аспид с придворной шпаной. Они в западню ее гонят. Не наседая.
Сдавило ее голову обручем железным. Пулемет бы ей. «Льюис». Жаль, он со снаряженным магазином 17 килограммов весит. Его под полой не скроешь. Револьверчик бы самый захудалый… Но и его нет.
Дальше она повиновалась не разуму. Дальше она действовала вроде солдатика заводного: пружинка железная, а голова деревянная, не думающая. Повернула она круто назад и к тем, отставшим, навстречу пошла. Нет, не от храбрости. От страха. Туда идти – хоть знаешь, чего ждать, а как за угол кирпичный завернуть, в неизвестность жуткую?
Не поняли пятеро маневра ее. Остановились – ждут, когда подойдет.
Подошла.
– Жаль, мальчики, что вас пятеро, если бы двое-трое, так я бы и добровольно согласилась.
– Гы, – ответили мальчики.
Звериным чутьем понимает она, что сказать надо еще что-то такое, на что они бы не лапы к ней потянули, а промычали бы: «Гы». Сказала она им такое, и ответили они дружно.
А гирька свинцовая от часов-ходиков на сыромятном ремешке уж не в сумочке, а в ладони зажата, а ремешок на кисть руки петелькой накинут. Заговорила она, а сама ладонь разжала. Скользнула гирька к ногам, на ремешке у самой земли покачивается, и не замечена никем.
– Решили, кто первым будет? Ты что ли, Аспид?
– Гы, – ответил Аспид.
Рванулась она к нему тигрицей уссурийской. Правое плечо и рука далеко позади. Падая вперед, рубанула словно топором. Руку ее чуть из плеча не вынесло. Свистнуло над нею: не то сабля, не то молния черная. Обожгло Аспида по щеке, по шее, по спине. Вроде ятаганом турецким или проводом стальным раскаленным огненным хлестнуло его, пиджак с рубахой бритвой вспоров, а сзади вроде кто в тот же момент по позвонку с ребрами кувалдой врезал. Звякнуло-булькнуло внутри. Взвопил Аспид, захлебнулся: в горле вроде горячий камчатский гейзер ударил. Дернула она ту штуку на себя, ухо правое Аспиду обрывая, и вроде бы всю его тушу на себя двинув. Подкосились Аспидовы ноги, грохнулся он мордой вперед, закрутило его, заломало, машет ногами, зубами пыль дорожную куснуть норовит.
Махнула она своей не то саблею, не то черт его знает чем, а лиц-то перед нею и нет. Шарахнулись преследователи в разные стороны, словно гуси-лебеди от лисы прыгнувшей, крылами округу всполошив. Только спины в темноте. Тут она и врубила по чьей-то. Хрястнуло-треснуло в той спине. И непонятное свершилось: врезала по спине, а отдалось в ногах. Подломились оба колена разом, и тело без воплей и криков в дорогу врезалась, вроде паровоз с рельс слетел.
Отскочила она в сторону, повалилась на дорогу, замерла. Вылетают из-за угла двое.
– Аспид! Аспид! Твою мать! Где она?
Прижалась она к земле. Лежит в колее глубокой, не шелохнется. Голову косынкой накрыла. Не зря во все черное наряжалась. С понятием. Пойди заметь. Жаль, перчаток на руках нет. Ничего, руки под себя спрятать… Жаль, в кусты не прыгнула. Затаилась прямо на дороге.
– Васька, свети по кустам!
Полоснул Васька-мусор лучом по кустам, полез медведем ветки ломать: да где ж она, мать ее!
Лежит она прямо посреди дороги немощеной. Влипла в пыль, втиснулась в колею. Вот сейчас фонарик полоснет по лицу, и взовьется она коброй иранской. Тут уж бить надо насмерть. Не через плечо. А прямо по голове. Гирькой свинцовой. На ремешке сыромятном.
– Ящер! Нет никого!
– Невидимая?
– Как сквозь землю.
– Аспида поднимай!
– Аспид, чем она тебя?
– Блю-блю, – Аспид горлом клокочет.
– Где эти шестерки подлые? Разбежались? Впятером с одной ссыкухой справиться не могли? Ну я ее завтра поймаю. Ноги-то выдеру.
Лежит она в пыли, совсем рядом Аспид горлом булькает. Второй, которого она прижарила, отходить начал, стонет-всхлипывает. Васька-мусор все кусты вокруг обшарил, матерится.
– Васька, шестерок собирай!
– Пошли, Ящер, вдвоем. Она, ведьма, из темноты сейчас выскочит-выпрыгнет, саблей изрубит.
– Схлюздил, мусор? Дрогнула душа фраерская?
– Да нет, Ящер, я чтоб с тобой рядом…
Свистнул Ящер посвистом соловьиным, аж в ушах заломило. Отозвался из темноты пересвист.
– Пошли, хлюздопер! Как до лягавки своей добредешь, красный крест вызывай, а то Аспид кочернуться может, а Мясистый вон землю жрет. Чем же она их так изукрасила?
Пошли Ящер с Васькой-мусором обратной дорогой, из темноты ватага вокруг них собирается, растет тучей грозовой. Тут бы девочке нашей тенью неслышной к заборам прижаться, да кустами домой бы. Но нет. Закрыла все лицо косынкой темной, гирьку на ремешке в кулаке зажала и неслышным привидением скользнула за Ящеровой шайкой.
7
Собралось шпаны табун целый. Туда повернули, сюда. Идет табун как орда Мамаева, крушит все на пути своем: скамейки через заборы мечет, урны чугунные в осколки дробит. В тихом городе черти водятся, и по ночам силы зла господствуют безраздельно. Один фонарь над Конотопом горел – и тот потушили, вместе со столбом из земли выдернув. А городочек привычен: попритих, окошечки ставнями позакрыл, свет вырубил, мертвым прикидывается. Ни звука, ни огонечка. Только стонет эхо разгульное в переулочках, только воет ветер по железным крышам, только лязгают псы цепные зубищами за заборами неперелазными, только бухает дверь в брошенном доме, где вчера семью вырезали, где некому дверь ту прикрыть.
Прет табун шпаны путем неисповедимым. Куда повернет? Влево? Вправо? Повернули веселые ребята влево. Повернули вправо. Ларек табачный ковырнули, пошел над табуном дым клубами. Встретился прохожий случайный, сбросились по кулачку, морду набили. Потом занесло весь рой снова в городской парк. В парке все как прежде, только свет уж давно вырублен и на центральной аллее, и на танцплощадке. Понесло орду по темным дорожкам, в один конец, в другой, пока не угнездились все на детской площадке. Ваську-мусора на стремя поставили, хотя бояться тут некого. Появилась откуда-то жидкость бодрящая. Пошли бутылки по кругу. Ящер совет держит.
– Так чем она Аспида приголубила?
– Саблей!
– Брось, падла, врать! Откуда у нее сабля?
– Нет, то не сабля, то был американский электрический мордобойник. На кнопочку нажал и… Мой брат в загранке был, там, говорит, у каждого свой персональный мордобойник есть!
– Брось трепать, сопливый. Лучше расскажи, кто она такая, откуда появляется.
– Этого, Ящер, не знаю.
– Я знаю.
– Говори, Жабец.
– Соседка моя. К деду Макару в гости приканала.
– Ну что, олени, спалим дом?
– Брось, Ящер. С дедом Макаром лучше не связываться. Гадом буду, у него пулемет в доме есть. У него половина Конотопа в друзьях, а другую половину перестреляет.
– Так мы ж его в доме сожжем вместе с его ссыкухой.
– Нет, Ящер, дед Макар не горит. Он из огня как змей выползет, тебя найдет и ноги выдернет.
– Как он меня найдет?
– Без проблем. Поймает любого хлюздопера, пометелит, тот и расколется до самой дупы.
– Дело говоришь, Муравьятник. Хлюздоперов у нас развелось как крыс на зоне. Сегодня эта ссыкуха чем-то молотила Аспида и Мясистого, а с ними еще трое было. Им бы усечь, чем она машет, так нет же – разбежались. Давай их всех сюда, потолкуем.
Лежит она в траве так близко от Ящера, что слышно, как он зубами скрипит.
– Ну что, огольцы, делать с хлюздоперами будем?
– Бутылки на головах бить!
– Соберем все скамейки парка, перевернем вверх ножками и будем этих красавцев раскачивать да на скамейки бросать!
– Свяжем, положим на землю и с детской горки на них прыгать будем, пока каблуками ребра не переломаем!
Были у обвинителей предложения и более радикальные: схлюздили – пусть ответ держат.
Тут надо отметить, что в любой группе есть люди преуспевающие, уважаемые, и есть – не очень успевающие, не очень уважаемые. Вот те, которые не очень, – те всегда самые злые, самые ревностные блюстители законов и правил. Это точно как в Союзе советских писателей. Есть писатели маститые, талантливые, уважаемые. А есть шпана писательская, шушера, ничего кроме доносов сочинять не способная. Так вот эта писательская шпана и есть самая жестокая, самая кровожадная часть писательского сословия. Отъявленные бездарности являются самыми рьяными борцами за чистоту нравов. Союз писателей СССР, как известно, был организован на манер банды, и царила там все та же уголовная этика, потому сцена в конотопском парке живо походила на разбор персональных дел на пленуме правления Совписа. Только оргвыводы строже.
Вынесли решение. Выполнили его. Долго смеялись. Допили что было. Понемногу табун распадаться стал. Решено было дом деда Макара не жечь, а поймать завтра на танцах ссыкуху шестнадцатилетнюю и наказать по всей строгости конотопских нравов.
Откололась от кодлы кодлочка и пошла с песнями в одну сторону. Откололась другая кодлочка, пошла в другую сторону. Тает орда, расплывается, разбредается. Вот и один совсем Ящер остался.
Но это только так ему чудится.
Глава 3
1
Не дай бог свинье рогов, а холопу барства.
Генриху Григорьевичу Ягоде дал бог и барства, и рогов. Не в том смысле, что жена ему ветвистые наставила. Про то я не осведомлен. Может, и было что, но мне не докладывали. Я про другой рог. Был Неистовый Генрих когда-то тихой мелкой зверюшкой. Вроде хорька. В аптеке дальнего родственника за конторкой стоял, принимал рецепты, микстуры по стеклянным баночкам разливал, ярлычки клеил. А стал зверем многотонным, шкура непрогрызаемая, как броня на крейсере, а оружие его – тяжелый рог НКВД, которым брюхо можно пороть кому вздумаешь: хоть льву хвостатому, хоть крокодилу пресноводному. Стоит такая животина по колено в болоте, жует лопухи африканские, лениво по сторонам поглядывает, от мух жмурится, хвостиком помахивает, потом как взбесится – и понесся. Вот тут уж берегись! Лети с дороги птица! Зверь с дороги уходи! Зашибет!
Генрих Григорьевич Ягода – Карающий Меч Революции.
Ох, много он врагов извел. Счет на миллионы. Одних только мужиков во время коллективизации в тайгу да в голые степи двадцать миллионов вывез. Чтоб все там на морозе передохли! А 27 мая прошлого, 1935 года подписал Железный Генрих приказ НКВД № 00192. Два ноля, с которых начинается номер, означают, что документ имеет гриф «Совершенно секретно». У документов с грифом «Секретно» впереди один только нолик. Приказ от 27 мая требовал образовать «тройки» во всех районах, областях, республиках. В составе «тройки» самого низшего уровня – районный партийный секретарь, прокурор и начальник райотдела НКВД. Тот же состав и на всех остальных этажах власти в областях и республиках, только там начальники рангом выше.
Наши родные пролетарские суды так и продолжают вершить свое правое дело. А кроме того, помимо судов, врагов в лагеря направляют «тройки». Им в соответствии с приказом № 00192 предоставлено право сажать сроком до пяти лет. Им не нужно никакого суда, никаких адвокатов, им незачем вызывать подсудимого, вопросы задавать, ответы выслушивать, что-то выяснять. Все стало проще: собрались три начальника, выпили, закусили, список подписали – и гудят паровозы, и везут в телячьих вагонах провинившихся в тайгу да на крайний север. Вот и вкалывай, родной, на лесоповале или на никелевых рудниках.
Пять лет, правда, маловато. А с другой стороны, ведь не каждый способен оттянуть пять лет на золотых приисках Дальстроя. Кроме того, кто мешает потом еще пятерочку накинуть, и еще?
Долго Железный Генрих на верхах идею «троек» пробивал. Пробил, понимая, что задавать тон во всех сотнях и тысячах «троек» будут люди из НКВД – его люди!
Так ведь это только начало – давать пять лет лагерей без суда и следствия, давать, не глядя на подсудимого, не разговаривая с ним, давать не персонально, не человеку, на тебя смотрящему, глазами моргающему, а бездушному списку любого размера. Дальше и десять лет пробьем, и двадцать пять, да и высшую меру тоже. Добьется Генрих того, что любая районная тройка будет сама подписывать расстрельные списки. Не всё сразу. Дай срок.
Ласков с друзьями Железный Генрих, страшен врагам. Тот, кто ближе к лику его, тот обильно величием и лаврами наделен. На том отраженным светом слава Генриха играет-переливается. Холуйство великое вокруг себя Генрих учинил. Скажи кому: да вы-то знаете, кто я такой? Да я советник помощника заместителя! Да над нами сам Генрих Григорьевич!
Тут уж – шапки долой! И вопросик ласково-восхищенный: и самого встречали? И ответ небрежно-снисходительный: случалось.
Несется, бывало, Генрих по Москве в открытом «Линкольне», мотоциклетки стаей вокруг, словно рыбки-лоцманы возле акульего брюха. Несется Генрих по Москве – постовые в свисточки свистят, полосатыми палками велят всему московскому люду на месте застыть-замереть да смирно ждать пока под переливистый вой сирен с гиком и посвистом не пронесется мимо стальная кавалькада.
Гайдуки на мотоциклетках, того и гляди, с хлыстами ездить начнут, щелкать ими словно укротители, да черни орать: пади!
А сирены тогда вовсе не такие были, как сейчас. Сейчас-то наука вон каких высот достигла! Звуковой сигнал спецмашины теперь нежный, слух ласкающий. Плывет большой начальник по Москве, шинами шурша, синими огнями сверкая, малиновым звучанием слух граждан услаждая. Любо-дорого посмотреть да послушать. Но во времена, о коих речь, сирены были рычаще-квакающими, ухо рвущими.
Сам Генрих Григорьевич – на заднем сидение утопает. Всегда один. Всегда задумчив. На нем мундир пепельный тончайшей шерсти шотландской, в синих петлицах – звезды первой величины. На челе – дума великая.
Донесли про нововведения Народного комиссара внутренних дел Украины комиссара Государственной безопасности первого ранга товарища Балицкого Всеволода Аполлоныча. Приехал означенный Всеволод на ДнепроГЭС непорядок высматривать. Полюбовался турбинами, из Америки доставленными, довольным остался. Трансформаторы поют-гудят – тоже вроде вредительством не пахнет. Потом узрел толстенный американский кабель и вовсе в восторг пришел. Приказал отрезать полметра. Повертел в руках: ни дать, ни взять – колбасина резиновая. А внутри медный жгут. Хрястнул той кобасиной по ящику деревянному с вражеской надписью «Made in USA», полетели клочки по закоулочкам. Совсем хорошо стало товарищу Балицкому. Тут же повелел огромную катушку размотать, на куски порезать, а из Америки новых катушек выписать. Теми орудиями меднорезиновыми и вооружил товарищ Балицкий милицию Украины.
Так что, споткнувшись в повествовании о резиновые палки, коими мусора в конотопском парке помахивали, не упрекайте меня в незнании предмета, не уличайте в невежестве и преувеличениях. Ничего я не выдумал, ничего не напутал. Рассказываю точно так, как было, ничего от себя не добавляя, ничего не выдумывая. Сомнения в точности и правдивости описания могли возникнуть просто потому, что у моего народа память короткая. Мой народ помнит, что резиновыми успокоителями милицию вооружил товарищ Хрущёв в июле 1962 года. А ведь хрущёвские палки – это всего лишь второе пришествие. А первопроходцем был товарищ Балицкий, на десятилетия почин Никиты опередивший.
Палки те потом отменили, но только после того, как выяснилось, что продажный мерзавец Балицкий – враг народа и британский шпион. Но это случится в следующем 1937 году. А у нас речь о 1936-м годе, когда кабель ДнепроГЭСа в воспитательных целях использовался очень даже широко. В те времена в великом и могучем языке даже глагол особый появился – «дрыновать», то есть охаживать дрыном массы народные.
Летят мимо товарища Ягоды кварталы московские, дума покоя не дает: не распространить ли великий почин Балицкого на всю страну великую, от края и до края?
Неплохо бы, да только не повернули бы злопыхатели и завистники блистательную идею против самого Генриха.
Не знаешь ведь, как слово твое отзовется. Не ведаешь, каким боком тайные недруги наизнанку вывернут, каким манером великую идею извратят, испоганят, против тебя же выставят. Много у Железного Генриха скрытых недоброжелателей. Вот звонил вчера Колька Ежов, мелкий такой человечишка, секретаришка из Центрального Комитета, требовал протоколы допросов и очных ставок Зиновьева, Каменева, Смирнова и всяких прочих. Ишь, вздумал!
В дела НКВД нос совать! Железный Генрих секретарю своему Буланову Павлу Петровичу, махнув рукой, разрешил нехотя: дай уж что-нибудь этому заморышу, пусть отстанет. Чем бы дитя ни тешилось… Эх, подшутить бы над этим заморышем Колькой Ежовым! Вот вчера в кремлевском коридоре встретил Железный Генрих своего давнего противника товарища Томского Михаила Павловича, бывшего члена Политбюро, бывшего полновластного повелителя и хозяина всего Туркестана, да и пошутил:
– А вас, Михал Палыч, еще не арестовали? Странно.
А мои ребята по вам работают.
Сегодня утром доложили: застрелился товарищ Томский.
Есть порода людей, которые шуток совсем не понимают.
2
В 1922 году на самом верху семеро их было: Ленин, Троцкий, Зиновьев, Каменев, Сталин, Бухарин, Пятаков.
К тому времени уже пророс и расцвел буйным цветом культ личности товарища Ленина. Но сам он, официально обожаемый и обожествляемый, был изолирован от всего мира и отстранен от власти. Это чтобы его драгоценное здоровье поберечь. Товарищ Сталин так повернул дело, что Центральный Комитет обязал именно его покой дорогого Владимира Ильича блюсти.
И товарищ Сталин, повинуясь решению партии, блюл. Или блюдил. Уж не знаю, как тут выразиться.
Ради сохранения бесценного здоровья товарища Ленина сталинские врачи запретили дорогому Ильичу любые встречи, кроме встреч со Сталиным. Ленину не давали ни книг, ни газет. Чтобы не волновался лишний раз, вникая в наши победы и свершения. Писать Ленин уже не мог. Правая рука и правая нога парализованы. Отчего парализованы, говорить тогда было не принято. А зря – молодому поколению была бы наука: с дорогого Ильича пример не берите, иначе не только руки-ноги паралич расшибет, но и нос провалится.
Товарищ Сталин, будь его воля, вообще все контакты Ленина с внешним миром перерезал бы. Но все перекрыть не вышло. Не было тогда еще у товарища Сталина силы такой. Ленину разрешали диктовать пять, от силы десять минут в день.
И он продиктовал «Письмо к съезду».
Ленина товарищ Сталин обложил как медведя в берлоге. Но не досмотрел самую малость. Не доглядел. Упустил.
И содержание письма стало известно руководящим товарищам по верхам партии. В этом письме Ленин дал характеристики вождям.
Сталин, по мнению товарища Ленина, сосредоточил в своих руках необъятную власть. Товарищ Ленин был вовсе не уверен, сумеет ли товарищ Сталин всегда достаточно осторожно пользоваться той властью.
Троцкий, по ленинской оценке, отличается выдающимися способностями, но увлекается чисто административной стороной дела, то есть бездушный он бюрократ. А еще товарищ Троцкий боролся против Центрального Комитета Коммунистической партии. Это Ленин ему и припомнил. И тут же в письме еще одно, совсем уж убойное сочетание слов: небольшевизм Троцкого. Проще говоря – ужасно способный товарищ, но не наш. В нашей партии – чужой. А кто не с нами, тот… Да еще и против ЦК боролся.
При желании ленинскую оценку Троцкого одним словом можно выразить: враг! Враг с выдающимися способностями. И это не единственная оценка товарищем Лениным своего соратника. Ленин Троцкого публично обзывал Иудушкой.
Товарищи Зиновьев и Каменев в октябре 1917 года, когда было принято решение о захвате власти, струсили и решили переворот сорвать, дабы не попасть под карающую руку полевого трибунала. Но как сорвать государственный переворот? Очень даже просто: планы захвата власти они опубликовали в газете. Будь тогда во главе России люди с головой да крепкими нервами, узнав о планах восстания, поразвешивали бы на фонарях всех большевичков. Но во главе России стояли выдающиеся импотенты. Только потому переворот и удался. Зиновьев и Каменев тут же примазались к победителям и заделались вождями. Но через пять лет после переворота Ленин, давая характеристики своим соратникам, прошлое вспомнил и высказал, что октябрьский эпизод Зиновьева и Каменева вовсе не был случайностью. Если проще – измена и трусость у них в крови. От них и дальше кроме паники и предательства ждать нечего.
Бухарин – по ленинской оценке – не только ценнейший и крупнейший теоретик коммунизма, но еще и любимец всей партии. Однако его теоретические воззрения очень с большим сомнением могут быть отнесены к вполне марксистским. К этому Ленин добавил: он никогда не учился и никогда не понимал вполне диалектики.
Лучше не скажешь: ценнейший и крупнейший теоретик марксистской партии – большой путаник. И сочиняет он то, что с большим сомнением может быть отнесено к этому самому марксизму. А что же сочиняют другие теоретики рангом пониже? Кроме того, любимец партии никогда не учился…
А Пятаков– человек выдающейся воли и выдающихся способностей. Даром, что на него нельзя положиться в серьезном политическом вопросе.
Были в Политбюро Центрального Комитета в тот момент еще товарищи Рыков и Томский. Но Ленин их вспоминать не стал. Всем все ясно было и без ленинских комментариев.
Из письма Ленина следовало, что только у Сталина нет политических пороков и недостатков. Ленин лишь нутром чует, что товарищ Сталин в грядущем не всегда с достаточной осторожностью будет пользоваться своей необъятной властью.
Сталина никто тогда вождем не считал, но Ленин почему-то именно его поставил на первое место. И именно о нем сказал: Сталин сосредоточил в своих руках необъятную власть. По ленинской оценке, Сталин – единственный из всех, кого нельзя назвать врагом, трусом, предателем, путаником, паникером. И в серьезном политическом вопросе на него положиться можно. Один ему упрек: уж очень силищи у него много. И опасение: не наломал бы дров.
В письме содержалась единственная рекомендация соратникам по партии: Сталина снять с поста Генерального секретаря Центрального Комитета! Врагов, предателей, трусов, паникеров, путаников и тех, на кого в серьезном политическом деле положиться нельзя, оставить. А Сталина снять!