Текст книги "Лица и сюжеты русской мысли"
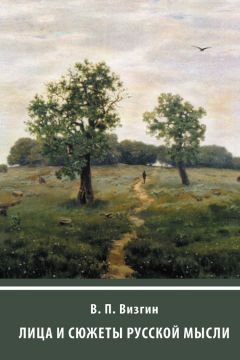
Автор книги: Виктор Визгин
Жанр: Философия, Наука и Образование
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 5 (всего у книги 27 страниц) [доступный отрывок для чтения: 7 страниц]
Платонистские и экзистенциальные мотивы в религиозной философии Флоренского
Как соотносятся между собой платонизм и экзистенциальная мысль? Казалось бы, верный ответ таков: если платоновская идея истолковывается как живой личный конкретный дух, то экзистенциальная мысль с ним может сочетаться, если же как гипостазированная абстрактная мысль, то они расходятся. Вопрос можно поставить и так: даже если платоновская идея толкуется как живой лик, конкретный дух, то поскольку при этом за ней сохраняется статус объекта, то как она тогда совместима со свободой личности? Платонизм и при таком его истолковании оказывается вряд ли беспроблемно совместимым с христианской антропологией, являющейся базисом того экзистенциального мышления, которое мы здесь будем иметь в виду. Попытка разобраться в этой непростой, хотя и не новой проблеме, возвращает нас еще раз к нескончаемому спору между «Афинами» и «Иерусалимом».
У истоков реалистического символизмаКультура движется тем, во что человек вкладывает душу свою. В начале XX в. в России самые творчески одаренные люди устремлялись к тому, что называлось тогда символизмом. Это было разнообразное по своим проявлениям культурное движение. Кратко говоря, это была попытка духовного преображения человека и мира на путях заново переживаемого откровения вечных истин древних религий и христианской веры. Во главе движения, в качестве его теоретиков, находились люди, одаренные мистически и религиозно, не говоря уже об их выдающихся интеллектуальных способностях. Первыми среди них следует назвать Вяч. Иванова, Андрея Белого и стоящего несколько особняком Павла Флоренского. Позитивизму и натурализму своего времени символистски настроенные души противопоставляли «пронзительное чувство тайны и духовную взволнованность»[106]106
Иванов Вяч. Собр. соч. Т. II. Брюссель, 1974. С. 661.
[Закрыть], что не могло не сближать их пафоса с экзистенциальной ориентацией в философии. Неслучайно одной из основных культурных и мировоззренческих опор символизма был, наряду с Ф. Достоевским и Вл. Соловьевым, Фр. Ницше.
Мировая война и революция, как морской прибой – водоросли, «слизали» все это движение с берега культуры. Небостремительный почин русского символизма с его энергетикой преображения обернулся, как кажется на первый взгляд, слишком уж приземленным и потому небесполезным результатом в виде научной культурологии, по преимуществу структуралистской. Прикоснувшись к этому ледяному контрасту, мы понимаем то, что Бердяев, сам философ русского символизма и экзистенциализма, называл трагедией творчества: стремились к плероматическому преображению мира и человека, а получился объективированный культурный продукт, вокруг которого растет научная работа исследования, комментирования и толкования. Горели сердца и души, а пепел достался в наследие ученым, пишущим диссертации о русских символистах. История и время как бы поглощают трансисторическое и вечное, несомненно присутствовавшие в качестве живого огня, горящего внутри того, что мы зовем уже охлажденным именем символизма.
Русский символизм сам осознал невозможность безблагодатного преображения – невозможность для человека исключительно своими усилиями свести небо на землю раньше парусии и окончательного разрешения судеб мироздания. Но это не означает, что эсхатологической напряженности внутри человека не отвечает никакой трансреальности. Подобная устремленность сердца и духа, явленная у русских символистов, не была только субъективным психологическим явлением, некой индивидуальной «взвинченностью». Несводима она и к чисто политическому и социальному плану предчувствия революций и войн XX в. Вечное ядро в ней нельзя от нее отделить, равно как и его социоисторические и психологические оболочки. Поэтому мы не в праве описывать историю символистского движения объективистски: холод безучастности такого подхода лежит на нашей ответственности как свободных личностей. Глубоко всю эту ситуацию осветил диалог Вяч. Иванова и М. Гершензона в «Переписке из двух углов». Книга эта стала диалогическим посланием русского символизма и в его лице всей высшей русской культуры ошеломленному переменами Западу и внесла весомый вклад в экзистенциальное пробуждение его мысли.
Платонистская традиция содействовала тому рождению новой эпохи в истории Европы – Нового времени или Модерна – с его наукоцентризмом. Но с помощью того же платонизма, правда иначе акцентированного, Европа пытается и выйти из Модерна. Пример тому – Павел Флоренский. Как же должен быть переинтерпретирован платонизм, чтобы такое могло случиться? Если Галилей, Кеплер и другие творцы научной революции и проекта Модерна использовали геометризм Платона в своем тезисе о том, что книга природы написана на языке математики, то ниспровергатели Модерна, в частности Флоренский, вдохновляются платонизмом как аниматором мира, механизированного наукой Нового времени. Как верно заметил Лосев, Флоренский понял платоновскую идею магически и личностно-духовно (через «лик»). Его платонизм – это не столько платонизм правильных геометрических тел, полиэдров «Тимея» и Кеплера, сколько платонизм эзотерических мистерий, языческой религиозной души с ее демонами, домовыми и лешими. В «Диалектике мифа» Лосев дал яркую картину такого платонизма на службе у антимодернистского «тренда» в истории идей. Поэтому для прогрессистов-модернистов Флоренский и Лосев всегда будут фигурами радикальной «реакции». Но современное «постмодернистское» сознание утратило прогрессистский пафос и поэтому спокойнее относится и к мистериально-демоническому лику платонизма. Оно охотно играет любыми возможными интерпретациями, но по сути дела ради своего вполне нововременного, то есть модернистского, «Я». Гейзенберг писал, что в элевсинских мистериях можно было на самом деле встретить Диониса[107]107
Heisenberg W. Philosophic: Le manuscript de 1942. Paris, 1998. P. 269.
[Закрыть]. «Постмодернисты», видимо, не встречались ни с каким богом, кроме своего обожествленного «Я». От Штирнера они ушли недалеко. Русские декаденты в лице Брюсова похвалялись тем, что приносят жертвы всем богам. Но своим эстетским «политеизмом» они лишь демонстрировали свое ницшеанское самоутверждение вполне модернистского типа. Однако мода в начале века действительно была не столько на «геометрического» Платона, Кеплера и Галилея, сколько на аниматорский герметический неоплатонизм Бруно и Агриппы, о котором писал тот же Брюсов[108]108
Брюсов В. «Оклеветанный ученый» и др. статьи в кн.: Орсъе Ж. Агриппа Неттесгеймский. Знаменитый авантюрист XVI в. Томск, 1996.
[Закрыть].
Платонизм и экзистенциальная установка соотносятся как встреча и разрыв. Кажется, что о подобном антиномизме Флоренский не думал, на свет методологической философской рефлексии его не извлекал. И, думается, потому, что для него не существовало как какой-то самостоятельной установки мысли то, что мы называем экзистенциальным ее направлением. Его рабочими базовыми категориями были не экзистенция и экзистенциальное, а жизнь, организм, мистическое, таинственное, символ как «перекличка» всего живого с живым, духовного с духовным. Не мог он обойтись и без основных понятий столь третируемого им Канта – без деления реальности на ноумен и феномен. Бердяев обратил внимание на дистанцию, отделяющую творчество Флоренского от философии как дела жизни, как профессии и призвания. И верно заметил, ибо о. Павел был сверхфилософом, «богоделом», или теургом, мистиком и иереем по призванию и профессии. А это означает, что мир собственно философии как особого мышления его не слишком интересовал. Для Флоренского приоритет имели те духовно-чувственные, духовно-телесные указания на тайну мира, по отношению к которой он всегда, с детских лет, испытывал волнение, страх и неодолимое влечение одновременно.
Его творческая личность, все пропускающая через собственную эмоциональную жизнь, несомненно глубоко экзистенциальна. Его творчество росло не из внешних заданий профессии и профессорства, а из глубины личного опыта, центр которого занимала тайна бытия, загадка горнего и дольнего в их соприкосновении в символе, заполняющем весь мир. Когда думаешь о Флоренском, вспоминаются такие строки Гёте:
В его безусловном шедевре, я имею в виду автобиографическую прозу, есть такие слова, заставляющие встрепенуться: «Взрослые вообще таинственной стороны всего окружающего не касаются, – не то не замечают ее, не то скрывают от нас, наверно, чтобы не пугать нас; ведь они никогда не говорят нам о таких заведомо существующих вещах, как черти, русалки, лешие, даже не говорят о милых эльфах»[110]110
Флоренский Павел, свящ. Детям моим. Воспоминания прошлых дней и т. д. М., 1992. С. 48.
[Закрыть]. Не то удивительно, что Флоренский, отец большого семейства, относит себя к детям малым, удивительны слова о «заведомо существующих» чертях и т. п. Что они значат? Не то ли, что о. Павел уверен, что контакт с духовным миром, в том числе и с миром названных им существ, есть контакт онтологический, осуществленный в вечности, согласно вере платоников и их предшественников о пребывании души в мире горнем, для нее родном, откуда она была низвергнута, а теперь тоскует и ищет пути домой? Или в этих несколько вызывающих, эпатирующих современного интеллигента словах звучит отмеченная Бердяевым «стилизация», но не православия, а первобытного мифорелигиозного мышления? Или же Флоренский хочет сказать, что дети априорно, до всяких нянюшкинских и бабушкиных сказок верят в домовых и леших, то есть в мир живых духов, путь в мир которых, по слову Гёте, в принципе открыт, но для прохода в него требуется очистительное посвящение (купание в лучах зари)? Из истории культуры известно, что одухотворяющая роль посвящений в древнем мире подчеркивалась не философами, а герметиками и гностиками. «Если греческая теория, – говорит английский исследователь неоплатонизма Э. Р. Доддс, – стремится создать мост между душой и телом… то маги, герметики и гностики пытаются построить мост между Богом и человеком; для них бессмертное тело дается в процессе посвящения, приобретя его, человек становится богом»[111]111
Доддс Э. Р. Астральное тело в неоплатонизме // Доддс Э. Р. Язычник и христианин в смутное время. СПб., 2003. С. 291.
[Закрыть]. Но что же именно значат эти будоражащие дух слова о. Павла? Видимо, все три предложенные нами их объяснения надо иметь в виду, не думая однако при этом, что ими можно ограничиться. Примем во внимание, что для детей, о которых здесь идет речь, очистительного посвящения и не требуется или почти не требуется в силу первозданной чистоты детства, что бы ни думал о нем бл. Августин. Заря, о которой говорит Гёте, воплощена в ребенке, так сказать, натуральным образом. А поэтому для него заведомо существуют русалки, лешие и даже кикиморы.
Мифорелигиозная реальность живых духов – вывороченная наизнанку вера науко-веров (Флоренский любил писать это слово через дефис). Если для верящих в науку заведомо есть электроны, атомы, молекулы и т. д. вместе с их движениями и законами, то для мифовера, как Флоренский, заведомо существуют эльфы и прочие духи, известные из мифов и религий мира. Но для философа как философа нет ни тех, ни других. Во всяком случае, их «заведомое» бытие он отрицает. Философ все ставит, должен ставить, раз он философ, под вопрос – и электроны и русалок. Флоренский готов был к первому, но ко второму, видимо, нет, раз он говорит о «заведомой» вере в духов. Нет ли в этой позиции нарочитой антипозитивистской и антисциентистской бравады? Может быть, чуточку она и присутствует. Но, думается, не в ней дело и было бы, пожалуй, ошибкой оценивать Флоренского таким некрупным аршином.
Бросается в глаза еще одна любопытная особенность, мысль о которой возникает при попытке истолковать эти показавшиеся странными слова Флоренского. Они включены в главу «Пристань и бульвар» упомянутой прозы о его детских годах в Батуме. Ребенком он гулял с маленькой сестрой по берегу моря и собирал разные диковинки – камушки, обточенные морем, корни и т. д. Находки были для него личными дарами Моря как живого существа в виде зеленовато-голубой бесконечности, полной откровений и тайн. Разглядывая эти дары, говорит Флоренский, «я смотрел – и припоминал, нюхал и точнее припоминал, лизал – опять припоминал, припоминал что-то далекое и вечно близкое, самое заветное, самое существенное, ближе чего быть не может»[112]112
Флоренский Павел, свящ. Детям моим. С. 49.
[Закрыть]. Вот уж чистейшей морской воды, хочется сказать, платонизм с его непременной идеей анамнесиса! Море отозвалось в нем как «зовущее родное», будто он сам происходил из рода Нереид, но забыл об этом и вот, в виду его, одаряющего богатствами своей тайны, он вспоминает о далекой и вечно близкой родине… Здесь опять миф о душе, рассказываемый Платоном в его диалогах. Но в этом орфико-пифагорейском по корням мифе родина души выступает как горний мир. Здесь же родным повеяло от Моря, от водной стихии, которую привыкли считать не «горним», а «дольним», не духовным, а телесным, не идеальным, а материальным началом. Подчеркнем этот важный, на наш взгляд, момент: вещество мира, его глубины, в том числе водные, выступают для Флоренского как заместитель горнего, духовного, высшего – небесного. Иными словами, дух и тело для него неразделимы, если они живы, суть живые существа, имеющие имя и носящие вместе с ним тайну своего бытия. Небо у нас не только над головой, но и под ногами, если мы землю и море чувствуем как духи – дух, как живые – живого.
В главе «Пристань и бульвар» мы можем без труда отыскать все основные интуиции и темы позднего Флоренского. Действительно, символизм, причем подчеркнуто реалистический, в его классическом бодлеровском представлении («Correspondances», 1852), пробудился во Флоренском тогда, когда он был ребенком. Вот дети, играя на берегу, докопались до морской воды на дне выкопанной ямы: «Совсем слезы, – говорит о том детском опыте взрослый естестводухоиспытатель. – И не значит ли это, что и сам я – из той же морской воды? Везде взаимные соответствия, за что ни возьмешься – все приводит опять и опять к морю»[113]113
Там же. С. 47.
[Закрыть]. Итак, «везде взаимные соответствия»:
Природа – дивный храм, где ряд живых колонн
О чем-то шепчет нам невнятными словами.
Так Бальмонт передает начальные строки бодлеровского «Correspondances», передает близко к оригиналу (у Бодлера, правда, нет «нам» и нет «ряда» колонн, просто vivants piliers). И что должно быть особенно созвучно Флоренскому, так это две следующие строчки. Дадим их в оригинале, ибо у Бальмонта сказано все же хуже:
Вот наш прозаический перевод: «В храме Натуры человек идет по девственным лесам символов, смотрящих на него знакомыми взглядами». Символы, что глядят на человека в храме Природы, суть живые существа, взгляды которых напоминают о самом для него родном, хотя и полузабытом. Таково и Море, которое Флоренский пишет с большой буквы, – ведь это имя живого существа. А современная наука, кстати, говорит по сути дела о том же: воды первобытного океана сформировали нашу кровь и т. д.[115]115
Уолд Дж. Почему живое вещество базируется на элементах второго и третьего периодов периодической системы? // Горизонты биохимии. М., 1964. С. 103.
[Закрыть] И поэтому мы не смотрим на Вселенную извне, а глядим на нее изнутри. Именно совпадение религии и мифа с наукой, особенно новой, не-механистической и неевклидовой, характеризует направление устремлений Флоренского в его творческой деятельности – вывести науку, а с нею и всю культуру из тенет и теней позитивистического иллюзионизма под солнце древнего мифа…
Отметим еще две основные интуиции-темы, раскрываемые с такой выразительностью на страницах этой же главы. Тут же, на морском берегу, вместе с символистским credo проступает и первичный опыт всеединства: «В земле – вода, во мне – вода, медузы – тоже вода…»[116]116
Флоренский Павел, свящ. Детям моим. С. 48.
[Закрыть]. Иными словами, все – одно (единое). Опыт гётеанских метаморфоз подтверждает этот морской опыт фалесовского типа. А математика дает ему соответствующее оформление. «Различное по виду… едино по сущности», – заключает Флоренский.
Море – живой ноумен, который тогда, в блаженном детстве, действительно «виделся, обонялся, слышался». Важный момент: ноумен, идеальная сущность, казалось бы, нечто отвлеченное, интеллектуальное, умное – для Флоренского изначально чувственное, телесно-живое, наглядное, непосредственное. Конкретность будущей метафизики о. Павла в этом. Глубокий – ноуменальный – пласт бытия, пласт «жизнетворческий» постигается, по Флоренскому, не абстрактным мышлением, а всем существом, цельно, непосредственно, прежде всего чувственно. Опять мы не можем не вспомнить здесь Гёте с его «прафеноменом», который у него (пра)ноуменален, как и Море Флоренского, как и Вода Фалеса, у которого тоже, кстати, «все полно богов».
Реалистический символизм Флоренского имеет точки соприкосновения с той формой экзистенциальной мысли, которую мы находим в философии Г. Марселя. Рассказывая о впечатлениях раннего детства, о. Павел говорит о том, хочется сказать, магическом воздействии, которое он испытал, увидев нарисованную его отцом обезьяну, предназначенную на роль стража запретного для него винограда. Нарисованный орангутанг, подчеркивает он, был «мощнее, значительнее, неумолимее живого…». И продолжает: «Я тогда-то и усвоил себе основную мысль позднейшего мировоззрения своего, что в имени – именуемое, в символе – символизируемое, в изображении – реальность изображенного присутствует, и что поэтому символ есть символизируемое»[117]117
Флоренский Павел, свящ. Детям моим. С. 35.
[Закрыть]. Упомянутое нами соприкосновение Флоренского и Марселя мы находим в слове «присутствие» («присутствует»). Разбирая ситуацию с образом умершего человека, фотографию которого любовно хранит любящий близкий ему человек, Марсель говорит, что она не напоминает ему об ушедшем, а позволяет вступить с ним в реальный контакт: доступ к его подлинному присутствию приоткрыт этой фотографией. Но тут же сходство сменяется расхождением. Действительно, Флоренский, как видно из приведенной цитаты, отождествляет «есть» и «присутствует», говоря, что «символ есть символизируемое». Марсель же, напротив, различает, хотя и связывает тоже, смыслы слов «есть» и «присутствует». Так, в одном месте он говорит, что Бога нет, но Он присутствует. Можно сказать, что у «есть» и у «присутствует» разные онтологические статусы, разные модусы бытия. Можно было бы даже предположить, что у присутствия более высокий статус в этом отношении, чем у просто бытия (от «есть»). Можно было бы уточнить, что в присутствии мы имеем дело с бытием мистическим, невыразимым объективно. Но мы сейчас не станем развивать этой мысли – это увело бы нас от нашей темы. Укажем на другое. «Есть» – знак приравнивания субъекта суждения к его предикату. «Присутствие» же выражает экзистенциальную тайну, несказанную тайну быть. Разумеется, в языке «есть» обозначает и «существует». «У нас в лесу есть дубы» – это значит, что в близлежащем от нашего дома лесу существуют дубы. Именно этот смысл и звучит в словах «Бог есть». Но Марсель предпочитает говорить о «присутствии» Бога (в молитве Его присутствие более открыто, чем без нее, хотя это не означает, что вне молитвы у Бога нет присутствия, что Он присутствует только в ней, посредством нее). Марселю важен акцент на присутствии и на отстранении от привычного для схоластики тематизирования бытия как сущности потому, что Бога он мыслит экзистенциально-личностно, а не объективно. Бог – не есть объект. Его невозможно объективировать. Для того, чтобы отделить христианского Бога от аристотелевских и платоновских сущностей и идей, французский философ и акцентирует выражение «присутствие». Флоренский же не делает этого.
В нашем языке мы говорим об обычных предметах, что они есть, существуют, имея в виду, во-первых, что они фиксированы как объекты (есть дубы в нашем лесу, то есть нам известные как определенного рода деревья), а во-вторых, мы всегда уточняем, при каких условиях они есть. «Бог есть», «Бог существует», но при этом мы не можем сказать о Нем как о знаемом нами объекте и не можем сказать, где, в чем, при каких условиях Он существует. Сказать «существует в мире» вряд ли верно; сказать, что Он существует в качестве источника всех благ, всего сущего, – это на самом деле никакое не определение, ибо смысл таких фраз схватить во всей определенности мы просто не в состоянии. Такие фразы объективируют Бога, и в результате нам кажется, что Он объективирован. Но это только кажимость. Ни в одном суждении рациональной теологии действительно схватываемых нами предикатов Бога нет. Скажут: но Бог – Творец мира! Но «быть Творцом мира» не выражает никакого определенного для нас объекта. «Творец мира» – не объект. Схватить, уловить, зафиксировать качество быть Творцом мы не в состоянии. Экзистенциальная мысль открыто и недвусмысленно это и признает, критикуя рациональную теологию, когда о Боге говорят так, как о дубах в нашей роще.
Я обо всех этих очевидностях говорю затем, чтобы показать читателю, что идея ведомого Бога, к которой, как на огонек, устремился молодой Флоренский, есть идея невыполнимая, нереализуемая по сути своей. Мы себе такими идеями просто морочим головы. Но это не означает, что богословие невозможно. Однако как объективная наука о Сущем (о сущем Боге) оно действительно невозможно. Поэтому и ценен символизм, столь глубоко, интересно и разнообразно развиваемый Флоренским.
Последнее замечание в связи с приведенной цитатой из «Воспоминаний» о. Павла. Рассказывая о нарисованной обезьяне, он говорит: «Символ есть символизируемое», «реальность изображенного присутствует» в изображении. Как мы сказали, «присутствовать» не значит «быть», «присутствует» и «есть» не одно и то же. Символ есть символизируемое, говорит Флоренский, это так, но столь же верно и обратное: символ не есть символизируемое. В противном случае он бы не был символом, а был бы просто тем, что он символизирует. Это, на наш взгляд, важный момент. Флоренский «пережимает педаль», акцентируя реализм символа. Словом «присутствие» реализм символа он уже достаточно подчеркнул. И когда он говорит, что символ есть символизируемое, то устраняет сам символ. Ведь при самом реалистичнейшем отношении к символу мы отличаем символ от символизируемого. Мы в принципе не можем не различать эти два момента. Антиномия в составе символа не может быть утрачена и в случае реалистического символизма.
Рассмотрим эту антиномию на примере такого символа, как имя. Имя есть символ. И подобно тому, как здесь, в «Воспоминаниях», Флоренский говорит «символ есть символизируемое», так в своих имяславческих текстах он утверждает, что «Имя есть Бог, но Бог не есть Имя»[118]118
Флоренский Павел, свящ. Соч. в четырех томах. Т. 3 (1). М., 1999. С. 296.
[Закрыть]. Это равносильно признанию, что символизируемое не есть символ.
Сопоставление Флоренского и Марселя, опирающееся на «Воспоминания» о. Павла, продолжим такой констатацией. В содержании базовых установок, сложившихся еще в детские годы, у обоих мыслителей немало общего. Кстати, похожими у них были и сами круги семейного общения, а также нормы отношения к детям, предполагающие высокий уровень их защищенности от внешнего, чужого и мало «приличного» (выражение Флоренского) мира. В обоих случаях атмосфера семьи создавала мощный защитный экран, препятствующий проникновению «микробов» внешнего окружения. Тесная внутрисемейная взаимосвязь и, соответственно, практическая невозможность завязывать связи общения «на стороне» характеризует семьи обоих мыслителей в их детские годы.
Но не только стилистика семейного воспитания частично сходна в обоих случаях. Сходна у них и сама ориентация внимания на глубину и тайну существования, а также подсознательное убеждение в несомненной ценности внутренней жизни духа, благодаря которой все оживает, даже то, что нам на первый взгляд кажется совершено неодушевленным. Итак, ориентация на тайну и внутреннюю напряженную жизнь духа – вот их общие установки, сформированные уже в детские годы. «Весь мир в себе имел внутреннюю игру глубины», – пишет Флоренский, восстанавливая духовный мир своего детства. То же самое говорит и Марсель. Оба мыслителя с детских лет приучились высматривать приметы глубокого в мире, улавливать видимые признаки невидимого. И наконец, еще один момент. Это – вкус к подлинности во всем. Отсюда у Флоренского нелюбовь к фабричным изделиям, к вещам машинного производства и, соответственно, предпочтение им вещей рукотворных. Аналогичные вкусы развивались с детских лет и у Марселя.









































