Текст книги "Лица и сюжеты русской мысли"
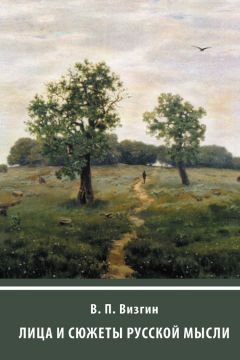
Автор книги: Виктор Визгин
Жанр: Философия, Наука и Образование
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 8 (всего у книги 27 страниц) [доступный отрывок для чтения: 9 страниц]
Неужели ты не замечаешь – говорит alter ego автора, его персонаж внутри диалога, вмонтированного в текст «Иконостаса», – стремительности того полета фантазии, которым созданы философские системы на почве протестантизма? Бёме ли, или Гуссерль, по-видимому столь далекие по духовному складу, да и вообще протестантские философы все строят воздушные замки из ничего, чтобы затем закалить их в сталь и наложить оковами на всю живую плоть мира… Протестантская мысль – это пьянство для себя, проповедующее насильственную трезвость[168]168
Флоренский П. А. Иконостас. М., 1995. С. 107.
[Закрыть].
Итак, Флоренский, принимая или отвергая Гуссерля, страстно, заинтересованно относится к нему, чего, пожалуй, нельзя сказать о Марселе.
Для Марселя Гуссерль менее интересен уже только потому, что слишком уж профессор для его экзистенциально-художественного вкуса. Однако если он и ценил Гуссерля (а это – так), то не как платоника, а как феноменолога. Феноменология вошла в философский мир Марселя, и он сам ее практиковал, однако независимо от ее специфических подчеркнуто научных разработок немецким философом. Но опытов подобной феноменологии у Флоренского, кажется, нет. И дело, видимо, в том, что феноменология, отталкиваясь от сознания как реальности, ищет сущности, лежащие по ту сторону оппозиции субъекта и объекта. Флоренский же в своей онтологической интуиции оставался объективистом, можно даже сказать, докритическим метафизиком. Недаром он так резко, особенно в поздние годы, разделывался с Кантом. Марсель тоже не жаловал кенигсбергского философа. Но его критика Канта была более умеренной и выборочной. И в этом, думается, он был прав, более прав, чем Флоренский, который нашел в Канте своего рода философского «козла отпущения». Кант отвергается им сначала как противоположность Платона столь же безапелляционно и некритически, сколь подобным образом им был принят платонизм: «Взор Платона, обращенный к глубинам человеческого духа, – говорит Флоренский, – занят объективным, а взор Канта, интересовавшийся внешним опытом, посвятил себя чистой субъективности»[169]169
Флоренский Павел, свящ. Собр. соч. Философия культа. С. 108.
[Закрыть]. С годами, в связи с разработкой философии культа, расхождение с Кантом лишь набирает обороты, поскольку теперь Флоренский рассматривает его философию как воплощение протестантского религиозного духа, ему глубоко чуждого.
Поскольку борьба с Кантом у о. Павла столь эмоциональна, то неудивительно, что он иногда впадает в преувеличения. Так, например, он практически отождествляет кантовское мировоззрение с возрожденческим, с чем мы согласиться не можем, хотя, конечно, некоторые базовые моменты Реформации и Просвещения, философски воплощенные Кантом, уже были заложены в культуре Возрождения. Такой подход затеняет переходной характер ренессансной культуры. Суть кантовского опыта, говорит Флоренский, в «невозможности встретиться с областью самодовлеющего»[170]170
Флоренский П. А. Т. 2. У водоразделов мысли. М., 1990. С. 73.
[Закрыть]. Но Ренессанс все-таки не вполне порвал с этой возможностью. Об этом свидетельствуют неоплатоновские и герметические тенденции в его культуре, отчасти сочетаемые с христианством, а отчасти ориентированные на возобновление древних языческих культов (например, у Дж. Бруно). Кроме того, эпистема возрожденской мысли, если принять схему Фуко, близка античному и средневековому типу мысли, для которого характерно использование понятий симпатии и антипатии, а не опытно-научно верифицируемого равенства.
«Платонизм, в особенности церковное миропонимание, – говорит о. Павел, – имеет в виду благое и святое, кантовское – злое и греховное»[171]171
Флоренский. Соч. в четырех томах. Т. 2. С. 436.
[Закрыть]. Это итоговое определение причин неприятия им Канта носит религиозно-мировоззренческий характер, выходя за рамки собственно философии. Церковное миропонимание определено здесь как разновидность платонизма. Флоренский не просто сближает языческий платонизм и христианское миропонимание. Нет, он прямо считает последнее формой платонизма. С этой точкой зрения трудно согласиться. Но перейдем к философской аргументации Флоренского против кантовской философии. Ключевым ее принципом он считает автономию разума, изолированного от живой духовной реальности, приводя соответствующую цитату из К. Фишера, определяющую автономию у Канта как род эгоцентризма. Итак, первый пункт для философского расхождения с Кантом – пафос самоопределения из чистого разума, автономии субъекта. Второй момент с ним тесно связанный – кантовская философия, помещает весь мир внутрь опыта субъекта. Кроме того, говорит о. Павел, у Канта лукаво смешиваются субъект с объектом и в результате ум, жаждущий истины, тонет в кенигсбергском тумане.
Последний момент особенно важен для о. Павла. Дело в том, что его изначальная онтологическая интуиция задана контрастно, как бы копируя четкий контур гор на фоне небесной лазури. Противовес этой четкости – размытость сумеречных долин с их туманами. Кант для о. Павла – гений лукавства: «Это лукавство <…> психологизм, пытающийся запутать и затуманить сущую Истину, превращая ее в наше мечтание. Так белесоватым паром стирается четкость снежных кряжей»[172]172
Флоренский. Собр. соч. Философия культа. С. 102.
[Закрыть]. Кантовская философия, таким образом, противоречит основополагающему изначальному экзистенциальному опыту Флоренского. В детские еще годы он глубоко пережил истину-бытие по образу и подобию горных вершин[173]173
См. ниже «Платонизм Павла Флоренского и экзистенциальный опыт».
[Закрыть]. Ее противоположность – небытие-заблуждение – выступила отрицанием горной чистоты, высоты и четкости. Такое онтологическое чувство (именно сначала чувство, а потом уж разум с его рассуждениями) возникло у него при созерцании снежных вершин Кавказа, вблизи которых он родился и жил: «Предельная четкость, ничего размытого – воплощенная онтология»[174]174
Флоренский. Собр. соч. Философия культа. С. 42.
[Закрыть]. Для такой изначальной интуиции платонизм и христианство действительно становятся почти неотличимыми друг от друга. «Воплощенный лишь смысл, – говорит о. Павел, – может потребовать от нас решительного ответа»[175]175
Там же. С. 103.
[Закрыть]. А кантовская «религия в пределах только разума» не признает именно Воплощения Слова, ибо это было бы разрывом с рационалистическим субъективизмом и имманентизмом. Отсюда и такие характеристики Канта и его философии, как «гений лукавства», диалектическое мастерство различений, позволяющее смешивать несмешиваемое, и т. д. В результате нелюбовь о. Павла к Канту, растущая с годами, в «Философии культа» достигает своего апогея.
«Критика чистого разума», говорит о. Павел, «мистически гадка»[176]176
Флоренский. Собр. соч. Философия культа. С. 237.
[Закрыть]. Почему? Да потому, что написана в сигарном дурмане. А табаку, как известно, рассуждает Флоренский, присуща «бесопривлекающая способность»[177]177
Там же. С. 239.
[Закрыть]. В «несовместимость духовного опыта с курением табака» нелегко поверить. Ну, ладно, Сартр дымил как паровоз, и этим наркотиком самости и мелкости пропитан его философский шедевр – «Бытие и ничто». Но ведь и М. М. Бахтин, человек светлой мысли, курил, и, кажется, немало. Не только Маркс, Маяковский и Сартр подхлестывали себя табаком, но и Розанов, близкий в некоторых отношениях к о. Павлу, тоже ведь набивал табаком папиросы… Дело в том, что табак, указывает Флоренский, дает едкий дым, затуманивающий дух, и в результате человек теряет связь с реальностью и вместе с тем свое духовное единство[178]178
Там же.
[Закрыть].
Итак, пафос Флоренского можно кратко выразить так: не Кант, а культ! Кант, будучи «до мозга костей протестант, – говорит о. Павел, – не хотел знать культа»[179]179
Там же. С. 101.
[Закрыть]. Мог ли он, со своим культоцентрическим мировоззрением, иначе относиться к немецкому философу? Но Кант, шумно прогоняемый в дверь, все же проникает в окошко философии культа. Флоренский незаметно для себя приходит к тому, чтобы, пусть частично, принять кантовскую позицию, которую, говоря гегелевском языком, можно кратко сформулировать как утверждение истинности субъекта. На страницах его поздних работ тема субъекта редко обдумывается как проблема. В «Философии культа» она врывается туда только под занавес. «Основа сознания и самосознания, – пишет Флоренский, – сразу находится вовне как сознаваемое и внутри – как самосознаваемое… Условие личности есть единство трансцендентного с имманентным…»[180]180
Там же. С. 110.
[Закрыть]. Здесь содержится глубокая мысль, преодолевающая упрощенную схему несовместимости трансцендентного и имманентного, внутреннего и внешнего, субъективного и объективного. Гораздо чаще у о. Павла в одностороннем порядке провозглашается истинность и онтологичность трансцендентного и объективного и, соответственно, заблуждение и иллюзионизм имманентного и субъективного. Однако в данном пассаже утверждается единая основа этих категорий, фундаментальных для философии. Такая основа выступает и как истина, и как бытие («естина»). Но в таком случае истинному делается причастным и Кант, закоренелый имманентист и субъективист, лишенный мистического опыта лукавый иллюзионист. Но этот, условно, кантианский момент собственной мысли остается незамеченным о. Павлом. И не случайно: ему важно, идеологически и мировоззренчески, с максимальным нажимом провести линию строгого в платоновском духе объективизма и тем самым как можно решительнее отмежеваться от Канта.
Антисубстанциализм есть, по Флоренскому, субъективизм, выводящий из онтологии в нигилизм. В своей замечательной по богословской тонкости рецензии на книгу А. Туберовского о Воскресении Христа он говорит, что «высший духовный опыт» выводит сознание из области субъективной в область онтологическую[181]181
Флоренский. Соч. в четырех томах. Т. 2. С. 235.
[Закрыть]. Вот с таким сочетанием категорий трудно согласиться. В основе его лежит схема, приравнивающая бытие к объективности: быть, по Флоренскому, значит быть объектом. Но субъект не менее реален (реальность и бытие мы здесь не различаем). Никакого онтологического статуса субъекта у Флоренского не предполагается. Неудивительно, что феноменологии Гуссерля он по сути дела не заметил. В ней подобная схема соотношения объекта и субъекта преодолевается.
Может быть, объектоцентризм Флоренского связан с тем, что в своих поисках он остается ученым-естественником, для которого реальность исчерпывается объективной реальностью, постигаемой в математически представленных законах? Допущение это кажется не лишенным некоторого основания. Но принять его нельзя потому, что науковером Флоренский, при всей своей учености, не был.
Подведем итог сопоставлению Флоренского и Марселя сравнительным анализом того, как соотносятся у обоих мыслителей религия и онтология. У Марселя обратим внимание на выражение lafflux d'etre и на тезис о том, что святость – введение в онтологию. «Приток бытия», «прилив бытия» указывает как на мистическое его начало, так и на его волновую и энергетическую природу. В целом это выражение отвечает тезису Марселя о световой природе истины (и бытия, ибо они у него, как и у Флоренского, неразделимы)[182]182
Marcel G. Le mystere de letre / Nouvelle edition. P., 1997. Livre I. P. 73.
[Закрыть].
«Святой» у Марселя как проводник в онтологическую сферу – это аскет-мистик, подвижник любви и света, наконец, мученик-свидетель Истины. Христианское откровение и Церковь здесь предполагаются, но не ставятся на передний план. Культовая сторона Церкви еще более отдалена от того, что Марсель имеет в виду.
У Флоренского же, напротив, на первом месте оказывается именно церковный культ как средоточие «онтологичности», как он говорит. Место марселевского святого у него занимает святыня как источник освящения мира. Не столько святой-личность, святой-человек, сколько Святыня, то есть безличное Священное, стоит в центре культологии Флоренского как источник бытия, как наивысшая «онтологичность». Соответственно, в роли регулятора, направляющего поток высшего бытия на мир, выступает священнослужитель, иерей-понтифекс, строящий в культовых действиях мост между Небом и землей. По нему и устремляется поток света-бытия, лучи благодати. Священнослужитель у Флоренского приобщает дольнее к горнему, к миру платоновских идей, который сливается у него с миром христианской Истины. Логически и философски приобщение-причастие к платоновскому миру идей совпадает у него с приобщением к благодати Христовой в таинствах культа.
Итак, сделаем вывод, если у Марселя подчеркивается мистическое измерение святости как источника бытия, то у Флоренского – церковно-культовое и мистериальное. Различие между двумя мыслителями состоит в том, что французский философ опирается на отдаленно связанный с Церковью мистицизм, а русский мыслитель – прямо на церковный культ, логика которого развертывается им в координатах платонизма. У Марселя «приливы бытия» не включены в план церковных таинств, в систему культа, хотя связь между ними им вряд ли бы отрицалась. Но она у него, как у светского философа, молчаливо предполагается, а не эксплицируется. У Флоренского же именно культ как объективная система связи горнего с дольним взят за основу. Флоренский подходит к культу как ученый-естественник. Он рассматривает его и, значит, проблему бытия как объективист-платоник, как своего рода космолог культа. При таком аспекте может показаться, что Бог как источник бытия, сама благодать Божья «зарегулированы», что они, будучи абсолютной свободой, оказываются своего рода сакральной необходимостью[183]183
Этот момент у Флоренского уловил Бердяев. Если у о. Павла его «идеей» выступает сакральная Необходимость, то у Бердяева – сверхсакральная, вне-божественная Свобода, выбор которой есть идеологический акт, выбор отвлеченной идеи. Идеологизм (идеология революции, изменения, реформы, свободы) витает над его критикой Флоренского. Возможно, что этот идеологизм спровоцирован частично идеологизмом охранительства и церковного консерватизма, увиденного Бердяевым, не без некоторого основания, в работе о. Павла о А. С. Хомякове, которая и вызвала максимум его критицизма.
[Закрыть].
Итак, если для Марселя святыня – Субъект, то для Флоренского она – Объект. У Флоренского святыня-объект «работает» по определенному плану, который он и устанавливает или открывает наподобие того, как открывают законы природы в науке. У Марселя же нет системы управления животворящим духом, как бы его гарантированного внедрения, нет системы освящения мира, хотя он и говорит о благодати (grace), которая чудесно нисходит на людей и мир в непредсказуемом месте и в несказанный час. Итак, если мы находим у французского философа – спонтанность мистического света, то у Флоренского сама мистичность строго канализирована в системе объективированных культовых таинств. Может быть, такое сравнение и огрубляет ситуацию, но все же указывает на преимущественную тональность выражения связи религии и онтологии, веры и философии у этих мыслителей. Поэтому понятно, что главное в феномене веры для Марселя – молитва, прямое личное обращение к Богу как к абсолютному «Ты». Флоренский же начинает свои лекции по философии культа со страха Божьего. Страх перед Господом у Марселя отступает в тень, а на первый план выходит свет молитвы, чудо Божественного присутствия, свидетельства и любви… Природа, космос у него также – только далекий фон личности, ее внутреннего мира, свободы и творчества. У Флоренского, напротив, космичность, в широком смысле слова, включает и мистический космос. Божественный космос у него органично продолжен в натуральном мироздании. Космоведение и боговедение объединяет культоведение, на общезначимый образец которого и претендует о. Павел. Поэтому его философию культа точнее было бы назвать «культологией» – наукой о культе.
Синергийный символизмК «спору» Марселя и Флоренского мы бы хотели подключить голос С. Л. Франка. Почему именно Франка? Его голос в этом «диалоге» особенно значим потому, что Франк во многом разделял позиции Флоренского как неоплатоника и «всеединщика». Дело, конечно, не в их личном знакомстве, не в том, что Франк интересовался идеями Флоренского, посещал его лекции по имяславческой проблеме. И Флоренский и Франк разделяют неоплатонический по своей основе интуитивизм всеединства как абсолютной философской точки отсчета. Если мы сопоставим основные работы Франка – «Предмет знания» и «Непостижимое» – с такой важной работой Флоренского, как «Смысл идеализма», то сходство между ними не останется незамеченным. «Всякое восприятие, – говорит о. Павел, – не только ἓv, но и πολλά, а в каком-то смысле и лесу»[184]184
Флоренский. Соч. в четырех томах. Т. 3 (2). С. 98.
[Закрыть]. Под этими словами Флоренского вполне мог бы подписаться и Франк. Единичное восприятие в своей неисповедимой глубине содержит все в соответствии с формулой «все – во всем». Неявную связь каждого с каждым и со всеединым можно выражать многими способами. Можно перевести эту мысль о всеединстве, лежащем в основании каждой единичности восприятия, во временной план, сказав, что в мгновении как бы просвечивает полнота времен, сама вечность, в которой мы мыслим целокупное бытие, как говорит иногда Флоренский. Итак, точкой схождения мировоззрений Флоренского и Франка выступает философия всеединства.
Но философское мировоззрение Франка развивалось. Постепенно росло его понимание значимости экзистенциального измерения бытия и мысли. Трагические годы Второй мировой войны обострили чувствительность к экзистенциальной установке. Возможно, переписка с Л. Бинсвангером тоже тому способствовала, равно как и встреча в 1938 г. с Марселем. Не ставя своей целью исследование поворота Франка от философии всеединства к экзистенциальной мысли, ограничимся указанием на него, подчеркнув при этом, что полного отказа от неоплатонического наследия у него не было. Поэтому его фигура, которой сама судьба как бы дала шанс быть посредником между этими двумя разошедшимися установками философской мысли, как нельзя лучше подходит для роли арбитра в «споре» Марселя с Флоренским.
Итак, имеет ли онтологический статус субъект? И если да, то каков он, какова его структура? «В лице душевной жизни, – говорит Франк, – мы имеем некий самостоятельный “мир”, лежащий в другом измерении бытия, чем мир природы»[185]185
Франк С. Я. О природе душевной жизни И Франк С. Л. По ту сторону правого и левого. Париж, 1972. С. 225.
[Закрыть]. Субъективность выступает как душевная жизнь, как та «психология», которая решительно отбрасывается Флоренским во имя объективности и онтологичности (они у него, как мы видели, практически совпадают). Мир душевной жизни – самостоятельный бытийный мир, равнопорядковый по онтологическому статусу миру природы. Зафиксируем этот результат. Но в последние годы жизни в изданном посмертно произведении («Дух и реальность») Франк углубляет эту тему.
Existenz, – говорит он, – более глубокое и первичное, чем душевная жизнь как объект психологического познания, и есть вообще реальность, которой совсем не замечают, мимо которой проходят философы, стремящиеся до конца познать бытие в форме объективного его созерцания. Это непосредственное, первичное самобытие есть реальность, в лице которой человек выходит за пределы «мира» – в широком смысле всей объективной действительности – и открывает совершенно новое измерение бытия – то измерение, в котором он наталкивается на его последние глубины и непосредственно имеет их в себе. Так обнаруживается, что реальность в ее живой конкретности есть нечто более широкое и глубокое, чем всякая «объективная действительность»[186]186
Франк С. Л. Реальность и человек: Метафизика человеческого бытия // Франк С. Л. С нами Бог. М., 2003. С. 159.
[Закрыть].
Итак, реальность субъекта, по Франку, двуслойна. Во-первых, она параллельна (условно) реальности внешней действительности (природе, вещам мира). На этом уровне она не глубже такой вещной объективной реальности, но и не поверхностнее ее. По онтологическому статусу они равноправны. Просто душевная жизнь есть другая реальность, чем та, с которой мы сталкиваемся, имея дело с внешним миром. Во-вторых, внутри реальности субъекта, его душевной жизни существует более глубокий уровень, называемый Existenz, existence, экзистенцией. Этот уровень реальности субъекта редко замечается философами, ибо они, как правило, зачарованы сиреной Объективности-Необходимости. Франк подчеркивает, что такова позиция созерцательной установки. А именно она составляет характерную черту платонизма. Участие познающего субъекта в объекте познания, сопровождаемое риском и ответственностью, такими философами не принимается во внимание. Их цель – умное созерцание абсолюта как объекта, или абсолютного объекта. Эту реальность первичного самобытия (в более ранних работах Франк определял ее как Selbstheit) человек имеет в себе как последний, самый глубокий уровень бытия в целом. Здесь речь идет уже не о равноправии онтологических статусов субъекта и объекта, но о безусловном приоритете бытийного статуса субъекта как экзистенции перед всем миром объективности.
Мы привели эти рассуждения Франка не для того, чтобы сказать, что в «споре» с Марселем Флоренский не прав. Да, мы разделяем позицию Франка. Марсель, видимо, тоже с ним бы согласился, как и Бердяев. Но это не означает однозначную неправоту Флоренского. Как показывает цикл работ «У водоразделов мысли», Флоренский пытался преодолеть оппозицию субъекта и объекта не на путях экзистенциальной мысли, как это делал Марсель и отчасти поздний Франк, а на пути синергийного символизма. Синергийный символизм позднего Флоренского есть опыт, условно, среднего пути между платонизмом и экзистенциальной установкой. Действительно, у о. Павла здесь наблюдается некоторый отход от позиции умного созерцания в духе платонизма, поскольку центральность ума и его созерцания сменяется новым центром – волей, изначальным стремлением, «порывом», если использовать термин Бергсона. Субъект и объект в их противопоставлении друг другу объединяются или преодолеваются интуицией глубокого стремления, присущего жизни как внутри человека, так и вовне его. Например, стремление жизни к свету есть общая единая причина формирования как органов зрения и всего с ним связанного, так и оптической техники.
Первичное стремление к свету, – говорит Флоренский, – в котором содержится дальнейшее, уже психологическое, отношение к свету – мышление, чувство и воля, есть мистическая связь со световой реальностью, или, иначе говоря, двуедино, будучи столь же нашим, к субъекту относящимся, как и не нашим, реальностью самого объекта, хотя термины «субъект» и «объект» должно употребить здесь очень условно, ибо ни объекта, ни субъекта в точном смысле слова на этой глубине внутренней жизни еще нет[187]187
Флоренский. Соч. в четырех томах. Т. 3 (1). С. 423.
[Закрыть].
Невольно думается, что те глубины внутренней жизни, которые имел в виду Франк, говоря об экзистенции, как-то соотносятся с теми, о которых здесь говорит Флоренский. Но разница между ними интуитивно все же ясно ощущается. Глубины, упоминаемые Флоренским, родственны по типу глубины шопенгауэровской воле. Недаром точками отсчета здесь служат жизнь и воля, рассматриваемые в контексте гётеанства и романтизма начала XIX в., то есть как раз той культурной среды, из которой и вышел Шопенгауэр, здесь, правда, не упоминаемый. Но интуиции жизни и воли, взятые в их связи, не создают еще экзистенциального пафоса мысли. Хотя некоторую корреспонденцию с ним они и предполагают.
Все подобные пассажи Флоренского ведут его к синергийному символизму. Слияние энергий высшего и низшего, без их полного растворения друг в друге, определяет реализм символа. Здесь мы видим, как тема реалистического символизма, общая для Вяч. Иванова и Флоренского с более раннего времени, обогащается синергийным подходом так, что к привычной теме и топосу русского символизма подключаются современные наука и техника, с одной стороны, а с другой – обширные гуманитарные сферы языка и культуры (что, впрочем, уже было, но по-новому дополняется и развивается Флоренским).
Синергийный мистико-реалистический символизм, как и экзистенциальная мысль, отсылает к уровню реальности по ту сторону дихотомии ее на объективную и субъективную[188]188
Флоренский. Соч. в четырех томах. Т. 3 (1). С. 423.
[Закрыть]. Но этот, самый глубокий, уровень реальности в том и в другом случае повернут к нам разными сторонами. Категории субъекта и объекта преодолены здесь, но их тени продолжают витать. И действительно, мы не можем отделаться от мысли, что синергийный символизм погружен в тень поверженного объекта, а экзистенциальное измерение развертывается как бы в тени столь же отстраненного субъекта. У одной и той же глубины бытия «видов» много – так мы могли бы подвести итог этому сравнению глубин и построек, возводимых на них мыслителями, о которых идет речь. Тональности подачи глубины у них разные. В экзистенциальной установке больше апофатизма, переживания неведомости Бога. В энергийно-символистской установке, напротив, преобладает уверенность в позитивном познании божественного, в его узнавании в энергийном символе. Те лики богов и демонов, о которых говорил ранний Флоренский, повторявший поздних неоплатоников, здесь обретают свою новую, синергийную жизнь. В таком символе, как и в культе, мистерия божественного скорее разгадана, чем загадана, как это ощущается в экзистенциальной мысли, обращенной к мистической глубине реальности. Культоцентрический синергийно-символический катафатизм богопознания, с одной стороны, и молитвенная настроенность богостремительной экзистенции на пороге невыразимой тайны – с другой. Так мы бы описали эти два дополнительных типа духовной жизни, осмысляющей себя преимущественно в собственно философии (позиция экзистенциальной установки) или же в культоведении и культуроведении (позиция символизма Флоренского).
Оставим вопрос о степени отхода синергийного символизма Флоренского от неоплатонизма для будущих исследований. Нам кажется, что она невелика. Действительно, у Плотина (Энн. III, 2–6), как и у Флоренского, в центре умозрения – живая вечность, или вечная жизнь. «На берегу моря, – говорит о. Павел, – я чувствовал себя лицом к лицу пред родимой, одинокой, таинственной и бесконечной Вечностью – из которой все течет и в которую все возвращается»[189]189
Флоренский Павел, свящ. Детям моим. Воспоминания прошлых дней и т. д. С. 50.
[Закрыть]. В этом смысле символическое мировоззрение Флоренского можно определить как своеобразную, неоплатоническую по духу, философию жизни. Вопреки Ницше, упрекавшего платонизм в антижизненном пафосе, Флоренский провозглашает, как раз от имени платоновского идеализма, «да» жизни, «ибо жизнь-то, – аргументирует он, – и есть непрерывное осуществление ἓν καὶ πoλλά»[190]190
Флоренский. Соч. в четырех томах. Т. 3 (2). С. 91.
[Закрыть]. Жизнь определяется им как «точка нашего исхода». Философия жизни может тесно соприкасаться, сходиться с экзистенциальной мыслью, как это было, например, у Шестова. Однако существенно и различие между ними. Философия жизни тяготеет к органицизму, а экзистенциальная мысль, как мы говорили, сущностным образом персоналистична и транснатуралистична.
Можно такими словами подытожить сказанное о символизме Флоренского: самопознание, познание космоса и постижение божественного – одно и то же познание, которое синергийно, реально и символично. Не думаю, чтобы такая целостность и высота умозрения о. Павла оставили бы равнодушным Марселя, если бы он с ним познакомился. Думаю, что, напротив, он в нем нашел бы немало созвучного себе. Напомним в связи с этим, что Марсель глубоко заинтересовался философией культуры Вяч. Иванова, во многом близкой о. Павлу. Разумеется, не все у Иванова отвечало мысли Марселя. Но он высоко ценил в современной ему культуре глубину и подлинность духовного опыта. А отрицать их у о. Павла мы никак не можем.
Закончим это затянувшееся сравнение Флоренского, Марселя и Франка таким замечанием. По стилистике своей мысли о. Павел был радикалом. Он любил доведенную до предела четкость формулировок, что порой приводило его, на наш взгляд, к чрезмерному доверию к схемам, классификациям, дихотомиям. «Всякое признание мира горнего, – писал Флоренский, – неизбежно влечет мысль к платонизму <…> а всякое прилепление к миру дольнему – к отрицанию платонизма»[191]191
Там же. С. 73. Курсив наш. – В. В.
[Закрыть]. В этой фразе, очевидной по смыслу и даже тривиальной, смущает слово «неизбежно». Марсель не менее Флоренского признает «мир горний», но при этом его к платонизму «неизбежно» не влечет. Платонизм принимается им лишь в той мере, в какой он может быть, без натяжек, совместим с персонализмом. Мир идей Платона как безличных идеальностей он отвергает. Но это не означает, что он «прилепляется» к «миру дольнему». Совсем нет. Дело в том, что признавать мир горний можно разными способами – с помощью не одного лишь платонизма. Кто скажет, что Священное Писание не есть признание мира горнего? А ведь оно далеко от Платона, хотя и к миру дольнему не лепится. Так что эта аподиктическая по видимости диалектика только тогда действительно аподиктична, когда горизонт мысли сужен отстранением от экзистенциально-библейского менталитета.
Экзистенциальный мыслитель стремится подлинно быть, а не истинно знать о бытии, как бы при этом последнее ни понималось. Экзистенциальная мысль персоноцентрична и драматична. Онтологически значимая встреча личностей, их напряженное сопряжение, диалог выступает здесь на первый план. В силу этого понятно, что не всеединство, требующее философской системы, задает цель экзистенциального мыслителя. У Кьеркегора, Ницше, Достоевского, Шестова, Марселя не было системы. Кроме того, их онтологическая интуиция не столько субстанциальна (то есть нацелена на бытие как субстантив в словесном его выражении), сколько глагольна (то есть нацелена на то, чтобы личности быть, конкретному человеку сбыться).
Итак, мы можем зафиксировать два основных типа понимания образа философа и самой философии. Первый тип – философ-платоник, «всеединщик», «всепознаватель», как правило не мыслящий себе философию вне системы, ее воплощающей. Другой тип – мыслитель-«экзистенциальщик», радикальный персоналист, чуткий к драме человеческого существования, к его рискам, к межличностному плану бытия. За этими типами стоят различные, хотя и тесно взаимодействующие и вступающие в спор и конфликт культурные традиции эллинства, с одной стороны, и иудеохристианства с его пророческим и мессианским пафосом – с другой. Это – идеальные типы. В реальной же истории идей мы находим у разных мыслителей разное сочетание указанных идеальных типов. Мы уже говорили об экзистенциальном начале в творческой личности Флоренского. Сейчас мы сосредоточены на раскрытии в ее архитектонике другого типа, типа платоника-«всеединщика», который позитивную науку и мистический гнозис стремится органично соединить друг с другом. Для более ясного представления о конкретном соотношении этих типов и соответствующих им установок посмотрим пристальнее на некоторые ранние работы Флоренского.
Пожалуй, пик экзистенциальных по содержанию тем мы находим в эссе о «Гамлете» (1905). Здесь Флоренский касается проблематики, заставляющей вспомнить работы такого экзистенциально ориентированного мыслителя, как М. М. Бахтин. Конечно, уже сам образ шекспировского Гамлета диктует ему подобный характер его анализа. Флоренский раскрывает двоящееся сознание своего героя. Гамлет, подчеркивает он, выступает носителем несовместимых типов сознания, парадоксально соединяющихся в единстве его личности. «“Гамлет”, – пишет он, – это диалог двух сознаний в датском принце, борьба их, раздирающая несчастного принца»[192]192
Флоренский. Соч. в четырех томах. Т. 1. С. 267.
[Закрыть]. Говорится здесь и о конфликте монолога и диалога, что является сквозной темой Бахтина. Но в отличие от теоретика диалога Флоренский доводит борьбу сознаний внутри личности Гамлета до ее религиозного уровня. Она у него выступает как «теомахия», борьба богов. Показательно для экзистенциального тона этого эссе, что в финале говорится о молитве как «том единственном даре, который в нашей власти». Этот мотив тоже имеет свою параллель у Бахтина, характеризовавшего один из двух пределов познания такими словами: «Второй предел – мысль о Боге в присутствии Бога, диалог, вопрошание, молитва»[193]193
Бахтин М. М. Автор и герой. К философским основам гуманитарных наук. СПб., 2000. С. 227.
[Закрыть].
В раннем творчестве Флоренского значительное место занимает литературная критика. Но уже в эти годы центр его интереса лежит не в экзистенциально окрашенной эссеистике, а в научно-объективных по типу анализа исследованиях мифа, фольклора, языка, имени, церковной догматики и т. п. Фокусом, собирающим их все воедино, выступает религиозный культ. Хотя именно в раннем периоде мы обнаружили повышенное внимание к субъективности, однако уже в эти годы Флоренский относит субъективную сферу реальности к психологическому уровню, отрицая за ней «онтологичность». С годами подобная оценка будет только усиливаться.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































