Текст книги "Лица и сюжеты русской мысли"
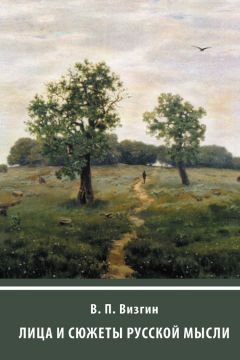
Автор книги: Виктор Визгин
Жанр: Философия, Наука и Образование
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 7 (всего у книги 27 страниц) [доступный отрывок для чтения: 7 страниц]
Несмотря на сказанное выше, Флоренского нельзя представлять себе исключительно как объективиста-имперсоналиста, совершенно чуждого экзистенциальной установке. Как показывает анализ, в его творчестве обнаруживается подвижное соотношение этих фундаментальных ориентаций философского сознания. Безоговорочно считать его платонистски ориентированным ученым, объективирующим и натурализирующим мир, в том числе и Божественный, нельзя. Экзистенциальная установка у него присутствует на всех этапах его творческого пути. И ее происхождение невозможно связать с тем, что Достоевский или Ницше сильно на него повлияли, как, например, это имело место в случае Л. Шестова или А. Камю. Экзистенциальность его мысли прежде всего обусловлена неотделимостью ее от его личного опыта, всегда глубоко и целостно им переживаемого, что, кстати, тесно связано с художественным ядром его личности. Сам научный объективизм был у него формой духовного лиризма. Дары, отпущенные о. Павлу, были и изобильны, и разнообразны. В силу неодолимого внутреннего призвания к священству он заинтересовался опытным и теоретическим постижением христианского культа и пришел к тому, чтобы экзистенциально-личностные его моменты, в качестве субъективно-психологических, поставить в подчиненную позицию по отношению к транссубъективной объективности богослужения. И здесь научным образцом для него служило ему внутренне близкое математическое естествознание, понимаемое им как художественно цельное природоведение в духе Гёте. Философским же примером для его науки о культе выступило платоновское учение об идеях, понятое им как осмысление древних языческих мистерий. В результате заявленный в его раннем программном выступлении мистический гнозис стал развиваться им как объективная наука, которую он последовательно стремился состыковать с математическим природознанием.
Флоренский научно-объективным образом стремился ввести божественное измерение в структуры искомого сверхмира так, чтобы в единой схеме, причем нередко математической или даже физико-математической, разместились бы миры горний и дольний сразу. Такое стремление можно обозначить как позитивизм божественного. Например, указанные миры связывает у него идея предельного перехода, предвосхищаемого в «конце» бесконечного ряда однотипных явлений. Точки инверсии, разрыва сплошности также выступают у него математическими моделями «стыковки» этих полярных миров. Подобный математизм в богословии на его проблематической границе с научным естествознанием вряд ли способен вызвать энтузиазм у философа, ибо собственно философские трудности при таком подходе скорее обходятся, чем выявляются и действительно преодолеваются. Но ученых, особенно представителей точных наук, такой теологический позитивизм не может не привлекать, если только они – не зашоренные атеисты.
Попытка посредством науки объяснить «стыковку» мира горнего и мира дольнего вызывает такой комментарий. Ориентация на точное научное знание как на общий знаменатель, связующий эти миры, сомнительна потому, что наука, на наш взгляд, несмотря на происходящие в ней изменения, остается в пределах нашего, дольнего, мира. Это, во-первых. А во-вторых, Бог не есть объект и божественный, горний, мир не может быть объективирован, то есть быть представлен как объект особого рода, тем самым могущий «соединиться» с нашим миром, научная объективация которого в известных пределах, безусловно, правомочна. Поэтому наука о «стыковке» Бога и тварного мира, по меньшей мере, сомнительна. Между ними всегда существует непреодолимый трансцензус, гиатус, разрыв. Мнимые числа, неевклидовы геометрии, пределы и инверсии, любые самые замысловатые математические и физические объекты бессильны передать трансценденцию Бога по отношению к тварному миру.
Подобное сближение научного естествознания и богословия рискованно еще и потому, что вера в возможность наукообразной объективации горнего мира характеризует оккультизм, натурализирующий духовное начало. Возникающая в связи с этим претензия на синтез науки и религии (и философии) оказывается на самом деле лишь имитацией.
Флоренский в науке – в теории множеств, учении о комплексных числах, теории относительности и т. д. – пытается отыскать средства для научно значимого показа того, как Бог объективно входит в наш мир, как трансцендентное «стыкуется» с имманентным. Но не бесплоден ли подобный синтез науки и веры? Он, как нам представляется, ничего не дает ни науке, ибо в готовой науке подыскивается «переходник» для показа возможности указанной «стыковки», ни богословию, ибо оно деформируется при таком проникновении в него мирской науки. Идея ведомого Бога, на которой с таким пафосом настаивает Флоренский, – идея двусмысленная, можно сказать, рискованная. Слово «ведать» в применении к Богу или совсем ничего не значит, или если и значит, то совершенно другое, чем в обычной науке, какими бы ни были ее объекты. Между опытом природоведения и опытом бого-ведения – разрыв, и никакими научными теориями его нельзя преодолеть. Ведать Бога – дело святого, встречающегося с самим Богом, а не математика или физика. Но это не означает, что математике нечего сказать о мифах и религиях мира, включая и христианскую[146]146
Сказанное не означает, что религиозная философия и богословие не могут продуктивным образом влиять на научное, например математическое, познание. Пример такого влияния мы приводим ниже в тексте «Из записей» (см. с. 323–325).
[Закрыть].
Бог – источник всяческого бытия, но сам Он – не бытие. Бог – сверхбытиен. «Стыковать» Бога и мир объективным способом, а значит, научным, можно лишь при условии допущения для обоих полюсов «стыковки» единого пространства бытия. Разрывность бытия не отменяет его непрерывности как бытия. Ласточки, слоны, человек, ангелы, боги – все это бытие, хотя между названными его формами расхождения очевидны. Если бытие не проблематизировать, если онтологию принимать безвопросно лишь как антитезу психологии и «субъективности», то есть именно как объектологию, то при таком условии действительно можно «соединять», «стыковать» один объект с другим, например бога как объекта с человеком как объектом. Подобный подход, однако, есть не философия, а обобщенная наука. Философская же онтология не может быть некритической, безвопросной и чисто объективистской. А когда Флоренский называет золотое сечение «онтологическим законом», он как раз принимает эту предпосылку «монообъективированного» бытия.
На наш взгляд, вершиной творчества Флоренского наряду с известными его шедеврами – «Столпом», «У водоразделов мысли», «Иконостасом», выступает его автобиографическое сочинение «Детям моим», где опыт богообщения дан не в научно-объективирующей манере безучастной констатации, а как лично пережитая прямая встреча с горним миром. Тем самым все огромное по объему и разнообразию творчество о. Павла оказывается пронизанным экзистенциально-художественным началом, в том числе и те его работы, где он преисполнен пафосом научно-объективного веденья Бога в Его «стыковке» с миром. Но, несмотря на это, по пути сознательно развиваемой экзистенциальной, диалогической и персоналистической мысли Флоренский не пошел.
Бердяев, сознававший себя антиподом о. Павлу, однажды заметил: «П. Флоренский, несмотря на все его желание быть ультраправославным, был весь в космическом прельщении»[147]147
Бердяев Н. Самопознание. С. 152.
[Закрыть]. Он имел в виду, видимо, прежде всего софиологию о. Павла. Но не только. Этой формулой он хотел выразить его уступку эллинскому натуралистическому духу в целом: «Дух эллинский, – говорит он в этой связи, имея в виду весь религиозно-философский ренессанс русского Серебряного века, – был сильнее библейского мессианского духа». Но Бердяев не отдает себе отчета в том, что выражение «прелесть» оправдано при его употреблении строго внутри церковной ограды. В устах же Бердяева, известное дистанцирование которого от православной церковности не было секретом даже для людей Запада, оно звучит несколько странно. Флоренский, напротив, ясно осознавал внутрицерковный статус этого слова: «Поскольку прелесть, – говорит он, – определяется только отрицательно, то будучи весьма важным в смысле церковной дисциплины и в целях практической аскетики, обвинение в “прелести” перестает иметь какое бы то ни было теоретическое значение»[148]148
Флоренский. Соч. в четырех томах. Т. 2. С. 722.
[Закрыть]. Поэтому вердикт Бердяева в адрес Флоренского мы считаем неприемлемым по форме и языку и не будем им пользоваться, так как стремимся как раз рассматривать мысль о. Павла в философско-теоретическом плане, вне рамок церковной дисциплинарности. Что же касается содержания этого выражения, то в нем, на наш взгляд, действительно схвачена определенная черта мышления Флоренского, которую мы бы обозначили как платонистский объектоцентризм. Это, однако, не означает, как мы не устаем подчеркивать, отсутствия экзистенциального измерения в его творчестве. Действительно, анализируя работу «Догматизм и догматика», мы показали, что экзистенциальная установка не чужда ее автору (ориентация на свободу творчества в богословии, понимание фундаментального значения для его обновления «непосредственных переживаний» личного опыта).
«В отце Павле, – сказал о. Сергий Булгаков, – встретились и по-своему соединились культурность и церковность, Афины и Иерусалим, и это органическое соединение само по себе уже есть факт церковноисторического значения»[149]149
Булгаков С. Н. Священник о. Павел Флоренский // П. А. Флоренский: Pro et contra. СПб., 1996. С. 397.
[Закрыть]. С этим, безусловно, можно согласиться, однако при условии, что «Иерусалим» понимается как символ христианской церковности. Если же его считать, как это делает, например, Л. Шестов, символом экзистенциальной мысли, основанной на библейской традиции в противовес традиции эллинской («Афины»), то со словами Булгакова мы уже согласиться не сможем. Чтобы пояснить наше несогласие, посмотрим, как представляет себе философию о. Павел.
Философия в его глазах сущностным образом системна, представляя собой расчлененное понятийное целое, решающее свою основную инвариантную задачу – проблему единого и многого, их синтеза. Итак, если первый признак философии, по Флоренскому, – системность, то второй – постановка проблемы синтеза единого и многого и ее решение[150]150
Флоренский. Соч. в четырех томах. Т. 1. С. 682.
[Закрыть]. Но если экзистенциальной мысли, несмотря на такое определение философии, не отказывать в звании философской, то следует подчеркнуть, что она осознает себя, во-первых, как принципиально несистемную, а во-вторых, не считает оппозицию единое / многое главной для философии и, соответственно, не считает задачу синтеза ее полюсов своей основной проблемой.
Нетрудно показать, что подобный образ философии означает, что о. Павел меряет философию рационалистической эллинской меркой, масштабом «Афин», то есть прежде всего Платоном и его школой. Поэтому та экзистенциальность в исходных установках Флоренского, которую мы отметили, носит ограниченный характер. Основу ее составляет признание опытного характера философской мысли, значимости «непосредственных переживаний» и связанной с этим конкретности метафизики («семь способов чувственного отношения к миру есть семь метафизических осей мира»)[151]151
Там же. Т. 3 (1). М., 1999. С. 41.
[Закрыть].
Сказанное выше о систематизме как существенном признаке философии, по Флоренскому, требует уточнения. Дело в том, что систематизм философской мысли отмечается им в качестве ее необходимой черты по преимуществу в ранних работах. В работах же позднего периода мысль о. Павла, напротив, иногда сознательно и подчеркнуто асистемна. Таковы, например, работы цикла «У водоразделов мысли».
Цикл задумывался как собрание поисковых исследований перспективы, языка, орудия и т. п., не претендуя на то, чтобы быть при этом «философией», хотя его подзаголовок – «Черты конкретной метафизики». «Здесь не дано, – пишет о. Павел, – никакой системы… Но есть много вопросов около самых корней мысли. У первичных интуиций философского мышления о мире возникают сначала вскипания, вращения, вихри, водовороты – им не свойственна рациональная распланировка, и было бы фальшью гримировать их под систему»[152]152
Флоренский. Соч. в четырех томах. Т. 3 (1). С. 35–36.
[Закрыть]. События рождения мысли, ее «начальное брожение» – вот что такое опыты, собранные в этом цикле. Но даже в этих работах сама идея системы (то есть идея организма, органического развертывания многого в конкретное единство) сохраняет для о. Павла всю свою значимость. Так в работе «Итоги», говоря о будущей поствозрожденской культуре, он подчеркивает, что если разрушена система, то целое, на ее основе выстроенное, обречено[153]153
Там же. С. 372.
[Закрыть]. «Система» понимается здесь как конструктивное ядро любой культурной или природной целостности.
Это замечание заставляет нас обратить внимание на трудность исследования творчества о. Павла. Абстрактные этикетки к нему совершенно неприложимы. В ряд профессиональных философов или даже богословов его трудно поставить, что, разумеется, не означает, что он не владел этими дисциплинами. Натура творчески неимоверно одаренная, проявляющая себя в самых разных областях знания, Флоренский, всю жизнь размышлявший о природе символа, сам представляет собой живой символ высоких культурных возможностей России, когда им было отведено столь благодатное, но и столь краткое время для их проявления. Отсюда и такая концентрация разнородных интенций, поразительная плотность мысли и быстрота ее развития.
Бердяев, как это ни странно (если иметь в виду общий контекст его отношения к Флоренскому), считал его если и не экзистенциальным философом, то уж экзистенциальным богословом. Он имел в виду при этом прежде всего ту значимость, которую о. Павел придавал в деле мысли личному опыту. «У него, – говорит он о Флоренском, – можно найти элементы экзистенциальной философии, во всяком случае экзистенциального богословия… Он был инициатором нового типа православного богословствования, богословствования не схоластического, а опытного»[154]154
Бердяев Н. А. Самопознание. С. 150.
[Закрыть]. С этим суждением нельзя не согласиться. Речь действительно может идти только об отдельных элементах экзистенциальной установки, так как по преимущественному типу своей мысли Флоренский был «своеобразным платоником»[155]155
Там же. Курсив наш. – В. В.
[Закрыть].
В чем же это своеобразие? Не в том, что Флоренский разделял типично платонистскую идею всеединства. Здесь он не был оригинален, присоединяясь к тысячелетней традиции, протянувшейся от греков до Вл. Соловьева. Принимая постулат всеединства, Флоренский считает, что философия должна «объяснить все бытие»[156]156
Флоренский. Соч. в четырех томах. Т. 1. С. 683.
[Закрыть]. Материальное, чувственное, идеальное, духовное бытие – все – должно быть осмыслено в своем единстве, в систематическом целом мысли. У молодого Флоренского, которого мы процитировали, прорывается в этой связи восхищение монадологической метафизикой Лейбница, поскольку немецкий философ действительно последовательно сводит множественность к единству, признавая при этом равноправность этих фундаментальных категорий. Поэтому лейбницианство, говорит Флоренский, «есть вечная и неустранимая ступень философского развития». Философ, считает он, не может не быть систематиком, ибо подлинный предмет философии есть Все как единство всей множественности сущего. От него требуется полное, цельное объяснение всего – как целого и как части. Если в основании такого познания лежат «непосредственные переживания», то самую его вершину образует «мистический гнозис». Все многообразие эмпирии должно быть «экономно» сведено и возведено к «Эмпирею» – идеальному и реальнейшему одновременно миру, внутренний смысл которого может быть открыт только упомянутому гнозису.
Здесь мало оригинального. Это – путь познания, открытый Платоном и приобретший особенную ясность и, одновременно, мистическую силу у Плотина. Как общефилософский топос в разных вариациях, он встречается у многих философов на протяжении долгой истории мысли. Оригинальность же трактовки платонизма Флоренским выступает не в теме всеединства, а в вариации трактовки платоновского эйдоса и мира идей в целом.
На первый план в ней выступают два связанных момента – магизм эйдоса как живого лика. При этом приоткрывается путь и для характерной для Флоренского философии имени. Здесь следует говорить уже не столько о платонизме, сколько о неоплатонизме и даже, видимо, скорее о позднем неоплатонизме Ямвлиха и Прокла, чем о плотиновском. Если же по-прежнему иметь в виду платонизм, то в данном случае нужно подчеркнуть, что речь идет о мистериальных корнях платоновской теории идей. Суть платоновских идей, как их интерпретирует Флоренский, обозначается им как «лики… божеств или демонов, являвшихся в мистериях посвященным»[157]157
Флоренский Павел, свящ. Соч. в четырех томах. Т. 3 (2). М., 1999. С. 133.
[Закрыть]. Мистериальный аспект платонизма Флоренский называет «святилищем платоновской философии». В дошедшем до нас сочинении Ямвлиха «О мистериях» этот аспект изложен полнее, чем у самого Платона. Близость к поздним неоплатоникам особенно чувствуется в лекции «Общечеловеческие корни идеализма», прочитанной Флоренским в МДА в 1908 г. Именно здесь развиваются мысли о магическом мировоззрении, лежащем в основе платонизма в широком смысле слова. Разбирая вопрос о сущности платоновского идеализма, Флоренский видит ее прежде всего в магии имени. «Имя, – говорит он, – является узлом всех магико-теургических заклятий и сил»[158]158
Там же. С. 160.
[Закрыть]. Перебрасывая, легко и беспроблемно, мост от языческого магизма позднего неоплатонизма (по содержанию практически совпадающего с народными верованиями эллинистического мира) к христианской догматике, Флоренский, в духе символистской эстетики начала века, произносит изысканный дифирамб «непосредственному мышлению», погруженному в стихию магизма.
Пафос этой лекции – антиинтеллигентская, подчеркнуто романтическая неоплатоническая мистико-оккультная эстетика. Вся жизнь, весь быт народа – будь то язычников эллинистической эпохи, будь то православного крестьянства России – «пропитан и скреплен потусторонним»[159]159
Там же. С. 153.
[Закрыть]. Это мир духовных энергий, свободно переливающихся из одной вещи в другую, и духовных связей, властвующих над видимым миром. Ключом к этим энергиям и силам служит магия. «Маг» и «могучий», говорит Флоренский, – однокоренные слова[160]160
Там же. С. 157.
[Закрыть]. В имени, составляющем духовное ядро существ этого мира, ему дорога его таинственно могучая – и, значит, магическая – сила[161]161
Там же. С. 162.
[Закрыть].
В лекции 1908 г., как в ряде других ранних работ, формируется основа для будущих исследований культа. Некоторые значимые для культологии Флоренского образы и сравнения складываются у него задолго до чтения лекций по этой теме в 1918 г. В качестве примера укажем на колоритный образ пирожка, наспех проглатываемого пассажиром за просмотром газеты в ожидании поезда. Флоренскому он нужен для демонстрации духовной деградации, растущей вместе с ростом неосвященности такой функции жизни, как питание, на самой вершине освящения которой стоит таинство евхаристии.
Распались начала внутренней жизни, вся «жизнь распылилась», нигде «нет цельной жизни». Всюду только «психическая пыль». «Святыня, красота, добро, польза, – говорит Флоренский, – не только не образуют единого целого, но даже и в мыслях не подлежат теперь слиянию»[162]162
Флоренский Павел, свящ. Соч. в четырех томах. Т. 3 (2). С. 149.
[Закрыть]. И проект, предлагаемый им, состоит в том, чтобы собрать «рассыпавшуюся» жизнь в единое органическое целое с помощью культа, который должен быть поэтому всесторонне осмыслен. Ведь именно религиозный культ по своей природе является исцелителем, «восполнителем» раздробленной жизни, восстанавливающим ее в целостном, осмысленном, одухотворенном – освященном – состоянии. Флоренский приходит к пониманию необходимости освящения всего мира, всего быта человека в нашем технизированном мире. Посюстороннее снова должно «притянуть» к себе потустороннее. Иначе мир погибнет в расколотости, «рассыпанности» на части.
Критика современной культуры у Флоренского во многом совпадает с критикой ее у Ницше и экзистенциальных философов, в частности таких, как Г. Марсель. Боль от расколотости мира и человека все они чувствуют необыкновенно остро. Но рецепты восстановления целостности – духовного здоровья и достоинства человека – представляют различным образом. Оставляя в стороне Ницше, сопоставим в этом плане Флоренского и Марселя.
Выход из расколотости мира и человека Флоренский видит в восстановлении древнего анимизма (от animus – дух), лаконично выраженного Фалесом: «Все полно богов». Соответственно, о. Павел стремится восстановить органическое миропонимание: мир есть живой организм, бытие органично и в своих основах духовно и магично. Над миром древнего анимизма у него плавно надстраивается, органически его завершая, христианский культ с его догматикой, выступающей, по мнению о. Павла, венцом языческого миропонимания, нашедшего свое высшее выражение в платонизме. Всеми своими построениями Флоренский подводит к одной мысли – у христианства нет другой философии, кроме платонизма, причем понимаемого именно так, как он его понимает (магизм плюс лик как ядро эйдоса).
О. Павел христианизирует платонизм, причем так, что, вбирая христианскую догматику и сохраняя, одновременно, свой эллинский характер, его платонизм связывает языческую и христианскую религии. Христианизируется ли при этом платонизм на самом деле? Сомнение на этот счет остается. В частности, сомнительно персоналистическое толкование платонизма, «подтягивающее» его до христианского мировоззрения. А именно такую интерпретацию платонизма дает Флоренский, говоря, что «понятие личности» находится «в кровном родстве с учением Платона»[163]163
Флоренский Павел, свящ. Соч. в четырех томах. Т. 3 (2). С. 146.
[Закрыть]. Может быть, некоторое родство и есть, но ведь куда ближе и глубже для понятия личности родство с Христом, чем с Платоном. Сомнительность персоналистического прочтения платонизма видна из контекста, в который оно включено: «Разве “идеи”, “сущности”, “понятия”, “монады”, “личности”, – вопрошает Флоренский, – не в кровном родстве с учением Платона?» На самом деле из такого ряда понятий личность как раз выпадает – ей в нем не место. «Сущности», «монады» и т. д. действительно в кровном родстве с учением Платона об идеях, но не «личности». В личности преодолен сам горизонт метафизического субстанциализма как таковой – как бы последний ни понимался.
Вопрос о личности связан с вопросом о конкретности метафизики. Ее конкретность может пониматься различным образом. Если понимать ее через личность, то надо прямо сказать, что элемента чувственности, или эстезиса, и даже жизни (даже всех их вместе) недостаточно, чтобы обеспечить такого рода конкретность. А именно такую, витоэстетическую, стратегию понимания конкретности метафизики предлагает Флоренский. Платоновская идея в его интерпретации может быть живым духом, сочетающим чувственно-эстетические значения и одушевленность существа («лик»), но при этом не быть тем, что мы, во многом интуитивно, называем личностью, следуя вольно или невольно христианской культурной традиции. Думается, рационально личность вообще неопределима. Несказанное, тайное, невыразимое в ней превосходит то, что может быть постигнуто и определено. Поэтому в однородный ряд с «сущностями» и «идеями» она в принципе включена быть не может. Эллинский рационализм не стыкуется с библейской верой в личного Бога и поэтому не может быть основой для понимания, что такое личность. И сама мистериальная подпочва, к которой как к разгадке платонизма подводит Флоренский, также не стыкуется с христианством: между ними очевидный разрыв. Но для того, чтобы все это осознать, требуется не платонистски-объективистская установка сознания, а экзистенциальная. Сам символизм в свете такой установки преображается из объективного платоновского символизма в символизм экзистенциальный.
Флоренский склонен отождествлять эллинскую философию, и даже только платоновскую ее ветвь, с философией вообще. Если преемство между эллинской мыслью и мыслью христианской им прослеживается и убедительно демонстрируется, то разрыв между ними, напротив, камуфлируется или даже вовсе исчезает из поля зрения. Разрыв означает еще спор и конфликт, борьбу. Увлеченный континуальностью религиозного и интеллектуального развития, преемственностью и однородностью народного сознания во все эпохи истории, о. Павел видит в христианском богословии и тем более в философии органическое завершение эллинской мысли с ее центральной проблемой единства многого: «В собственном смысле, – говорит он, – только Триединица есть ἓν καὶ πoλλά, то есть только в Ней получает решение основной запрос всей философии»[164]164
Флоренский Павел, свящ. Соч. в четырех томах. Т. 3 (2). С. 144.
[Закрыть]. Проблема единого и многого с порога, как нечто само собой разумеющееся принимается за основную проблему всей философии. Даже в качестве гипотезы Флоренский не допускает, что философия может вдохновляться не столько эллинским рационализмом, сколько совсем другой культурной традицией, не «Афинами», а «Иерусалимом». Инвариантной культурной двуполюсности Европы он не допускает. Для него «Иерусалим» не более чем органическое «увенчание» «Афин», то есть те же «Афины», но достигшие своего расцвета и разрешения своей проблемы, о которой мы упомянули выше. И философия, и культура тем самым унифицируются под прессом неоплатоновской парадигмы мысли. Спора, конфликта культурных начал, нескончаемого диалога между ними, их несовместимости без единящего их завершения и «венца» он совершенно не допускает. Персоналистическая философия экзистенциального диалога остается ему чуждой, несмотря на экзистенциальность его творческой личности. Поэтому понятно, что никаких тем и приемов мысли, даже отдаленно напоминающих Кьеркегора, Бердяева или Шестова, мы у него не найдем, как и самих упоминаний об этих мыслителях. У о. Павла в его обширной библиографии отсутствуют любые упоминания о датском мыслителе. А фигура Достоевского, столь важная в этой связи, всегда была для него, начиная с детских лет, фигурой маргинальной, стоящей под знаком истерики и скандала – «неприличного». В отстранении от Достоевского мы видим одно из существенных отличий символизма Флоренского от символизма Вяч. Иванова, имеющих, несмотря на это расхождение, немало общего. Подобное дистанцирование Флоренского от традиции экзистенциальной мысли указывает на то, что духовно и интеллектуально эллинский платонизм им так и не был преодолен.
Если теперь кратко определить различие в понимании личности между эллинским неоплатонизмом и христианским экзистенциализмом, то можно сказать, что для первого личность есть «сущность», «монада», «идея», а для второго она – свобода и существование, экзистенция. Экзистенциальный символизм есть символизм личных воплощенных существ-существований, а не умопостигаемых сущностей, не платоновских ноуменов, как говорит Флоренский. В существовании (экзистенции) сама оппозиция ноумена и феномена преодолевается. Вот в эту экзистенциальную даль Флоренский не заглядывает, хотя, повторяю, как художественно одаренная творческая личность, он, конечно, не чужд тому, что мы ранее обозначили как повышенный градус экзистенциальности, присущий практически всей русской философской традиции[165]165
Визгин В. П. Опыт в творчестве Павла Флоренского // Визгин В. П. На пути к Другому. М., 2004. С. 342.
[Закрыть].
Посмотрим теперь на экзистенциальную философию Марселя. Он исходит из той же самой констатации, что и Флоренский: мир и человек расколоты, внутренняя жизнь человека – в опасном упадке. Но, как светский мыслитель, он не богословствует, а лишь философствует вблизи теологии, не переходя границы между ними. Французский философ не считает платонизм единственно возможной формой христиански ориентированной философии. Он не считает таковой и аристотелизм. Марсель стоит на позиции христианского экзистенциализма, хотя он и возражал против подобной «этикетки», потому что она, как и всякая абстракция, искажает, нивелирует конкретно-личный характер его экзистенциальной мысли. Как безальтернативная база для мировоззренческого поворота в ситуации трагической расколотости мира и человека платонизм им отвергается. Но в то же время он и принимает его, поскольку платонизм со всей силой утверждает примат духовного начала по отношению к началу материальному и тем самым служит защитой от чрезмерных претензий любого позитивизма и материализма. Сама же платоновская теория идей не принимается Марселем постольку, поскольку они истолковываются как обезличенные абстрактные идеальности. Заметим, что, на наш взгляд, «лики» как интерпретации идей Платона о. Павлом в этом отношении не означают приемлемой для христианского сознания их персонификации. Статус «ликов» поэтому в лучшем случае амбивалентен: несмотря на терминологически оформленный (близость лика и личности уже по самому корню этих слов) шаг к «личности» и «конкретности», в них слишком еще весомо их натуралистическое содержание, купирующее свободу человеческой личности. Поэтому платонизм в редакции Флоренского все равно вряд ли бы устроил французского философа, если бы он с ним познакомился.
Суть экзистенциальной мысли Марселя – христиански ориентированный персонализм соборного типа (у него – принцип интерсубъективности). В отличие от Флоренского, Марсель не признает оппозицию «единое – многое» основной в философии, задающей ее главную инвариантную проблему. Поэтому французский философ не разделяет установку на философию всеединства, развиваемую русским мыслителем. У Флоренского библейский менталитет как бы отступает на задний план перед неотразимой для него диалектикой платоновского идеализма. Марсель же, напротив, отбрасывает саму идею диалектики и идеализма в эллинско-германском духе как экзистенциально несостоятельную. Поэтому диалектические схемы Флоренского, например альтернатива «реализм или терминизм», понятая как оппозиция идеализм / позитивизм[166]166
Флоренский. Соч. в четырех томах. Т. 3 (2). С. 85.
[Закрыть], неприемлемы для Марселя. Он не «реалист» во флоренско-платоновском смысле, но и не номиналист («терминист»). В классификации философских учений, идущих от фразы Порфирия, с которой началась история спора реализма и номинализма об универсалиях, для экзистенциальной мысли вообще места нет. Поэтому и ей в свою очередь нет дела до этой и подобных ей классификаций с их якобы безупречно принудительной логикой. Она их просто обходит, как Кьеркегор в свое время «обошел» Гегеля с его «абсолютной» логикой.
В отличие от Марселя, Достоевский и Ницше не слишком глубоко задели Флоренского. Можно сказать, что экзистенциального направления мысли как такового Флоренский просто не заметил. Как убежденный платоник, он вряд ли мог распознать в Достоевском, Ницше и Кьеркегоре (о котором он, видимо, вообще ничего не слышал) нечто конкурирующее с самим Платоном и способное во многом определить развитие европейской философии в XX в.
Флоренский и Марсель в одно примерно время читали книги Э. Гуссерля. Флоренскому немецкий феноменолог был дорог как платоник, «реалист наших дней»[167]167
Флоренский Павел, свящ. Соч. в четырех томах. Т. 3 (2). С. 97.
[Закрыть]. Пусть это – некоторое преувеличение и, строго говоря, в полной мере реалистом-платоником Гуссерль все же не был, оставаясь феноменологом-трансценденталистом без метафизики. Но для нас важно, что симпатия Флоренского к Гуссерлю, заметная в его ранних работах, связана именно с платонистским мотивом в феноменологии немецкого философа. Однако в поздний период своего творчества Флоренский изменяет свою оценку Гуссерля. Критика психологизма и позитивизма со стороны платонизма меньше привлекает его внимание. Теперь он оценивает целые эпохи мысли и культуры, исходя из глубоких религиозных размежеваний. В «Иконостасе», примыкающем к циклам «Философии культа» и «У водоразделов мысли», Гуссерль оценен как философ-идеалист, вышедший из протестантской религиозной традиции, с которой остро полемизирует о. Павел.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!








































