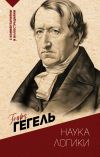Текст книги "Философия науки Гастона Башляра"

Автор книги: Виктор Визгин
Жанр: Философия, Наука и Образование
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 12 (всего у книги 24 страниц) [доступный отрывок для чтения: 8 страниц]
7. Противоречия и пределы концепции эпистемологического препятствия
Теория эпистемологических препятствий Башляра, как можно было видеть, содержит немало противоречий. Она стремится разоблачить валоризации, которые «налипают» в процессе познания на научные понятия, методы и теории. Но сам проект освобождения познания от субъективизма страдает все тем же субъективизмом!
Действительно, по Башляру, объективность выступает как своего рода правильная мораль, как субъективное качество исследователя, как его психологическая манера корректно вести себя в процессе познания. Башляр, если не вполне, то во многом, проходит мимо объективных основ объективации знания. И поэтому его «психоанализ объективного познания» оборачивается своего рода «психологией», моральным профетизмом, почти проповедью, нацеленной на обращение заблудших душ к свету истинной чистоты души, необходимой для того, чтобы ее познавательные акты были объективными.
Эти черты башляровского учения о препятствиях были подмечены М. Серром [116]. Те «идолы», с которыми борется Башляр (например, алхимия), оказываются на одном уровне (или одного порядка) с теми идеалами, которые вместо них он стремится утвердить. «Новый научный дух», прокламируемый философом, как и алхимическое таинство, достигается благодаря своего рода инициации и катарсису. То, что Башляр проповедует, есть моральное преображение познающего человека, его очищение от пороков, лежащих в подсознании. Например, Башляр анализирует такое препятствие, как скороспелое и неоправданное унификаторство. Башляр, считает Лекур, неосознанно использует понятие идеологии, которое у него, однако, как бы «смазано» натуралистическо-психологическим морализмом [102, с. 129]. Примеры унификаторства, которые приводит Башляр, взяты им, в частности, из знаменитой в свое время книги барона де Маривеца и Гуссье «Физика Мира» (Париж, 1780 г. в 9 томах). Во-первых, Башляр видит препятствие уже в самом жанре этого трактата: в данном случае это – труд эрудитов. Указанные авторы считают своим достижением описание 49 различных теорий мирового устройства, которое нацелено на то, чтобы в конце концов дать свою единственную теорию. Но, во-вторых, эти почтенные авторы XVIII века пишут свое многотомное сочинение с презумпцией, что опыт не может себе противоречить, что природа не ошибается и едина, что верно в природе для малого, верно и для большого, что в природе господствует единый план и т. п. И обнаруживая где-нибудь малейший намек на противоречие, на дуализм, дополнительность или неоднородность, они автоматически подозревают за этим какую-то ошибку, которую они призваны устранить, приведя все обсуждаемое к высоко ценимому ими единству. Трудности механистического объяснения мирового устройства (как объяснить само наличие материальных тел, наделенных массами, как объяснить изначальное движение, если оставаться на почве механики?) они устраняют, прибегая к унитарной теологии. «Что было непонятно с точки зрения механики, с позиций анализа физического действия, становится понятным, когда обращаются к божественному воздействию», – говорит Башляр, разбирая препятствие унификаторства на примере этого трактата [55, с. 87].
Это – интересный анализ. Башляр находит забытых авторов и обнаруживает немало поучительного и для истории, и для эпистемологии. Но он ничего нам не говорит о том, какие социальные структуры эпохи Просвещения обусловливали такую преднаучную науку. Он оставляет в тени те социокультурные исторические реалии, которые выходят за рамки индивидуальной психологии.
Что же именно, по Башляру, стоит за этой позицией эрудитов, старающихся во что бы то ни стало унифицировать природу? Он не находит ничего, кроме «гордости», т. е. личного, субъективного качества, проявившегося у данных ученых и лежащего в основе данного вида эпистемологического препятствия: «В фундаменте знания, утверждающего свою всеобщность за пределами опыта, там, где эта всеобщность может встретить возражения, всегда обнаруживается гордость» [55, с. 87]. И так каждый вид эпистемологического препятствия прикрывает собой человеческий порок или недостаток.
На наш взгляд, Башляр потому не выходит на более глубокий уровень анализа проблемы препятствий, что он сам как бы принадлежит эпохе Просвещения с его морализмом, индивидуализмом, рационалистическим пафосом и своеобразным квазирелигиозным сциентизмом. Для Башляра борьба науки с предрассудками так же актуальна, как и для просветителей XVIII века. В своей концепции препятствий Башляр выступает как воинствующий рационалист и моралист-реформатор. Его задача – выявить неподконтрольные разуму аффекты, препятствующие правильному функционированию познавательной способности. Если разум освободить от этих «теней», то он, обретя автономию и контролируя подсознание, как считает философ, беспрепятственно будет совершенствоваться, открывая новое и развивая природно присущий ему динамизм. Наука, по Башляру, это не данность, не готовый результат. Наука – процесс сциентификации мира и человека, борьба за науку и научность. В этой позиции, развернутой в учении о препятствиях, обнаруживается сложность такой фигуры, как Башляр, в которой сплавлены вместе и черты «нового научного духа», и черты идеологий и установок прошлого – Просвещения и контовского позитивизма.
Подведем итоги нашему анализу концепции эпистемологических препятствий. Отметим наиболее важные моменты, наиболее острые противоречия. Прежде всего, укажем на оппозицию «научное понятие – валоризированное представление», лежащую в ее основе. Действительно, валоризированное представление (термин наш, но именно о такого рода образованиях говорит Башляр) в силу своего оценочного характера служит препятствием, как считает эпистемолог, объективному познанию, мыслимому им нацело свободным от валоризации. «Всякий след валоризации, – говорит Башляр, – плохой знак для познания, стремящегося к объективности» [55, с. 65]. Оценка – знак бессознательного предпочтения и уже поэтому она несовместима, считает Башляр, с объективным знанием. Характерным признаком валоризированного представления является то, что оно всегда двузначно (плюс и минус в оценке). Примером первого («плюс») служит оценка явлений коагуляции как симптома жизни в качестве способа биогенеза в жидких средах (Валлериус, 1780). Примером второго – позиция Б. Виже-нера (1622), считавшего, наоборот, коагуляцию приметой смерти. Биполярность валоризированного представления отличает его от объективного научного понятия, структура которого запредельна операции оценки. И поэтому Башляр выдвигает как задачу «психоанализа объективного познания» радикальную девалоризацию научной культуры [там же, с. 65]. В таком направлении и развивается коллоидная теория коагуляции, освобождающая это явление от виталистских его интерпретаций (со знаком плюс или со знаком минус – одинаково).
Но свободно ли, на самом деле, объективное познание от оценки? Сама оппозиция «объективное – оценочное» указывает на то, что не свободно, что сама «оценка» оценена негативно, а «безоценочность» оценена позитивно. Наука, таким образом, раскрывается как сгусток противоречий, как осуществленный парадокс страстного бесстрастия, ценной безоценочности, субъективной объективности и т. п. «Истина» оказывается средоточием самой утилитарности, но, очевидно, в тех социокультурных системах, для которых «режим истины» (выражение Фуко) является способом их функционирования и сохранения. Башляр не выходит на анализ этих систем в их исторической конкретности, оставаясь на позициях сциентоцентризма психологического толка.
Сциентоцентризм означает, что объективное познание рассматривается Башляром как самоцель бытия, а наука – как фокус всей культуры, всей эволюции разума, цивилизации и всего мира. В этом выдвижении научного познания на позиции абсолютного приоритета в системе культуры можно увидеть гегелевскую ориентацию мысли, согласно которой самопознание мирового духа приводит, как к своей кульминации, к науке логики, венчающей все познание, весь мировой процесс. Конечно, в этом прославлении науки прочитывается с полным на то основанием и философия Конта[33]33
На это справедливо указывает Анкарани: «Вера в науку, в то, что в ней и только в ней реализуется самая высокая судьба человека, не слишком уж отлична от аналогичной позиции Огюста Конта» [45, с. 80].
[Закрыть]. По Башляру, только в науке вполне реализуется динамическая суть бытия. Наука, скажем мы, пытаясь реконструировать метафизические основания этой позиции, реализует бытие как абсолютное становление, как чистую динамику прогресса. Становление, движение, прогресс – это, по Башляру, суть бытия, его высшее и подлинное определение. Они вполне раскрываются именно в объективном научном познании, в его динамизме и прогрессе. Наука предельно высоко оценена философом потому, что в ней он видит самое полное осуществление сущности бытия вообще – динамизм, ускоряющееся движение, нелинейно нарастающее становление. Это как раз тот самый «бергсонизм навыворот», о котором мы уже говорили. И, как у Гегеля, у Башляра жизнь («жизненный порыв») отождествлена не с иррациональной стихией, а с разумом, который, в свою очередь, сведен к научному разуму. И отличие гегелевского подхода от башляровского в том, что в первом наука подчинена спекулятивной философии как высшей форме научности, а во втором, наоборот, философская спекуляция вторична по отношению к научному познанию. Гегель здесь скорректирован Контом и вместо «объективного идеализма» классической философии мы имеем своего рода «эпистемологический идеализм» (выражение Ваде [117]) или «эпистемологическую иллюзию» (выражение Лекура [102, с. 134])[34]34
Данный контекст анализа показывает, что позиции этих двух исследователей Башляра не столь резко расходятся между собой, как это иногда считают, прежде всего сам Ваде, полагающий, что Лекур относит Башляра к представителям диалектического материализма [117, с. 286].
[Закрыть].
Подъем науки описан Башляром как внутреннее духовное преображение, как интимное душевное усилие, как преодоление «нечистого мира» непосредственной витальности, но не в процессе конкретной истории с ее интерсубъективными силами, а как личная аскеза, реформа души, как очистительный опыт каждого, разоблачающий подсознание, философские ловушки, поспешные генерализации, наивные предрассудки. Иными словами, психологизм отличает изображаемую Башляром «поступь» научного разума от ее картины у Гегеля, у которого индивид и его личное «делание» вплетены в сверхличные необходимости и тем самым изначально объективированы. Моральная установка следует из все той же валоризации объективного познания, которое предстает как высшая ценность, как идеал и образец динамизма, а ученый – как подвижник становления.
Другим важным моментом сциентоцентризма Башляра выступает его абсолютистский нормативизм. Философ считает, что существуют абсолютные нормы научности и что он, Гастон Башляр, их знает. Эти нормы, или идеалы, неизмены. Содержательно он представлен в современном математическом естествознании. Его характерные черты – «абстракция» и «математическое конструирование», «алгебраизм» и «дискурсивность» в противовес «интуиции» и «геометрии», «прикладной рационализм» и «рациональная техника». Прогресс задан, по Башляру, четкими и, что важно, неизменными критериями: все бо1льшая и бо1льшая невизуальность научных понятий, все больший и больший их системный характер, все большая и большая отдаленность от мира непосредственности, чувственности, образности, от мира воображения и все бо1льшая близость к миру абстрактного разума.
Свою книгу, посвященную анализу препятствий объективному познанию, Башляр заканчивает гимном Школе: «Школа длится всю жизнь», «наука совместима только с вечной Школой», «общество будет создано для Школы, а не Школа для Общества» [55, с. 251–252]. И как ни парадоксально, в науке, понимаемой по модели Школы, торжествует несмотря на все разрывы «непрерывная культура»[35]35
«Принцип непрерывной культуры лежит в фундаменте современной научной культуры», – говорит Башляр, в качестве его символа цитируя известное стихотворение Киплинга «If —» («Заповедь», перевод М. Лозинского) [98, с. 141, 379].
[Закрыть]. «Только в научном творчестве, – говорит Башляр, – можно любить то, что разрушают, можно продолжать прошлое, его отрицая, можно почитать своего учителя, споря с ним» [там же]. Современная наука характеризуется повышенной «школьностью», если так можно выразиться, пытаясь реконструировать мысль Башляра. Действительно, современная наука, согласно его позиции, чрезвычайно трудна (так как она осуществляет полный разрыв с преднаучной ментальностью, которая препятствует ее усвоению), но именно поэтому она полна воспитательного значения, учит и наставляет дух.
Какие механизмы борьбы с препятствиями (кроме психоаналитического прояснения), с лежащими в их основании «инстинктами» и валоризированными представлениями предлагаются в концепции Башляра? Основным механизмом, гарантирующим «заслон» против препятствий прогрессу науки, является «надзор» (surveillance). «Надзор» – это психологическая функция, независимо от того, осуществляется ли она коллективно (и тогда Башляр говорит о научном сообществе как надзирающей инстанции) или же индивидуально (и тогда Башляр говорит об интеллектуальном надзоре личности) [58, с. 65–81]. Психологизм и педагогизм Башляра «блокируют» развитие его идей об эпистемологических препятствиях. Действительно, указывая на научную культуру и на научное сообщество как на инстанции, ограничивающие действие препятствий, он практически не раскрывает их структуры, их исторической конкретности. «От сенсуалистической и субстанциалистской истории электричества в XVIII веке, – говорит Башляр, – ничего, абсолютно ничего не остается в научной культуре, строго охраняемой (surveillе1e) сообществом специалистов по электромагнетизму (citе1 е1lectricienne)» [58, с. 141]. Но о том, как ведется эта «охрана», этот «надзор», какова его структура, кодекс, полномочия и т. п., мы ничего не узнаем из работ эпистемолога.
Психологистский фундамент его концепции препятствия (и концепции науки и ее развития в целом) мешает пониманию социокультурных механизмов «защитного» пояса науки. Наука, по Башляру, – средоточие саморазвивающегося психического динамизма. Исходя из такой модели науки и замыкаясь в пределах психологических терминов, Башляр ограничен в своих историзирующих рефлексию науки потенциях. И вместе с этим, как подчеркивает Анкарани, «раскрывается простор для идеалистических тенденций, присутствующих в его концепции науки» [45, с. 84]. По сути дела, борьба с препятствиями сведена у Башляра к борьбе интеллекта с воображением. Надзор ума за воображением и есть, по Башляру, основное условие защиты научности науки, гарантия ее объективности. И Башляр подробно описывает, сколько степеней надзирающей саморефлексии может содержаться в научном духе, отмечая, что четвертая степень самонадзора уже проблематична [58, с. 79–81]. Научная объективность выступает у Башляра как индивидуальная этическая ценность, как аналог моральной святости, достигаемой борьбой с греховной природой. Вступление в объективное знание аналогично достижению высшего морального совершенства: надо пройти своего рода путь аскезы, самоотречения, проявить упорство и постоянство в надзоре за «демонами» воображения, высокую энергию и динамизм психики для того, чтобы войти в царство объективного знания, постичь трудную науку в ее подлинности. И понятно, что в такой перспективе научное сообщество становится орденом посвященных. Психологизм в модели науки соседствует у Башляра с религиозно-моральным обоснованием объективного познания (наука как высшая религия).
В связи с анализом концепции препятствия сделаем и такое замечание. Башляр не историчен в своем учении о препятствиях, потому что не замечает их диалектики: то, что на определенном этапе развития выступает как препятствие, на более раннем этапе может выступать как средство, способствующее развитию объективного познания. Если уж стремиться к разработке диалектики истории познания, а Башляр к этому явно стремится, то следовало бы рассматривать препятствия в паре с ускорителями прогресса науки. Между «препятствиями» и «ускорителями» существует взаимосвязь исторического перехода. Иными словами, функции социокультурных образований в их отношении к динамике объективного познания амбивалентны. Одно и то же явление культуры, например герметизм, может служить и катализатором научного прогресса и тормозом для него [8].
Культурной формой очищения объективного познания от препятствий выступает катарсис, внутренняя победа объективного духа над воображением, мифом и склонной к умозрительным обобщениям философией. Башляр в своей работе о препятствиях исследует становление автономной научной культуры, субъектами которой выступают специализированные сообщества ученых. Автономная культура объективного научного познания рассматривается у него как обособившаяся и тем самым защищенная от всяких инокультурных формообразований – от литературы[36]36
«Литературность – это важный знак, и часто плохое предзнаменование, преднаучных книг» [55, с. 83].
[Закрыть], мифа, метафизики (философии), теологии и даже космологии[37]37
«Донаучная химия остается связанной с космологией» [58, с. 111].
[Закрыть]. Но, как мы уже сказали, этот аспект рассмотрения науки лишь намечен, поставлен в повестку дня, будучи ограничен в своей разработке из-за психологического горизонта всей концепции.
Самостановление науки как особой автономной сферы (в глазах Башляра, безусловно, центральной для всей культуры) – вот основная тема исторической эпистемологии. Развитие эпистемологии после Башляра подойдет к раскрытию противоположной стороны – позитивных связей науки и ненауки (литературы и науки, науки и идеологических форм сознания, науки и искусства и т. п.). Если у Башляра в понятии «научной культуры» акцент сделан именно на ее определении как научной, как автономной сферы производства объективного знания, то у структуралистских его последователей, напротив, наука как бы растворяется в культуре, становясь одной из проекций культурного космоса эпохи наряду с искусством, литературой, философией. Таким образом, вектор движения от мифа к научному логосу сменяется противоположным вектором – от логоса к мифу.
Глава четвертая
Концепция историографии науки
1. Историографическая программа Башляра как следствие новых философских и эпистемологических установок
Для французской эпистемологии характерна традиция, в рамках ккоторой теория науки развивается в тесной связи с ее историографией. «Наиболее живым и плодотворным сектором французской эпистемологии, – отмечает ее итальянский исследователь, – является тот ее раздел, который максимально связан с историей науки. Связь эпистемологии с историей науки идет от Конта. Роль истории науки по Конту огромна, если только вспомнить его историософию с ее законом трех стадий. После Конта историографический интерес разделяли различные философы и ученые – от Дюгема до Брюнсвика и Абеля Рея» [109, с. 12]. Именно к этой традиции примыкает и эпистемология Башляра.
Прежде всего необходимо выяснить, как в концепции Башляра соотносятся логика науки, эпистемология и историография науки. Мы специально употребили здесь выражение «историография науки», так как в текстах Башляра «история науки» часто обозначает исторический процесс развития науки, а не дисциплину, предназначенную для его описания и объяснения.
Башляр отдает должное логическому анализу научных теорий как необходимому средству для того, чтобы раскрыть формальные структуры знания. Но в качестве философии науки он выбирает не формализм, не логицизм, а рационализм: рациональное для него это более широкое и более адекватное обозначение самой сути научного мышления. В этой упорной приверженности к рационализму и в осторожности по отношению к логицизму проявляется принадлежность Башляра к французской традиции в рефлексии науки, отличной от традиции англосаксонской. Действительно, анализ науки и у Л. Брюнсвика, и у А. Рея базировался на своего рода философии рациональности, рассматриваемой в широкой исторической перспективе. Существенно в связи с этим и то обстоятельство, что, начиная с Пуанкаре, французская математическая традиция (в значительной мере и традиция философии и истории науки) руководствовалась идеалом конструктивистской программы, ориентируясь скорее на проблематику, разрабатываемую в области математической физики, чем на математическую логику и те направления, которые развивались в связи с попытками преодоления кризиса в основаниях математики. «Логика и аксиоматизация стали мишенью для теории, признающей познавательный и “прикладной” характер математического мышления», – говорит П. Редонди, исследовавший значение специфики французских традиций для становления исторической эпистемологии Башляра [113, с. 80]. Соотношение логики и эпистемологии резюмируется Башляром так: «Изучение логических основ знания не исчерпывает эпистемологического его изучения» [58, с. 18].
По отношению к историографии сама эпистемология выступает как логика. Эпистемологический анализ развития знания, как он понимается Башляром, принимает за исходный пункт познавательное отношение: наука есть познание реальности, а именно развертывание рационального ее освоения. Поэтому рост рациональности, приближение знания к идеалам рационализма – активного, конструктивного, эффективного – и есть эпистемологическая ось развития знания. Эпистемология учит логически отпрепарированной истории, не той, которая была в ее эмпирии, внешнем многообразии, своего рода хаотичности и случайности происшедшего, а той, которая должна была бы быть, если бы разум работал без помех. В эпистемологическом прочтении истории категория историчности знания совпадает с категорией рациональности. Резюмируя свою первую и мало известную среди философов работу по истории математической термологии XVIII–XIX веков. Башляр говорит: «Развитие науки не есть просто историческое развитие, оно пронизано единой силой, можно сказать, что порядок плодотворных мыслей есть своего рода естественный порядок» [47, с. 158]. По Башляру, история познания есть познание и она проясняется эпистемологически в свете актуальной познавательной работы, решающей «сквозную» проблему (например, познания теплопроводности твердых тел, анализу которой посвящена его первая историко-научная работа, процитированная нами выше).
Теория истории науки, принципы ее историографического анализа вытекают у Башляра из его теории науки. В противовес позитивистской концепции, вопреки эмпиризму и конвенциализму, Башляр считает, что максимум реальности дан не в первичных эмпирических данных, не в ощущениях, т. е. не на «входе» познания, а на его «выходе» – в математизированной теории. И поэтому познание не есть просто экономное описание данностей ощущений, а есть проникновение в новые пласты реальности, открываемые активностью математического разума. Математическое мышление, в частности в физике, выступает для Башляра как эвристическое и содержательное. И в этом смысле надо понимать процитированное выше высказывание, согласно которому развитие науки не есть просто история, но есть гармонизация мира рациональных идей, перебрасывающая мост к гармонии самой реальности, к порядку самой природы (l'ordre naturel). Это положение резюмирует суть эпистемологического ви1дения истории науки: наука есть рациональное познание реальности, «логика идей» есть выражение «логики вещей». Таким образом, не случайности чисто исторического «бывания» входят в эпистемологическую историю науки, а необходимости «схватки» разума с природой. И та «единая сила, пронизывающая историческое развитие науки», о которой говорит Башляр, есть динамика этой борьбы, этого – всегда частичного – совпадения разума и природы, рациональной способности в ее действии с предметом познания. Аподиктичность самого предмета познания – вот в конце концов та «единая сила», которая задает путь эпистемологической истории. Причем этот предмет минимально дан в ощущениях и максимально в развивающейся идее, в рациональной конструкции, образцом которой выступает математика. «Именно идея, – говорит Башляр, – видит особенное во всем его богатстве, по ту сторону ощущения, которое схватывает лишь общее» [47, с. 159].
Констатация познавательного примата математической идеи над непосредственным фактом, данным в ощущении, отвечает разрыву Башляра в теории науки с позитивизмом. Этот разрыв он стремится оформить и в историографической концепции. И здесь путь его мысли достаточно извилист. Порывая с эмпиризмом и конвенциализмом Маха и Дюгема, на французской почве развивавшим идеи австрийского ученого, Башляр в известной мере возвращается к основоположнику позитивизма – Огюсту Конту. Но только до определенных границ. Редонди справедливо отмечает «глубокую преемственность между Контом и установкой Башляра как историка науки» [113, с. 181]. В частности, он подчеркивает, что общими моментами у Конта и Башляра выступает их видение науки сквозь призму истории, идеализация сообщества ученых или «града ученых» (citе1 scientifique) и, наконец, упорное непонимание обоими философами позитивной роли философии в научном прогрессе [113, с. 178].
Однако нетрудно видеть и различия. В частности, Башляр совсем по-иному понимает роль и значение математики в естествознании, чем Конт. Это касается, например, соотношения химии и математики. Башляр разделяет точку зрения, высказанную Ю. Либихом, который был не согласен с Контом, считавшим, что характеру химических явлений чужд математический подход [75, с. 578]. Он считает, что роль математики в химии столь же существенна и несет ту же эпистемологическую нагрузку (или почти), что и в физике [60, с. 4]. Химия, как и физика, переросла, считает Башляр, стадию эмпирической науки и стала рациональной, а тем самым и математической наукой.
Итак, историографическая программа Башляра вытекает из его эпистемологических установок, которые сами в свою очередь сложились в силовом поле двух полюсов: во-первых, как попытка извлечь эпистемологический урок из революций в естествознании (в физике, прежде всего, а также и в химии), а во-вторых, как критическое переосмысление философии науки в современной Башляру Франции 20–30-х годов. Отбросив позитивистский эмпиризм как основание теории науки, Башляр устремился к выработке «нового рационализма», который он разрабатывал на материале истории науки. История науки в ее традиционной форме служит, как считает Башляр, лишь материалом для эпистемолога, обращающегося к историческому анализу. Чем же отличается позиция «чистого» историка от позиции эпистемолога-историка, по Башляру? Во-первых, тем, что если история историков в принципе «враждебна любому нормативному суждению», то история при эпистемологическом подходе к ней нормативна. «Если хотят судить об эффективности мышления, надо встать на нормативную точку зрения», – говорит Башляр [55, с. 17]. И действительно, если история это – познание (основной тезис историографической концепции Башляра), то она, как и познание, должна быть судима. Оценка неизбежно врывается в историю, если последняя рассматривается как постижение реальности. Но с какой позиции надо, по Башляру, судить историю? Конечно, с позиций разума, причем, как он это подчеркивает, с позиций развитого разума, высокой рациональности, содержащейся в современном знании. Современность становится судьей над прошлым. Этот презентизм или, как его называет сам Башляр, «модернизм» – неизбежное следствие его историографической концепции, отождествившей историю с рациональным познанием, протекающим по определенным нормам и стремящимся к определенному фиксированному идеалу. Очевидно, что такая модернизаторская установка является следствием той посылки, согласно которой история есть познание той же самой неизменной реальности. Здесь, между прочим, обнаруживаются и противоречия концепции Башляра. Действительно, у него нет рационально оформленной, эксплицитно развернутой онтологии. «Психического динамизма» разума для этого явно недостаточно. Динамика разума у него постулируется, а не выводится. А попытаться вывести ее можно было бы из динамики социокультурного комплекса в исторически конкретном его функционировании. Однако такой подход к анализу науки нацело или почти выпадает из концепции Башляра.
Итак, эпистемолог осуществляет рефлексию второго порядка по отношению к работе историка. «Эпистемолог, – говорит Башляр, – должен произвести выборку документов, собранных историком» [55, с. 17]. Эпистемолога в его обращении к истории интересует не все, а лишь процесс совершенствования рационального схватывания природы в рамках комплекса «теория – эксперимент». «Усилие рационального и конструктивного начала – вот что должно захватить внимание эпистемолога», – говорит Башляр [там же]. И далее он проводит противопоставление между профессиональным историком, с одной стороны, и эпистемологом – с другой, ставшее впоследствии особенно часто цитируемым: «Историк науки должен брать идеи как факты. Эпистемолог же должен брать факты как идеи, вписывая их в систему мышления. Плохо понятый эпохой факт остается фактом для историка. Но для эпистемолога он препятствие, контрмышление» [там же].
Прокомментируем эти слова. В свете нами сказанного они становятся ясными: Башляр требует от эпистемолога относиться к истории как к современному познанию, как к актуальной познавательной работе. «Факты», то, что считалось фактами в определенную эпоху, эпистемолог обязан проверять и оценивать, соотнося их с целым познавательным комплексом, сформированным в настоящее время, – с системой мышления по поводу данной проблемы. И в свете такой проверки «факт» может оказаться и не фактом, а артефактом. Итак, для эпистемолога нет «ничего святого» в истории мысли: и факты и идеи он подвергает строгой оценке, пристрастному суду, где судьей выступает современный разум, озабоченный одним – объективным познанием. История судится эпистемологом как познание, без всяких скидок на «историю» (на незрелость науки, на неблагоприятный культурный контекст и т. п.).
Историк же ведет себя совсем иначе. «Факт», неправильно (с современных позиций) проинтерпретированный эпохой, которую он изучает, для него «святой факт» – он его бережно регистрирует, вставляя в полотно исторического повествования. Даже идеи историк не трогает, какими бы они ни были – вопроса об их правильности с точки зрения современной науки он не касается или может по крайней мере не касаться. Напротив, для эпистемолога мало того, что данная идея существовала: ему нужно, чтобы она была правильной, или по крайней мере продуктивной, плодотворной идеей, ведущей к будущему, т. е. современному, состоянию науки. Для эпистемолога, говорит Башляр, «идея должна иметь нечто большее, чем доказательство своего существования, она должна обладать духовной судьбой» [57, с. 11]. Идея флогистона, он считает, «духовной судьбой» не обладает. Поэтому она – не предмет анализа эпистемолога. А «историк науки, который ею занимается, – замечает Башляр, – должен знать, что он работает в сфере палеонтологии исчезнувшего научного мышления» [62, с. 25]. Но это не совсем точно: эпистемолога Башляр тоже может допустить к анализу флогистики, но исключительно как к эпистемологическому препятствию. Исторический анализ тем самым превращается в психоанализ объективного познания, нацеленный на терапию мышления, подверженного «болезням» познания. В качестве такого эпистемолога-терапевта выступает сам Башляр в своей книге «Образование научного духа» [55]. Таким образом, история в эпистемологическом ключе служит и для педагогических целей, так как «демоны», «помехи», «препятствия» тормозят не только научное творчество, но и усвоение его результатов.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?