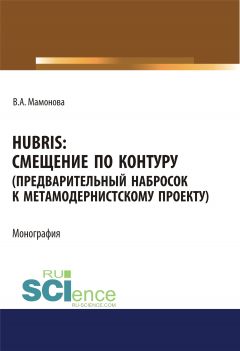
Автор книги: Виктория Мамонова
Жанр: Культурология, Наука и Образование
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 5 (всего у книги 10 страниц)
Последовательно вопрос о существовании как таковом стали развивать экзистенциалисты в ХХ в. Хотя снятие сущности существованием отмечает одну из звеньев логической цепи, выстроенной Гегелем: «…существование следует понимать не как предикат или определение сущности, не так, чтобы положение о нем гласило: сущность существует, или обладает существованием, а так, что сущность перешла в существование; существование – это ее абсолютное становление внешней, по ту сторону которого она не осталась. Положение о существовании, следовательно, гласило бы: сущность есть существование; она не отлична от своего существования. Сущность перешла в существование, поскольку сущность как основание уже не отличается от себя как основанного или поскольку это основание сняло себя»[84]84
Гегель Г.В.Ф. Наука логики. – СПб.: Наука, 2005. – С. 438.
[Закрыть]. Намеченная Гегелем метаморфоза очень интересна в том плане, что при раскадровке она фиксирует не «падение» экзистенции из или от эссенции, а переход эссенции в экзистенцию, в явленность. А значит, «явление есть поэтому, прежде всего, сущность в ее существовании; сущность наличествует в нем непосредственно»[85]85
Там же. – С. 453.
[Закрыть]. И в этой точке перехода эссенции в существование, в явление и смену явлений Гераклит встречается с Гегелем, чтобы передать ему эстафету. От идеи становящейся эссенции – Бога – Другого – Смысла, т. е. становящейся как еще-не-бытийствующей, не исполнившейся, след ведет к отсутствующей субстанции, к Ничто. Другой след к Ничто ведет от первоначального отождествления бытия и мышления, найденного еще Парменидом, и пронесенного через всю европейскую традицию вплоть до новоевропейского времени, когда разочарование в силе и способностях разума, наконец, пробудило желание испытать, прочувствовать Ничто. Речь идет именно не о небытии как о конструктивном хаосе, содержащем в себе образы еще не воплощенной жизни, или деструктивном хаосе как окончательном пределе существовавшего, а именно о Ничто. Здесь важна автономность, невыводимость Ничто из эссенции, «равноценность» Ничто с сущим. В целом, парадигма философии небытия, руководствующаяся максимой «Все из ничего», имеет длинную историю, ведя отчет от философии древнегреческого софиста Горгия (V–IV вв. до н. э.), который доказал, что «ничто из существующего не существует», далее прослеживаясь в средневековой апофатической теологии (примером также могут служить системы М. Экхарта и Я. Беме), но расцвета достигает, конечно, в ХХ в., отмеченном «переоценкой ценностей» и философским нигилизмом, и, в частности у М. Хайдеггера, рассматривавшего ничто в качестве основы человеческого бытия. Если бытие субъекта понимать как присутствие, то его предел – граница с Ничто. Отсылки к Ничто – новый опыт различения для существующего, мыслящего, как оказалось, в той же системе координат, что и существующий, видевший свою бытийную слитность с сущим. В новом прочтении универсалий эссенция заменяется на небытие (= Ничто): «субстанцией может быть только небытие»[86]86
Чанышев А.Н. Трактат о небытии. // Вопросы философии. – 1990. – № 10. – С. 160.
[Закрыть], «не существующее, не нечто, не бытие, а несуществующее, ничто, небытие – вот что может быть безусловной основой… ничто, небытие как исходное отсутствие чего-либо ничем не обусловлено» [87]87
Солодухо Н.М. Бытие и небытие как предельные основания мира. // Вопросы философии. – 2001. – № 6. – С. 179.
[Закрыть]. Однако данное положение парадоксально, потому что Ничто (или небытие, прочитанное как его синоним) именно противоположно субстантивному началу, обозначая себя в отсутствии. Напротив, субстанция определяется как основание. Если Ничто – основание, то оно может служить основанием только для ничего – во-первых. Во-вторых, если Ничто «разворачивает» существование, то оно суть потенция, т. е. опровержение самого себя, – воспоминание о первородном Хаосе как о непроявленной полноте. В– третьих, если Ничто – небытие сущности, именно не «смерть», забвение и т. д., а ее неналичие, то «из» чего исходит экзистенция: ведь даже в этимологическом происхождении термина указывается на исход вовне «ex»? Как в этом случае выстраивается соотношение экзистенции и Ничто, экзистенции и «Я» вне связки с эссенцией? Версии ответов на эти вопросы во многом оказались продиктованы именно смещением интереса от онтологии к нигитологии.
В классической традиции незавершенность экзистенции и «Я» утверждала свою идентичность через Другого, придававшего форму неопределенности и историчности. Поэтому, в отличие от идентичности по этническому, или социальному, конфессиональному, культурному и т. д. признакам, требующей соотнесенности всех перечисленных признаков и их сопряжения в повседневной жизни человека, самоидентификация человека формируется не на соотнесенности, а на прислонении к основанию, являющемуся для него бытийным истоком. Человек не может найти своего основания в самом себе. Он его ищет вне полагаемых собою границ. «Нехватка», недостаточность, которые он в себе обнаруживает не могут служить основанием, укореняющим в бытии, и это инициирует бунт. Бунт – тот же выход за пределы в ситуации, когда трансценденция оказывается невозможной в силу неукорененности. Бунт исчерпывает себя в говорении / горении: он, безусловно, по бибихинскому выражению, – «бросок себя», взрыв, выход «из», но не «по направлению к чему-либо», а в опровержении фактора, его вызвавшего. В качестве такого фактора А. Камю назвал то же снятие ориентира, что и Ф. М. Достоевский в своём известном изречении: «если Бога нет, то всё дозволено». Философ определяет относительность фундаментальных категорий добра и зла как их неразличение. Неразличение воспроизводится в произвольности и случайности их трактовки, т. е. в отсутствии закрепленных смыслов и доминанте поверхности. Обнаружение, корреляция смыслов, их баланс и столкновение – все это становится интеллектуальной игрой. Так появляется человек абсурда, «расколотый» человек, которому «свойственно не верить в глубокий смысл вещей»[88]88
Камю А. Миф о Сизифе. / Камю А. Изнанка и лицо: Сочинения. – М.: ЭКСМО-Пресс; Харьков: Изд-во «Фолио», 1998. – С. 164.
[Закрыть], то есть «добродетель и злой умысел становятся делом случая или каприза. И вот приходишь к решению вообще не действовать. А это означает, что ты, во всяком случае, миришься с убийством, которое совершено другим»[89]89
Камю А. Бунтующий человек. / Камю А. Изнанка и лицо: Сочинения. – М.: ЭКСМО-Пресс; Харьков: Изд-во «Фолио», 1998. – С. 243.
[Закрыть]. В этом смысле бунт «зеркалит» событие, основной результат которого – преображение. Для бунта преображение сводится к действию, нивелирующему этическую окраску. Важным оказывается – привести себя «в движение». Это начинает рассматриваться как активность существования и «Я»: «Я бунтую, следовательно, мы существуем… Метафизический бунт – это восстание человека против своего удела и против всего мироздания. Этот бунт метафизичен, поскольку оспаривает конечные цели человека и вселенной. Раб протестует против участи, уготованной ему рабским положением; метафизический бунтарь протестует против удела, уготованного ему как представителю рода человеческого»[90]90
Там же. – С. 259, 260.
[Закрыть]. Время бунта фиксирует незавершенный акт рефлексии: собирание себя в разрозненных осколках зеркал и неумение прийти к целостности, поэтому время метафизического бунта – это еще и внутреннее время, консервирующее единичное экзистенциальное состояние как неизбывное, неисчерпаемое, переживаемое вновь и вновь. Но бунт есть также и категорический протест. И как всякий протест, бунт не приходит к утверждению или созиданию, поскольку его явление суть опровержение чего-либо. В этом смысле метафизический бунт характеризует «покачнувшееся» существование, потерю равновесия и страх. К. Ясперс нашел замечательное сравнение для описания такого состояния: «Он (человек) как будто не может более удерживать бытие»[91]91
Ясперс К. Духовная ситуация времени. / Ясперс К. Смысл и назначение истории. – М.: Политиздат, 1991. – С. 288.
[Закрыть], и он его отпускает, внутренне замерев. «Замерев» – не желая ничего менять, ни к чему возвращаться. Наверное, каждый взрослый может вспомнить незатейливую детскую игру с замиранием, когда ведущий игры неожиданно останавливает счет, и игроки замирают в тех позах – в полудвижениях, в которых пребывали на тот момент. Замирание – зависание в междустрочии, в промежуточном положении между активностью и безжизненностью. Оно не должно длиться слишком долго: так можно вжиться в роль и там остаться. Замирание сродни молчанию, сердцевине бифуркационной развилки. В этом смысле интересно замечание В. М. Бехтерева, который, рассматривая различные варианты оцепенения, или замирания, наблюдаемые в животном мире и при, как правило, критических состояниях, вызванных какими-либо обстоятельствами, у человека, усматривал в этом состоянии оцепенения, являющемся прообразом гипнотического состояния, воспроизведение тормозного рефлекса, которое в ряде случаев является спасительным средством[92]92
Бехтерев В.М. Гипноз. Внушение. Телепатия. – М.: Книжный клуб Книговек; СПб.: Северо– Запад, 2010. – С. 52–53.
[Закрыть]. Так, божья коровка при прикосновении в целях самосохранения впадает в оцепенение, притворяется мертвой, неподвижной, точно также тормозной рефлекс присутствует и у человека, переживающего трагические моменты в своей жизни, утрату близких и т. д., и замирающего, замедляющего привычный темп жизни, сбавляющий внутреннюю скорость восприятия жизни и включенности в нее. Это, позволю провести такую аналогию, присутствует и в совокупном историческом субъекте, который отдельные исторические моменты проживает на высоких скоростях, другие – более подробно, а в кризисные моменты – замирает. Именно состояния оцепенения, замирания, срабатывания исторического «тормозного рефлекса», вызванного как средство самосохранения, и отмечает исторический путь десубъективированного, разбитого подобно зеркалу на множество осколков, субъекта Постмодернизма, и как диагноз времени проецируется на повседневную жизнь отдельного человека. С. Волински, разрабатывая руководство по квантовой психологии, заметил, что расхожей фразой современного человека стала фраза «мне не хватает времени»[93]93
См. Волински С. Квантовое сознание. Руководство по квантовой психологии. – М.: Старклайт, 2007.
[Закрыть]: мне не хватает времени прочитать давно купленную книгу, встретиться со старыми друзьями, написать письмо, позвонить, научиться играть на губной гармошке и т. д.; но «не хватает» даже не столько в силу усилившегося темпа жизни, сколько в силу невозможности в коллекционировании впечатлений «удержать бытие». Поэтому фраза «мне не хватает времени» все чаще звучит как признание «мне не хватает существования», в котором есть место для чуда, события. Консервация в «покачнувшемся» состоянии и обозначила экзистенциальную фрустрацию (= внутреннюю пустоту, экзистенциальный вакуум, «переживание бездны»). Специфика самосознания и самоощущения современного человека и заключается в том, что внутренне преодолевая экзистенциальную ночь, он внешне успешен и позитивен. Жанр исповеди – не его жанр. Главным образом, экзистенциальная философия и Ж.-П. Сартра, и Э. Левинаса ориентирована именно на восприятие экзистенции в ее исходности; в способности существующего занять позицию по отношению к существованию. «Человек есть лишь то, что он сам из себя делает»[94]94
Сартр Ж.-П. Экзистенциализм – это гуманизм. / Сартр Ж.-П. Человек в осаде. – М.: Вагриус, 2006. – С. 222.
[Закрыть], – гласит известный сартровский тезис, который предполагает в человеке как данность предпонимание и целенаправленную активность. Согласно мнению философа, человека созидает череда его поступков и система отношений их оформляющих, т. е. он суть перманентная устремленность за свои собственные пределы (что подразумевает знание этих пределов). Трансцендирование Ж.-П. Сартром рассматривается, прежде всего, как действие, акт выхода, иллюстрирующий открытость человека миру, его незамкнутость и незавершенность: «Человек находится постоянно вне себя самого. Именно проектируя себя вовне и растворяясь в окружающем, он существует как человек. И, с другой стороны, он может существовать, лишь преследуя трансцендентные цели. Человек весь – движение вовне»[95]95
Там же. – С. 249.
[Закрыть]. Примечательно, но именно сартровская позиция открывает трансцендирование как поступок, отмечая важность, самоценность трансцендирования, опыта границы и его независимость от трансцендентного – во– первых. Во-вторых, трансцендирование предполагает укорененность: изменчивое как еще– или уже-не-бытийствующее не знает трансценденции. Однако, укорененность, стояние-в-себе, из которого совершается поступок, бросок себя в становление подразумевает и навык различения истины и прелести, блага и зла, приобретаемый человеком в завершении жизненного пути, но никак ему не предшествующий. Т. о., кантовский трансцендентальный субъект как некий Я-идеал возникает в сартровском человеке, ответственном за то, что он есть, т. е. «осужден быть свободным». Собственно, Э. Левинас, как и Ж.-П. Сартр, акцентирует роль поступка в системе взаимосвязей между «Я» и экзистенцией. Он, в частности, рассматривает действие и усталость как два варианта установок, занимаемых «Я» по отношению к существованию, в которое «Я» включено. Различая существование и существующего, философ обращает внимание на то, что действие как взятие на себя ответственности за настоящее, является одновременно выходом существующего из анонимности, т. е. поступок творит существующего, вызывая его из безмолвного океана существования, il y a. Поэтому «быть значит брать на себя бытие, – существование существующего по сути есть действие. Нужно, чтобы существующее было действием»[96]96
Левинас Э. От существования к существующему. / Левинас Э. Избранное: Тотальность и бесконечное. – М.; СПб.: Университетская книга, 2000. – С. 20.
[Закрыть]. Здесь возникает сходное с сартровским представление о «Я», которое «переводит» экзистенцию, выводит ее из потаенности, ночи через артикуляцию, бросок вовне. Вопрос, что вызывает активность «Я»? Ни Ж.-П. Сартр, ни Э. Левинас не дают ответа на этот вопрос, позиционируя активность «Я» как свидетельство его жизнеспособности и свободы, изначальной зрелости и целостности. В отличие от данной позиции, К. Ясперс развивает представление о «Я» в процессе его роста, в самопознании и самораскрытии, осуществляемом ли посредством рефлексии или в напряжении пограничных ситуаций, характеризующих существование[97]97
Ясперс К. Духовная ситуация времени. / Ясперс К. Смысл и назначение истории. – М.: Политиздат, 1991. – С. 378.
[Закрыть] и актуализирующих в трансценденции опыт границы. И в этом случае, конечно, самобытие, бытие экзистенции, оказывает воздействие на становление «Я». Во всех рассмотренных взглядах, иллюстрирующих ментальность эпохи, наглядно проявляется интерес и стремление к опыту границы. Должно быть, это единственное, что не только свидетельствует об опыте существования, но и выводит экзистенцию из оцепенения, размыкая ее вовне. Нужно отметить, что лиминальность как способ обнаружения своих контуров характеризует доминанту чувственно-кожного контакта с реальностью, одинаково разнясь с мистически-духовным слуховым восприятием, присущим, в большей степени, восточному самоуглубленному постижению, или с визуально-рациональным каналом восприятия, воспетым европейской традицией. Кожа и есть явленность и сокрытие одновременно; она и есть граница. Это сродни детскому восприятию: ведь именно ребенок «впитывает» мир. Может быть, мир столь быстро стал изменяться, что реакция обнаружения своих очертаний, контура связи с ним оказывается единственно своевременной реакцией, столь же мгновенной, как и болевое ощущение. К опыту границы как экзистенциальному лиминальному опыту близок предельный опыт, но не тождественен ему. Предельный опыт во многом инициационный порог, опыт внутреннего взросления, стимулированный внешними обстоятельствами: любовью, рождением ребенка, смертью близкого человека и т. д.[98]98
Касавин И.Т. К понятию предельного опыта. / Разум и экзистенция: Анализ научных и вненаучных форм мышления. Отв. ред. И.Т. Касавин, В.Н. Порус. – СПб.: РХГИ, 1999. – С. 397.
[Закрыть]. Общее между ними – потеря целостности внутреннего пространства. Противоположен опыту границы и внутренний опыт, описываемый Ж. Батаем: «Я называю опытом путешествие на край возможности человека. … Когда «достигать края возможного» будет означать, по меньшей мере, следующее: предел, поставленный познанием как целью, должен быть преодолен, – однако дальше философ конкретизирует, – внутренний опыт противоположен проекту»[99]99
Батай Ж. Внутренний опыт. – СПб.: Аксиома, Мифрил, 1997. – С. 23, 25, 91.
[Закрыть]. Напротив, опыт границы свидетельствует о востребованности, необходимости проекта и его реализации: в нем отсутствует намек на мистическое переживание или спектр состояний, но намечается движение к ним. Экзистенциальный вакуум и лиминальность как способ его преодоления – живая повседневность современного человека, одновременно задействованного в чрезвычайно дифференцированных социальных и культурных отношениях (время причастности к единичному целому социальному и культурному нарративу прошло) и в инфосфере, где он выстраивает ту же иерархию идентичностей-ролей, что присутствует и в его физической и ментальной реальностях. Менее поддающийся анализу вариант разрыва между физической реальностью и телесной явленностью / протяженностью в ней как аналогом присутствия субъекта, и инфосферой, куда ментально он погружен, где он себя и являет как субъекта, также свидетельствует о преобладании у современного человека в выстраивании своего внутреннего пространства тенденции саморассеивания над самоорганизацией.
Так что после этого есть субъективный опыт, опыт существования? Пожалуй, на этот вопрос стремится ответить философия, начиная со времен Августина. Однако, языки описания предлагают лишь экзистенциализм и феноменология.
Внутренний диалог как «творчество в пределах личности». «Познай самого себя» – тезис, воспринятый как руководство к действию, начиная со времен Сократа, Августина и Декарта. Самый неоднозначный в истории культуры призыв, прозвучавший впервые из уст дельфийского оракула, – ловушка. Поскольку невозможно, оставаясь самим собой, себя познать, как невозможно, дистанцировавшись от себя в желании самопознания, остаться по-прежнему самим собой. Этот внутренний центр, передающийся удвоенным возвратным местоимением «сам себя», несет в себе изначальную двойственность, но главное – его топос наличествуя, тем не менее, не поддается фиксации; подобный делезовскому смыслу, он не может быть предзадан, но может быть обнаружен, внезапно найден. Поэтому форма «наводящего» диалога, практиковавшаяся Сократом, или «внутреннего диалога», развитая Августином Блаженным, иначе – диалога только и может, подобно лакмусу, обозначить систему взаимоотношений там, куда глаз познающего себя еще способен проникнуть. В последнее время внутренний диалог как один из видов автокоммуникации, а значит, рефлексии, самопознания начинает привлекать внимание исследователей из разных научных областей. Постепенно намечается и новая динамика прочтения «Я». Итак, что есть «Я» в гуманитарных науках после череды его развенчаний и деконструкции? Что такое внутренний диалог? На каких условиях он выстраивается? Наконец, какую роль играет внутренний диалог в формировании идентичности и самоидентичности человека?
В философской практике исторически сложились несколько способов прочтения «Я»[100]100
См. также Е.О. Труфанова Единство и множественность Я». – М.: «Канон +», РООИ «Реабилитация», 2010. – 256 с. Автор представила богатый обзор и детальный анализ «Я»– концепций на примере истории развития западноевропейской философской мысли, а также рассмотрела с позиции конструктивистского подхода вариации трактовок «Я» в контексте информационно-технологических преобразований последних десятилетий ХХ в. в их проекции на социо-культурный мир.
[Закрыть]:
1. “Я”, выстраивающееся через отношение, что требует Другого (Бог, Смысл, другой человек, культура, медиальный Другой и т. д.) и «стояния-в-себе», целостной «Я»-идентичности как механизма сопротивления Другому (гегелевский вариант расплавления «Я» человека в Другом по сути упразднение «Я» через увеличение его масштаба). Безусловно, в способе самоопределения «Я» через Другого заложен диалогический принцип. Характер отношений «Я» с Другим емко определены М. Бубером в двух парах соотношений «Я-Ты», «Я-Оно». Здесь важен тот момент, что «Я» понимается не автономно, но исходя из второго члена пары: «Я» формирует отношение к Другому как к личному, интимному, дорогому, ценному «Ты», или как к объективному, духовно и эмоционально удаленному, чужому и безразличному «Оно». «Основные слова исходят из существа человека. Когда говорится Ты, говорится и Я сочетания Я – Ты. Когда говорится Оно, говорится и Я сочетания Я – Оно. Основное слово Я – Ты может быть сказано только всем существом. Основное слово Я – Оно никогда не может быть сказано всем существом. …Нет Я самого по себе, есть только Я основного слова Я – Ты и Я основного слова Я – Оно»[101]101
Бубер М. Я и Ты. / Бубер М. Два образа веры. – М.: Республика, 1995. – С. 16.
[Закрыть]. Другой здесь условие для самоопределения «Я»; его именование или безличное наличествование – «имеется» – переносит, проектирует эту систему взаимосвязей во внутреннее пространство «Я», выстраивающее себя через Другого, но подспудно – через свое отношение к нему. Та же система отношений отражается и в диахроническом диалоге с культурой предшествовавшей эпохи, с иной ментальностью; и хотя «горизонт понимания» не преодолевается, но умение увидеть в негласном предмете, глиняной табличке «чужую одушевленность» (термин А. С. Лаппо– Данилевского) – это проявление личного отношения. Аналогичный сценарий работает, когда под Другим понимается Смысл, эссенция, Бог. Наверное, здесь нелишне обратить внимание на то, что, как только «объективация» и «обезличивание» Другого определило его как Чужого, «лопнула» струна напряжения между «Я» и «другим Я», между «Я»-идентичностью и «Я»-конструктом. Ярким примером служит редукция «Я» к функциональной единице без различения при этом «Я» и «другого Я», прослеживаемая в философии середины XIX в., а далее – сомнение, упразднение «Я» в постмодерне. Хотя, это было даже не упразднение «Я», а бегство от «Я» как наместника Авторитета, от его восприятия и прочтения как поля пересекающихся исторических дискурсов с различной стратегией давления. Напротив, «стояние-в-себе» задает ракурс познания Другого, что формирует исторические соответствия между универсалиями; это – конечное, неделимое, самотождественное состояние, иначе – «Я»-идентичность, которая в системе соотношения эссенции, экзистенции и «Я»-конструкта выполняет роль логоса, структурирующего порядка, дающего возможность человеку развиваться и в то же время быть уверенным в своей неустранимости и незаменимости, в своей «точке стояния» в универсуме. Отношения между «Я»-идентичностью и «Я»-конструктом изначально диалогичны. Отчасти их характер отвечает буберовским этическим дихотомиям. Поэтому соотношение «Я»-идентичности и «Я»-конструкта в отрыве или забвении эссенции создает неизбывность устойчивого одиночества в исторически изменяющемся, текучем этно-социо-культурном контексте, в котором не к чему прислониться. Неисчерпаемая пустыня «Я» как решения быть без бытия» соприкасается с границей небытия, или Ничто, на другом уровне, чем экзистенция. Это – абсолютизация «Я» без Другого, т. к. Другой – Ничто, дыра, пустота, непротивостояние. И «Я», отделенное от эссенции, начинает сомневаться в достоверности своего бытия, в достоверности того, что «Я» – нечто иное, а не ничто. М. Бланшо, размышляя об одиночестве в мире и сущностном одиночестве, это описал: «Я есмь», – эта искусная способность быть свободным от бытия, отделенным от бытия, становится также разделенностью существ, абсолютом «я есмь», который стремится самоутвердиться без других. Именно здесь то, что обычно называют одиночеством (на уровне мира). …Тогда человек осознает самого себя как отделенного от бытия, как отсутствующего в бытии; он осознает, что он удерживает свою сущность, заключающуюся в том, чтобы не быть. Каким бы патетичным этот момент ни был, он утаивает сущностное. То, что я есмь ничто, разумеется, говорит о том, что «я держусь за недра небытия», а это печально и тревожно; но говорит еще и о том чуде, что небытие в моей власти, что я могу не быть: отсюда приходят свобода, мастерство и будущее для человека. Я тот, кто не есть, тот, кто отпал; я отдельный, или же, как говорится, тот, в ком бытие поставлено под сомнение. Люди самоутверждаются с помощью способности не быть; так, они действуют, говорят и понимают, будучи всегда другими, чем они суть, и ускользая от бытия, бросая ему вызов, благодаря риску и борьбе, которая тянется до самой смерти и представляет собой историю»[102]102
Бланшо М. Сущностное одиночество и одиночество в мире. / Бланшо М. Пространство литературы. – М.: Логос, 2002. – С. 256.
[Закрыть]. «Способность не быть» как забвение «Я»– идентичности и монополия «Я»-конструкта – черта индивидуализма, политики изоляции, сигнализирующей об инверсионном откате культуры субъекта от особенного к особому. В отличие от индивидуализма, в персонализме Другой как реальный Другой реконструируется. В частности, Э. Мунье индивидуализму противопоставил персонализм: индивиду, зацикленному на себе, противостоит личность, способная «рассекретить» себя, чтобы открыться Другому: «Личность выводит себя вовне, выражает себя: она смотрит вам в лицо и сама есть лицо»[103]103
Мунье Э. Персонализм. / Мунье Э. Манифест персонализма. – М.: Республика, 1999. – С. 493.
[Закрыть]. Собственно, на коллизии лица / личины и в тоске по лику строится внутренняя драма расколотого «Я». Самый простой способ ее преодоления – упразднение ее как внутренней драмы, отказ «называть вещи своими именами», т. е. конформизм. Конформизм – понятие, которое употребляется, как правило, с негативным оттенком. Молчалины в моде! Действительно, Молчалин – человек с «глазаминикакогоцвета», но также человек – сознательно принявший выбор растворения «Я»-идентичности в «Я»-конструкте, или в Другом. Это решает одновременно две его насущные проблемы – проблему адаптации к контексту и проблему одиночества. Ему не нужен собственный голос, который обрекает на «сизифов труд» в обществе, где большинство ориентировано на максимальное вписывание в контекст. «Массовый человек» знает, что он – одномерный и предсказуемый, но это – индивидуально выбранная из общераспространенных жизненная стратегия, которая спасает его от одиночества и маргинального положения «Другого». Причем, «другой» как свойство индивида не маркирует символы этнического, социального или культурного контекста: массовая культура к настоящему времени сформировала общую толерантную площадку для коммуникации людей, принадлежащих к разным символическим порядкам в силу ряда внешних простительных обстоятельств; под «другим» понимается «Я»-идентичность. Именно сохранение «Я»– идентичности в связке «Я»-идентичность – «Я»-конструкт (или «другой Я») рассматривается как знак, вызывающий опасение и дискомфорт у «массового человека». Э. Фромм диагностировал эту тенденцию как «бегство от свободы»: «Процесс бегства не помогает человеку вернуть былую уверенность, а лишь дает ему возможность на время забыть, что он отдельная биологическая единица. Он приобретает новую, хрупкую уверенность, пожертвовав целостностью своего индивидуального «я». Он отрекается от своего внутреннего мира, пытается забыться, потому что не может более выносить изоляцию»[104]104
Фромм Э. Бегство от свободы. – Минск: Харвест, 2003. – С. 328.
[Закрыть].
2. Автопрочтение, следующее по пути отчуждения части от целого, объективации и вызываемой ею редукции («Я» = мышление, «Я» = тело) или переноса («Я» = культура). Данный способ прочтения «Я» является доминантным в новоевропейское время. Закономерность его возникновения была обусловлена изменившимся типом мышления. Наглядно этот процесс проявился и в метафизике, где внимание перешло с вопроса «что такое сущее?» на вопрос о методе его познания[105]105
Хайдеггер М. Европейский нигилизм. / Проблема человека в западной философии. Сб. пер. Сост. и посл. П.С. Гуревича. – М.: Прогресс, 1988. – С. 266.
[Закрыть]. Т. е. сущее стало восприниматься как безусловное, непоколебимое основание. Обращение от «что» к «как» – обращение от «отношения к основанию» к способу и приему его анализа. Именно парадигмальный сдвиг инициировал и питал развитие естественных наук. Однако, несмотря на обманчивую близость рационалистической традиции с античной философией, разница обнаруживает себя в понимании «Я» человека: ключевым словом здесь является слово «мера». Известный афоризм Протагора – «человек есть мера всех вещей» – направлен не столько на расширенное понимание «Я», сколько на акцентирование акта восприятия вещи человеком, которая, действительно, такова, каковой она ему кажется. Протагор ввел релятивистский принцип: человек у него – мера, а не мерило. Мера суть граница, «собирание себя» в точке, а также мера – ракурс, протяженность взгляда. М. Хайдеггер, размышляя о предпосылках европейского нигилизма, обратил внимание на потерю первоначального смысла, вкладываемого греками в представление о мере, и получившего совсем иную трактовку в европейской философии: «Я» для греков – название такого человека, который сам врастает в это ограничение и таким путем становится в себе самом самим собою. Человек, характеризующийся по-гречески понятым принципиальным отношением к сущему, есть metron, мера, постольку, поскольку он позволяет кругу непотаенного, – ограниченному для каждой человеческой самости, – быть определяющей чертой своего существа. Нигде здесь нет и следа той мысли, будто сущее как таковое обязано равняться по Я, стоящему на самом себе в качестве субъекта, что этот субъект – судья всего сущего и его бытия, и что он в силу этого своего судейства, добиваясь абсолютной достоверности, выносит приговор об объективности объекта»[106]106
Там же. – С. 264–265.
[Закрыть]. В этой связи Л. А. Коган тонко отметил: «Характеризуя человека как меру всех вещей, Протагор продвигается к истине, поскольку угадывает носителя, субъекта мероопределения. Но, выделив субъективную сторону вопроса, он недооценил, оставил в тени объективные основания. Между тем, мера (как, впрочем, и другие категории) является синтетическим, субъектно– объектным, человекобытийным образованием» [107]107
Коган Л.А. Закон сохранения Бытия. // Вопросы философии. – 2001. – № 4. – С. 68.
[Закрыть]. Соответственно, когда «Я» становится мерилом, за скобки выносится всё то, что на данный момент социокультурного развития не ассоциируется с «Я» (поэтому «ничего сверх меры») – во-первых. Во-вторых, «Я» начинает играть нетипичную для него роль принципа. В результате всё, вынесенное за скобки, ассоциируется с витализмом, единичностью человеческого существования, а «Я» как принцип теряет гибкость и восприимчивость, приобретает отвлеченную статуарность. На «Я»-принципе базируется позиция И. Г. Фихте, который у философа выступает как идеальный образ «Я»: «Я сам, т. е. то самое, о чем я имею сознание как о себе самом, как о моей личности, и что в этом учении представляется простым лишь проявлением чего-то высшего …я хочу сам быть последним основанием, последней причиной того, что меня определяет»[108]108
Фихте И.Г. Назначение человека. / Фихте И.Г. Сочинения в 2-х тт. Т. 2. – СПб.: Мифил, 1993. – С. 93–94.
[Закрыть], иначе – «Я» у Фихте выступает собственной причиной, и, следуя этой логике, реальность – слепок с «Я». Однако, идеал не может быть основой, он представляет рациональный вариант приближения к ней в попытке ее умопостижения.
Механизм переноса «Я» = культура появляется в эпоху Просвещения, где «Я», рассматриваемое как tabula rasa, становится производным от контекста; и востребованным оказывается и в Постмодернизме, где все громкие концепции «смерти автора», «смерти субъекта» по сути репрезентирует производность «Я» от контекста, первичность контекста по отношению к «Я», а иногда и его подмену. К. Р. Поппер так и постулирует: «Я», или эго, укоренено в третьем мире (мире культуры – Прим. мое), и …оно не может существовать, если нет мира 3»[109]109
Поппер К.Р. Знание и психофизическая проблема: в защиту взаимодействия. – М.: Изд-во ЛКИ, 2008. – С. 193.
[Закрыть]. Именно абсолютизация культуры и нежелание видеть в ней регрессивных, возвратных движений, порождающих антикультурные формы, стимулировала появление антагонистических мнений Ж.-Ж. Руссо, много позднее и З. Фрейда. Подтверждением этому звучит высказывание великого пессимиста Сиорана: «Человек всегда погибает из-за того „я“, которое он взваливает на свои плечи: носить какое-либо имя означает отстаивать конкретный способ крушения»[110]110
Сиоран Искушение существованием. Избранное. – М.: Республика; Палимпсест, 2003. – С. 144.
[Закрыть]. Впрочем, способ крушения предзадан самим типом прочтения «Я» как внутреннего центра, из которого совершается артикуляция намерения, мотива действия, феноменологического «Я», социального «Я», гносеологического «Я». Последнее, и здесь можно согласиться с положениями Бадью, изложенными им в «Манифесте философии», неустранимо причинно в силу того, чтобы не сделать процесс философствования и познания сомнительным. В некотором смысле то, что нами осознается как «Я», является одним из состояний бодрствующего сознания. «Я» не всегда активизировано и еще реже осознается как таковое. А поэтому “Я” – это также одна из опций сознания. “Я” как одна из опций сознания имеет нейрофизиологические корреляты: пропажа “Я” у больных в атонической коме, фрагментация “Я” при диссоциативном расстройстве идентичности (“расстройство множественной личности”), “мерцающее” “Я” – в состоянии амнезии и многие другие случаи подтверждают данное положение. Этой концепции близка теория «единого нейронного рабочего пространства» Станисласа Деана. Нейроученый так ее пояснил: “В соответствии с теорией «единого нейронного рабочего пространства» «сознание – это трансляция единого информационного потока в коре головного мозга: основой этого процесса является нейронная сеть, смысл существования которой сводится к активной передаче актуальной информации в пределах мозга. Благодаря наличию единого нейронного рабочего пространства мы можем держать в голове любую идею, которая на нас сильно повлияла, причем хранить мы ее будем столько, сколько пожелаем, и к тому же можем включить ее в любые планы на будущее. …важным свойством единого рабочего пространства является его автономность”[111]111
Деан С. Сознание и мозг. Как мозг кодирует мысли. – М.: Карьера Пресс, 2018. – С. 22, 23.
[Закрыть]. Кто является агентом восприятия, кто собирает в единую картину пазлы звукового, визуального, осязательного, тактильного и др. информационных потоков, обнаруживая свою активную позицию цензора? Автономность и целостность нашего сознательного опыта, непрерывность “Я” формируют образ наблюдателя, встроенного в различные контексты. С. Деан писал: «Возможно, осознание некоего аспекта собственной личности – это не более чем еще одна форма доступа в сознательный опыт»[112]112
Там же. – С. 35.
[Закрыть]. Сьюзан Гринфилд, разделяя взгляды Деана, вводит в словарь когнитивистики понятие «нейронных ансамблей», иерархических структур распознающих систем, «нейрональных коррелятов сознания», изучение которых объединяет феноменологию и физиологию, преодолевая картезианский дуализм и кантовский трансцендентализм[113]113
См. Гринфилд С. Один день из жизни мозга. Нейробиология сознания от рассвета до заката. – СПб.: Питер, 2018. – 240 с.
[Закрыть]. В свою очередь, нейронные ансамбли связаны с различными субъективными состояниями; квинтэссенцией сознания является субъективность, образ “Я”. Нейробиологический и нейрохимический способы описания субъективных состояний суть различные переводы ментальных образов, влекущие за собой и редукцию, и неточность последних, но зато схватывающие специфику функционирования «носителя» феноменальных содержаний. При этом структура “Я” может быть различной, во многом детерминированной и зависимой от феноменальных содержаний. Поэтому размышления о центре или ядре “Я” не объясняют всех возможных состояний феноменальных актуализаций, как размышления и о множественной личности. В данном случае не выводится проблема тождества личности, предполагающаяся континуальность, продолжительность как условие размышления "о". Напротив, опциональное включение “Я” субъекта действия ситуативно. В процессе авторефлексии индивид, выстраивая наррацию, “запуская” сюжет о «Я», обнаженном, отстраненном, очищенном фильтрами нарративных построений, бесконечно отдаляется от него уже тем, что использует для его схватывания языковой инструментарий. Кроме того, наше «Я» имеет сложные отношения с телом. Здесь яркий и требующий философского анализа материал предоставляют эксперименты нейрофизиолога Адриана Оуэна, работающего с пациентами, находящимися в вегетативном состоянии. Многие из них, запертые в «серой зоне», в “окаменевшем” теле, оказывается, испытывали боль и нуждались в болеутоляющих лекарствах, в то время, как их лицевые мышцы, положение тела, разумеется, никак об этом не сообщали; другие, будучи погруженными в глубокую кому, как показали данные фМРТ и тесты Оуэна, имели неповрежденную долговременную память и представление о своем “Я”[114]114
См. Оуэн А. и др. Как обнаружить признаки сознания у пациентов в вегетативном состоянии / Горизонты когнитивной психологии. Под ред. В. Ф. Спиридонова и М. В. Фаликман. М.: Языки славянских культур; М.: Российский государственный гуманитарный университет, 2012. – С. 123–127.
[Закрыть].
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































