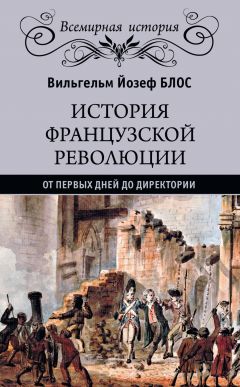
Автор книги: Вильгельм Йозеф Блос
Жанр: История, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 8 (всего у книги 25 страниц) [доступный отрывок для чтения: 8 страниц]
Праздник объединения на Марсовом поле
В то время как над охваченной революцией Францией собирались новые бури, наступала годовщина взятия Бастилии, 14 июля 1790 года. Этот день решено было превратить в пышный национальный праздник. Инициатива этого празднества исходила от парижского общинного совета. Как в критические дни революции народ, национальная гвардия и линейные войска объединились и братались в отдельных городах, так годовщина взятия Бастилии должна была быть днем провозглашения братства всего французского народа. Так предполагалось отпраздновать день победы народа над абсолютизмом. К этому дню были сделаны самые пышные приготовления. Местом празднества назначено было Марсово поле, и оно было приспособлено ко вмещению 400 000 человек. Посредине возвышался алтарь отечества, сооруженный в античном стиле, а вокруг него был устроен амфитеатр, в котором должны были разместиться король, национальное собрание и муниципалитет. Всю Францию охватило шумное воодушевление, когда было предписано отпраздновать этот праздник. Выше, чем где-либо, поднимались волны воодушевления в Париже. Для выполнения работ на Марсовом поле потребовалось 12 000 рабочих.
Работы, однако, медленно подвигались вперед, и стали возникать опасения, что они не будут закончены к 14 июля; кроме того, носился слух, что рабочие подкуплены реакционерами. Парижское население тысячами устремилось на Марсово поле, чтобы закончить работы. Можно было видеть, как нарядные дамы соревновались с поденщиками в работе лопатой и заступом. «Работали, – рассказывает очевидец, – мужчины и женщины, старики и дети, герцоги и поденщики, епископы и парикмахеры, главные откупщики и повара, кавалеры ордена Людовика и проститутки, – все в мирном согласии, дружно распевая песни свободы». Благодаря этому приготовления вовремя были закончены, и праздник великолепно удался, хотя официальная часть его оказалась, пожалуй, наименее значительной. Значение праздника заключалось главным образом в том, что преданные свободе люди из разных частей Франции познакомились друг с другом и приняли твердое решение всеми силами отстаивать завоевания революции.
Прибыло необозримое число представителей от департаментов, и праздник объединения, который должен был произвести сильное впечатление на весь культурный мир, начался со всей торжественностью. Процессия открывалась батальоном вооруженных детей и замыкалась батальоном вооруженных стариков; она двинулась с того места, где раньше стояла Бастилия, и направилась к Тюильри; здесь она забрала двор и в сопровождении национальной гвардии и национального собрания пошла на Марсово поле. Необозримая толпа сопровождала процессию; город пестрел флагами и цветами; был сделан пушечный салют в 101 выстрел. Среди участников процессии можно было заметить и немецкого барона Жана-Баптиста Клоотца, атеиста и приверженца всемирной республики, он вел с собой значительное число людей, одетых в чужеземные костюмы и изображавших представителей других народов; с этой странной, возбуждавшей всеобщее внимание депутацией он явился раньше в национальное собрание. Народ собрался уже на Марсовом поле и стоял в полном порядке. На алтаре отечества сперва отслужили мессу и, по иронии судьбы, выполнил это не кто иной, как знаменитый Талейран; при этом алтарь окружало 300 священников в белых ризах и трехцветных (синий, белый, красный) шарфах. Талейран благословил и орифламму, древний штандарт французских королей, и знамена 83 департаментов. Затем появился Лафайет, истинный герой этого праздника, назначенный главнокомандующим национальных гвардий всего французского королевства. Под непрерывающиеся крики приветствия всего собрания два гренадера взнесли его на алтарь отечества, и оттуда он привел собравшийся народ к присяге: «Мы клянемся в вечной верности народу, закону и королю, клянемся защищать всеми силами выработанную национальным собранием и принятую королем конституцию и сохранить неразрывные узы братства со всеми французами».
400 000 голосов собравшегося народа с воодушевлением ответили на это громовым «клянусь». Раздался салют, зазвучали трубы, послышался лязг оружия объединенных и национальной гвардии. Буря воодушевления пронеслась над Марсовым полем. Тогда выступил король и поклялся «твердо и верно соблюдать выработанную уже и подлежащую еще выработке конституцию», напоминая этим о том, что выработка еще не закончена. Королева подняла вверх своего сына со словами: «Вот мой сын. Мы с ним разделяем образ мыслей народа». Народ тысячами голосов приветствовал «австриячку», «madam Veto», как впоследствии ее иронически называли. Народ всерьез принимал это братание и присягу конституционной монархии. Вскоре уже должно было обнаружиться, как мало значения придал всему этому двор.
Пока же все утопало в радости и блаженстве, и даже поливший вдруг дождь не расстроил праздничного настроения. Мокрые от дождя танцевали здесь опьяненные праздником свободы французы. В городе было устроено много народных празднеств, продолжавшихся до глубокой ночи, а на том месте, где год тому назад стояла Бастилия, на развалинах страшной крепости можно было прочесть надпись: «Танцы».
Объединенные вернулись на родину, и Франция казалась счастливой в своей твердой надежде на обещанную конституцию, которой король и народ уже наперед присягнули. Но все это только казалось. Праздник объединения обнаружил только, как легко могло бы устроиться мудрое правительство, хотя бы при слабом желании, с французами, которые тогда совершенно искренне стояли на почве конституции.
Не успело еще улечься радостное настроение, вызванное праздником объединения, как двор, снова пошедший на помочах слабого короля, стал уже носиться с темными планами восстановления абсолютной королевской власти. Приверженцы старого порядка не могли приучить себя к мысли, что отныне народ станет руководящим фактором в жизни французского государства. Употребляя всевозможные средства для уничтожения народного суверенитета, они достигли прямо противоположных результатов и низвергли монархию.
Рабочее население Парижа
В славные эпохи, когда разыгрываются великие и решительные битвы, расплачиваться за них всегда приходится народу. Не только кровь свою приходится ему проливать: ему приходится терпеливо ждать, голодать, переносить всякого рода лишения, когда политическое возбуждение становится столь сильно, что обычные дела, необходимые для удовлетворения общественных потребностей, останавливаются. Когда в такое бурное время производство жизненных припасов и обращение товаров становятся неправильными и недостаточными, то особенно сильно и прежде всех это должна почувствовать рабочая масса. Когда разыгрывалась бурная борьба революции за свободу, французский народ, в особенности парижское население, должно было переносить самые ужасные лишения. Если, с одной стороны, эти лишения были стимулом, не перестававшим толкать массу на новые битвы за лучшие порядки, то, с другой стороны, нельзя не удивляться тому героизму, с которым народ переносил эти лишения.
Вследствие непрекращающихся беспорядков в провинции и расстройства на продовольственном рынке под влиянием политических событий, прокормить город Париж вскоре стало делом очень затруднительным. Были и такие легковерные, которые думали, что достаточно королевской фамилии вернуться из Версаля в Париж, и голод в Париже прекратится, но скоро они поняли, что ошиблись; голод и дороговизна не прекращались и зимою 1789/90 года. Как это часто бывает в таких случаях, торговцы хлебом стали «хлебными ростовщиками»; с бессердечностью они не выпускали хлеба на рынок, чтобы в подходящий момент продать его по достаточно высокой цене. Озлобление народа против хлебных ростовщиков и скупщиков было страшно велико, так что легко понять, что не обходилось без эксцессов и что некоторые хлебные ростовщики и повышатели хлебных цен пали жертвами народной ярости. Так было 21 октября с булочником по имени Франсуа, после чего в Париже было объявлено осадное положение, а муниципалитет получил право при возникновении беспорядков, в случае неисполнения предложения толпе разойтись, употребить в дело оружие. Предводительствуемая Лафайетом и Бадьи, почтенная буржуазия показала теперь, что, достигнув при помощи народа политической власти, она тоже уже не знает лучшего ответа на народную нужду, чем прежняя королевская власть, именно – порох и свинец. Народ проявил действительно много духовной силы, когда он, голодный, мог воодушевиться конституцией и ее гражданской свободой. В то время, как скупщики жизненных припасов получали колоссальные барыши, в предместьях царила ужасная нужда, так что, например, в одном Сент-Антуанском предместье богатый пивовар Сантерр, вождь демократии предместий, роздал голодающему населению на 150 000 франков жизненных припасов.
Безработица роста, и, чтобы дать заработок громадному количеству людей, бродивших в Париже без дела, были предприняты земляные работы: но и земляных работ не хватало на всех. Национальное собрание, перед которым депутат Малуэ обрисовал нужду рабочих, не знало, что делать. С тем большею ревностью руководимая Лафайетом и Бальи муниципальная власть преследовала предполагаемых и действительных подстрекателей к беспорядкам; национальная же гвардия, состоявшая из почтенной буржуазии, находила особое удовольствие в исполнении таких поручений. Этой созданной для зашиты народа гвардии суждено было стать орудием его угнетения.
Демократическая печать сильно нападала на муниципалитет. Лустало называл его следственный комитет буржуазной инквизицией. Но среди журналистов, отстаивавших тогда интересы неимущей массы, заметнее всех был Жан-Поль Марат. Смелое и грозное перо этого литератора начало даже пугать почтенную буржуазию. Так как он должен был скрываться от преследований Лафайета и так как его невозможно было схватить, то вначале эту личность считали фиктивной. Врач по профессии, швейцарец Марат поселился в Париже после жизни полной приключений, и в самое последнее время был ветеринаром у графа д’Артуа. Когда началась революция, он всей душой отдался ей. Он стал представителем пролетариата, и всплывшая во время революции буржуазия вполне инстинктивно ненавидела его. Этим объясняется, что клевета не переставала преследовать его имя и что влияние его всегда преувеличивали. Марат много мыслил и писал по философским, естественно-историческим и юридическим вопросам. Цеховые ученые ненавидели его за его свободные воззрения, и даже Вольтер нападал на него, но зато он мог хвастать тем, что заслужил признание великого Франклина. Он был озлобленный человек и «чуждался товарищества», как говорил Дантон. Но это был единственный человек, заступавшийся в своей газете за интересы пролетариата, и он вовсе не был таким варваром, каким хотели представить его враги. Но грубейшая ложь, которую распространили о нем и которую еще и теперь повторяют, это то, что он потребовал казни 270 000 человек.
Он обрушивался на муниципалитет и на грубость полиции. Он высмеивал комическое тщеславие и важничание национальной гвардии, называя ее буржуазной милицией и требуя демократического преобразования муниципалитета. Право на существование он объявил первым среди прав человека. Наиболее острые же стрелы свои Марат направил против Лафайета и страшно озлобил этого необычайно тщеславного «героя двух частей света». Дело дошло до того, что Лафайет в январе 1790 года выступил с 4-тысячным отрядом национальной гвардии для того, чтобы схватить Марата; но Марат, неузнанный, ускользнул от национальной гвардии и на время скрылся из Парижа.
Муниципальная власть стала проявлять все большую жестокость по отношению к народу. Она восстановила государственную тюрьму в Венсенне, чтобы заключить туда неудобных ей «подстрекателей». Вся масса Сент-Антуанского предместья в возмущении восстала против новой Бастилии, но была рассеяна кавалерией национальной гвардии. С тех пор недоразумения между муниципальной властью и народом, приведшие к большому кровопролитию на Марсовом поле, не прекращались.
Муниципалитет должен был считать одной из наиболее неотложных задач своих обеспечение Парижа продовольствием, а вместо того он стал обращаться с теми самими рабочими, которые вынесли на плечах своих буржуазную революцию, как с мятежниками. Улицы и площади Парижа постоянно были запружены безработными рабочими, которых теперь не было возможности еще направить в ряды армии, как во время позднейших революционных войн. Только те профессии имели достаточно заработка, которые заняты были снаряжением национальной гвардии; всем остальным работы не доставало. Сапожники, плотники, каменщики, слесари, типографы и другие работники устраивали большие собрания, на которых составлялись петиции в муниципалитет с требованием от него работы. Ответ муниципалитета был таков, что национальной гвардии приказано было разгонять собрания рабочих. Особенную ненависть возбудил против себя в этой истории мэр Бальи, чем и объясняется то, что три года спустя народ столь жестоко расправился с ним, когда его везли на эшафот. Он расклеил объявление, в котором объявлял противозаконными и «нарушающими общественный порядок» все союзы рабочих, имеющих целью «установление однообразной заработной платы и принуждение рабочих одной и той же профессии придерживаться установленной нормы».
Столь жестоко третируемые муниципалитетом рабочие продолжали носиться еще с надеждой, что они сумеют побудить национальное собрание сделать что-нибудь для облегчения их нужды. Но и здесь их приняли не лучше, чем в муниципалитете. Депутаты были недовольны тем, что им помешали в занятиях по выработке конституции, а о рабочих союзах у них были такие же странные понятия, как у муниципалитета, и они смотрели на них как на затею бунтовщиков. Шапелье, докладывавший национальному собранию петицию рабочих, говорил то же самое, что и Бальи. Он был настолько не остроумен, что считал рабочие организации восстановлением старых, отмененных 4 августа цехов. Признавая в принципе справедливыми и государственную помощь и право на труд, он все-таки отказывал рабочим в праве собираться и совещаться о своих профессиональных нуждах. Понимая, что его слова противоречат конституции, гарантирующей в первой своей части свободу собраний, он добавил, что рабочие вправе собираться только в качестве граждан для обсуждения общих интересов. Рабочие, говорил он, требуют права союзов для поддержки больных и безработных товарищей, но это долг всего народа и это не может служить основанием для того, чтобы они вправе были основать союз. Наконец, он выразил сожаление о том, что заработная плата, которая, по его убеждению, должна устанавливаться на основании свободного соглашения, недостаточно высока.
Следовало ожидать, что национальное собрание предоставит больным и безработным рабочим ту помощь «от народа», о которой говорил Шапелье и которую предусматривала конституция, но оно не только не сделало этого, но издало знаменитый декрет от 14 июня 1791 года, который так долго просуществовал во Франции и который воспрещал все рабочие союзы и ассоциации. Этот закон, отмененный только во время Третьей республики, успел за долгий период своего существования наделать немало зла. В течение долгих периодов времени правительство прятало его, как заржавленное оружие, но вдруг извлекало его и пускало в ход снова. Так, например, Людовик-Наполеон воспользовался этим законом для того, чтобы уничтожить производительные ассоциации французских рабочих, созданные с такими жертвами после революции 1848 года. Этим законом национальное собрание наложило неизгладимую печать буржуазного классового эгоизма на столь торжественно провозглашенные им перед всем миром права человека. С этого момента рабочие, как класс, отделились от почтенной буржуазии, третьего сословия. Но классовое движение не могло тотчас же начаться, потому что экономическое развитие не зашло еще достаточно далеко, чтобы ясно обнаружить классовый антагонизм и классовые интересы. Кроме того, пролетариат был еще занят походами против Европы, объявившей войну революции.
Предприниматели, которым надо было выполнить общественные или частные работы, объединились с враждебным но отношению к рабочим муниципалитетом. Закон против ассоциаций был использован как следует. Рабочие делали из революции такие выводы, которые не были приятны честной буржуазии. Они видели, что положение буржуазии и мелкого собственника-крестьянина благодаря революции улучшилось. Из этого они заключали, что революция, которой они в такой мере содействовали своими могучими руками, должна удовлетворить также и требования рабочего класса. Поэтому они требовали повышения заработной платы и доли в предпринимательской прибыли. Но тогда у предпринимателей еще не было никакой охоты соглашаться на эту излюбленную теперь систему участия в прибылях. О наиболее горячих рабочих было доложено муниципалитету, и они были брошены в темницу.
Лишенные также и избирательного права, обусловленного известным имущественным цензом, рабочие обратились с простым, но трогательным сохранившимся до сих пор письмом к Марату. На языке, соответствовавшем воззрениям и стилю того времени, они называют его «дорогим пророком» и истинным защитником класса нуждающихся. Здесь проявилось массовое самосознание. Они жалуются Марату на жестокость предпринимателей и говорят, что особенно отличаются угнетением своих прежних товарищей несколько бывших каменщиков, разжившихся и ставших богатыми предпринимателями. Последние думают, говорят в своем письме рабочие, что им все дозволено с тех пор, как они надели форму и эполеты национальной гвардии.
Марат, признававший справедливыми требования рабочих об улучшении их участи, заступался за этот угнетенный класс, где и когда только мог. Его «Друг Народа» стал органом рабочих, и этим объясняется сильная популярность Марата. В «Друге Народа» был подвергнут резкой критике избирательный закон, лишавший рабочих избирательного права. В газете Марата рабочие напоминали о своих заслугах перед революцией. «Мы были всюду, – говорится в ней, – где была опасность; всюду мы были готовы проливать нашу кровь для вашей защиты; три месяца без перерыва мы одни выносили все лишения утомительного похода; по целым дням нас пекло солнце, мучил голод и жажда; а в это время богачи прятались в своих подвалах под землей и выползали, когда это не было уже опасно, для захвата власти, почетных и общественных должностей. Для вас мы приносили себя в жертву, а теперь в вознаграждение за наши жертвы мы даже не получили утешения считаться гражданами – спасенного нами государства. Что дает вам право так третировать нас? Ведь вы сами согласны с тем, что и бедняк такой же гражданин, как богатый. Но, утверждаете вы, его скорее можно подкупить. Полно, правда ли это? Присмотритесь ко всем монархиям света белого! Разве не из богачей состоит вся продажная толпа царедворцев?»
Но в той же мере, в какой росла популярность Марата среди рабочих, росла и ненависть к нему Лафайета и Бальи. 14 сентября 1790 года они поручили 300 солдатам национальной гвардии напасть на типографию, в которой печатался «Друг Народа». Станки были изрублены топорами, а персонал типографии арестован. Но «Друг Народа» выходил по-прежнему, так как Марат продолжал его выпускать, несмотря на громадные жертвы и опасность, с которыми это было сопряжено. Так как газета, вполне естественно, не оправдывала своих расходов, потребовались сторонние средства. Деньги давала возлюбленная преследуемого писателя Симония Эврар. Она бросила мужа, чтобы связать свою судьбу с судьбой Марата; историки ее часто смешивают с его сестрой Альбертиной. После убийства Марата она жила только воспоминаниями о нем и удалилась от света. Правительство не переставало считать ее опасной и все время держало ее под надзором. Когда 23 декабря 1830 года на Наполеона Бонапарта было произведено покушение при помощи адской машины, арестовали большое число демократов, в том числе и Симонию Эврар, но найти какие-нибудь улики против нее не удалось.
Если бы не страх перед рабочими, готовыми подняться по первому зову, для них ничего бы не сделали. Но, наконец, и коммуна увидела, что необходимо сделать что-нибудь для облегчения ужасной нужды населения. Она потребовала от национального собрания кредита для того, чтобы предоставить заработок безработным рабочим. Собрание ассигновало пятнадцать миллионов франков. На эти средства в Париже были тогда учреждены государственные мастерские, называвшиеся тогда благотворительными мастерскими (Ateliers de charité). Уже по названию этому можно судить о том, как относились к этому учреждению господствующие классы. Мастерские эти находились в различных частях Парижа, и там работали не только парижские рабочие, но и рабочие из провинции. Они принимались обыкновенно в эти мастерские по рекомендации депутатов соответствующего департамента. Можно было видеть, как они толпами, распевая революционные песни, прибывали в Париж. В одном Монмартре в государственных мастерских было занято 17 000 человек. Из этих-то рабочих и состояли те революционные массы, которые выступали во время восстаний 1792, 1793 и 1795 годов. Во время их шествий можно было видеть всю их нищету, и обитатели богатых кварталов с ужасом убеждались в том, какое громадное количество полуголодных и полуодетых людей скрывает в себе революционный Париж. Аристократы презрительно называли это голодное и обтрепанное население санкюлотами (голоштанниками); но демократия приняла эту кличку, превратив ее, как это было и с гезами, в почетное название.
Понятно, что и государственные мастерские не могли совершенно устранять нужду рабочего класса. Рабочие часто жаловались на то, что плата выдается ассигнациями и что заработная плата вообще низка. Они приносили себя в жертву революции, и для того, чтобы поддержать демократию в ее борьбе со старым порядком, они вместе с семьями терпели острую нужду. За все время великой революции ни один класс не обнаружил так много душевного величия и самозабвения, как парижские рабочие.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































