Текст книги "Мурлов, или Преодоление отсутствия"
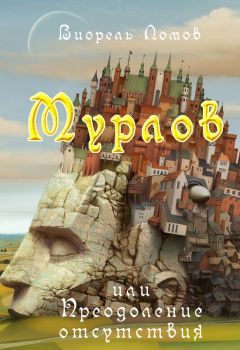
Автор книги: Виорель Ломов
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 15 (всего у книги 52 страниц)
* * *
Где-то под католическое Рождество, двадцать третьего или двадцать четвертого декабря, умер Филолог. Соседи взломали дверь, так как несколько дней он не подавал признаков жизни. Квартира была в запущенном состоянии, кухня забита пустыми бутылками, спальня буквально усыпана листопадом печатной продукции. На отдельных листках любопытные могли прочитать интересные мысли о том, как решали проблему счастья Хемингуэй и Френсис Скотт Фицджеральд.
У Филолога был инфаркт. Первый, он же и последний. Бедняга держал в руке телефонную трубку, а оттуда неслось, как из китайского будильника: по-ра… по-ра… по-ра…. Сердце, говорят, разнесло в клочья. Как гранату. С его смертью средний возраст жизни мужчин в стране стал катастрофически катиться вниз, точно после Филолога мужикам в этой стране и делать стало нечего.
Гроб был закрыт. С фотографии глядел на Фаину незнакомый, молодой, серьезный мужчина, и Фаина с болью в сердце поняла, что настоящий Филолог – вот здесь, на фотографии, наконец-то она уловила его ранимую, хрупкую и такую нежную суть, которую нельзя было и в руки взять, и отвергать нельзя было… «Да и я, настоящая, здесь, рядом с ним. Вот и свиделись по-настоящему, – подумала она, – получилось». А за ее спиной перешептывались, совсем в духе Филолога.
– Такой молодой умер… Женщин очень любил…
– А Наталья Семеновна, почему тогда умерла?.. Пятидесяти не было…
– Наталья Семеновна деньги очень любила…
– Да-да… Сейчас мужчины от сильной любви к женщинам мрут, а женщины от сильной любви к деньгам…
Душа Филолога должна утешиться такими речами. Царствие ему небесное!
Был на похоронах и Гвазава.
– Я знал, что ты здесь, – объяснил он ей свое присутствие. Фаина с удивлением посмотрела на него. У нее в голове закружились слова «…собачья свадьба… собачья свадьба…»
– Я еще жива, Савушка. Тут, кажется, люди пришли проводить человека в последний путь, а не на очередное свидание.
– Этот человек забрал у меня покой. Я пришел вернуть его.
– Боюсь, мил друг, не получится. Давай помолчим.
Фаина не стала продолжать этот неуместный, почти кощунственный разговор. На поминки она не пошла. Гвазава тенью шел за ней. Но это не была тень Филолога. «Ну как не жалеть их, таких слабаков, – думала Фаина, – дети – они и есть дети». Она так и не смогла выдавить из себя ни одного слова и постаралась вымучить на прощание хотя бы улыбку. Гвазава сказал:
– Фаина, пойдем на Новый год к Хенкину. Там весь их отдел собирается. Меня пригласили.
– Что делать, – вздохнула Фаина, – пойдем.
«Будет как раз девять дней», – подумала она. Ей стало вдруг до того жалко этого самодовольного эгоиста, что она едва не погладила его по руке.
Фаина долго не могла уснуть, плакала и все вспоминала отчаянное лицо Филолога, когда тот ерзал на коленях в каюте и страстно умолял ее отдаться ему. Ах, дура я, дура! Я твоя, Филолог. Твоя. Ты слышишь? Во веки веков. Не доспорили мы с тобой, Филолог, кто прав – Гельвеций или Толстой. Наш с тобой роман, Филолог, не был начат на земле и закончится ли он на небесах? Ах, как тяжело дышать! Где этот чертов валидол? Как холодно сегодня! Все замерло и замерзло. А окно чистое-чистое, словно говорит: «Посмотри в меня».
Через ясное стекло окна было видно несколько звездочек в ясном синем небе. Там, встретимся там, в этом созвездии, – успокаивала она себя и витавшую над ней душу Филолога.
Глава 19. «Где он, все отравивший, этот сладостный миг?..»
Фаине передали стопку перевязанных тетрадей.
– От кого? – удивилась она.
В ответ пожали плечами.
– Вы почтальон?
Плечи опять поежились.
– Ничего не понимаю. Из Москвы?
Та же реакция. Плечи были узкие, не плечи, а плечики для дамской блузки, худенькие, покатые, интеллигентского покроя, и куда-то спешили. Суетливые плечи. А лицо не разглядела. А хотела, почему-то очень хотела разглядеть, что это за почтальон Печкин пришел. В прихожей, как назло, перегорела лампочка. «Чудеса, да и только! – подумала Фаина. – Меня, очевидно, спутали с редактором литературного журнала. Ни адреса, ни телефона… Может, папе?»
Беспокойство вошло внутрь, и Фаину стало страшно все раздражать и мешать просто своим присутствием и своим внешним видом: стул, дверь, полотенце, банка… Господи, да что это со мной?!
Когда Фаина села в кресло, взяла тетради в руки, развязала веревку и еще не открыла, а только прикоснулась к обложке верхней тетрадки, она увидела, что рука ее дрожит. Тетрадки были исписаны аккуратным убористым почерком. На одной из них на обложке было написано «Одиссея капитана Дрейка». «Жизнь забавна тем, что кончается», – прочитала Фаина первую попавшуюся фразу и текст поплыл перед глазами. Фаина листала школьные тетради, в двенадцать и в двадцать четыре листа, с лощеной и простой бумагой, в линейку и клетку, в косую линию и без всяких линий, новенькие и потрепанные, с жирными и серыми пятнами от масла и кофе, писанные простым и красным карандашом, шариковой и перьевой авторучками, было несколько листочков, исписанных тушью. Она читала отдельные строчки, фразы, целые страницы и не могла понять, что это – дневники, записные книжки, художественное произведение или так, непонятно что, кем и когда, для чего и для кого написанное. Ну писалось-то, понятно, для самого себя. Невозможно было сразу понять, кого подразумевал автор под многочисленными дамами – № 1, № 2… № Y. Впрочем, было и множество женских имен. Целый словарь. Так же точно и с господами, только их имена высекались клинописью. От этой шифровальной грамоты многие места казались двусмысленными, за текстом угадывался подтекст и прочие ассоциации и реминисценции. Случайные наброски, заметки, выписки, неоконченные предложения, стихи, колонки цифр, даты – вполне реальные и напоминающие бред Поприщина («третий день Агасфера», «тантрический день двести четвертой луны») – все это было странно, порою вычурно, порою чересчур простовато и даже грубовато, не без вульгаризмов и идиом, местами же искренне и великолепно.
«Это мужчина, – думала Фаина. – Это мужчина, и он странный и интересный человек. У него неуловимая внешность, нет, не так. У него манеры, лицо и фигура человека, о котором не скажешь, что он автор этих стихов. А читая эти стихи, невозможно представить его лицо, глаза, рот, руки… У него как-то во всем нет частностей, у него узнаваемость на уровне образа, идеи. Как будто он не от мира сего». Фаина поймала себя на том, что не может представить себе облик автора этих записок по единственной причине: она боится сделать это.
Короче, это был простой, как жизнь, и, как жизнь, непростой стиль и жанр, на первый взгляд – эклектика, на второй взгляд – эклектика, а на третий – начинаешь понимать, что полюбил эту эклектику с первого взгляда, и что тебя этим нарочитым сочетанием несочетаемого испытывают на прочность и на восприимчивость чужих, не твоих, мыслей и взглядов…
«Мир состоит из богов, царей, дилетантов и женщин. 36 тысяч одних только средиземноморских богов! Был даже бог дверного косяка, поэтому, выворачивая дверь вместе с косяком, поступают отнюдь не по-божески. Всего же, по самым скромным подсчетам, богов было полмиллиона – тех, у которых было хоть какое-то имя; царей миллион – в том числе и тех, чье имя неизвестно, чей подвиг сомнителен; женщин пять: Елена, Клеопатра, Мария, Маргарита, Софья. Все остальные – дилетанты».
Софья. Что за Софья? Палеолог? Алексеевна? Лорен? Фаина задумалась и рассеянно листала страницы, надеясь найти какое-то объяснение этому имени.
«Софья забирает последнюю мудрость».
Ага, значит, Софья наша современница. Уже теплее. Но кто же это? Какая Софочка способна забрать мудрость? Неужели…
«Рассказала Соня. Знаешь, как умный еврей разговаривает с глупым евреем? Как? Умный еврей разговаривает с глупым евреем по телефону. Из Нью-Йорка».
Через пару страниц запись: «Саша ревнив, как Отелло, ка к сто тысяч дряхлых старцев, ревнив, как Мольер, как банановый диктатор. Только не воюет, не распутничает, не казнит и не пишет. А читает чужие мысли на расстоянии и чужие письма вблизи. И еще изучает интимную жизнь микромира сквозь очки в десять диоптрий».
Соня… Саша… Больцман, что ли? То-то ходили сплетни, думала Фаина, что Больцман нанял частного детектива, чтобы поймать жену, так она умудрилась изменить ему даже с этим детективом. Про нее говорили, что она не изменяла супругу только с академиком Сидоровым – и то не по ее вине, а по беде академика.
«Если женщина отравила жизнь хотя бы одному мужчине – она прожила свою жизнь не зря… Женщина может быть не в духе, так как она всегда остается в теле. Прелесть женской красоты в том, что она хрупка, как хрусталь, и каждую минуту может разбиться… Надежда – состояние, при котором сумма уверенности и сомнения чуть-чуть больше нуля. Утраченные иллюзии означают одно: что за них заплатили дороже, чем следовало». Да что же это такое! Неужели… Фаина трясущимися руками открыла последнюю тетрадь, и у нее сразу же потемнело в глазах. «Афина – Фаина», – было каллиграфически выведено на первой странице, а на обложке карандашом было написано и зачеркнуто: «Обе – дочери Зевса, обе богини разума, но одна хороша в военном облачении, а другая – без всякого». Фаина жадно вчитывалась в страницы, возвращалась назад, перечитывала, сопоставляла, поворачивала даже зачем-то тетрадь боком и даже вверх ногами, точно в ней была египетская грамота или арабская вязь. «Не родившись, слова умирают. Мысли, как руки слепого, ищут их. Ради Бога! – не надо. Пусть они умирают».
– Это он! Это он! – почти кричала Фаина.
* * *
Там, где царствуют Афина, Афродита с Артемидой,
Там достойны лишь Фаина, Рита, Анна, Соня, Лида.
Только Рита, Анна, Соня, только царственная Лида
В прошлом, в прошлом… И Фаину мне за них шлет Немезида.
* * *
«Это, кажется, последнее счастье, что дал мне Всевышний – любить ее. И, странно, она сама свет, легкость и поверхностность, вернее, блеск поверхности, а так заставляет меня глубоко, по-черному страдать, легка и стремительна, как ласточка, а промелькнет мимо меня – и тело мое разбито и мне непослушно, и такая тяжесть на душе, и такая печаль одолевает мои мысли и душу, что я начинаю ощущать тело и душу уже как бы порознь, будто я уже в ладье Харона. Это в первый раз и, чувствую, в последний. Эти крайности уже завязались мертвым узлом на моей шее. Хотя почему? Ты не совсем тут прав, товарищ стихоправ. Стихи эти написаны только благодаря ей. Исключительно благодаря ей. И ей я их посвящаю… Тебе, Фаина, все, что ты сейчас прочтешь. И пойми меня хоть раз в этой жизни. Пардон, для меня – в той. Для тебя – я был, есть и буду, увы, не от мира сего.
Вот и визитку уже принесли. Черную метку судьбы. Из нее ничего непонятно мне: кто, кого, где представляет, на какой срок. Но в ней есть что-то абсолютное, представлять все и везде, вот только навсегда ли – вопрос».
Эта запись была в середине последней тетради. Почерк был далеко не каллиграфический, почерк изменился неузнаваемо, почерк стал безобразный: в первых тетрадях почерк был самовлюбленным юношей, для которого весь мир был зеркалом, в котором он видел только себя, Нарциссом, ищущим восхищение в глазах читающих его, он любовался собою, упивался молодостью и успехом, а на последних страницах он уже ни на что не обращал внимания, так как перед ним разверзлась вдруг пропасть – пропасть без дна, где тьма лишь одна. В конце тетради были вложены листочки со стихами, написанными, судя по всему, в разные годы.
* * *
… Где слова вдохновенные, пылкие речи,
Каламбуры изящные, трепетный стих,
Удивительный взгляд, бесподобные плечи,
Где он, все отравивший, этот сладостный миг?..
* * *
«…Такая тоска, а еще тащиться в этот проклятый музей! К этому рыжему немцу или еврею, забыл его имя. «Пора»! И визитка куда-то пропала… Когда я уйду навсегда, отвечай, не ушел никуда. Если спросят тебя».
Это была последняя запись, от двадцать первого декабря. Филолог жил после нее еще целых три дня. Что за рыжий такой? Может, клоун? В музее? А еще говорят, рыжие приносят счастье. Где же была я? Где меня носило? Фаина, хоть убей, не могла этого вспомнить. И сколько она жила, столько вспоминала и столько не могла вспомнить о тех проклятых трех днях. Их точно не было в ее жизни совсем.
Вдруг из тетрадки выскользнула визитная карточка и легла черной стороной на стол. В правом верхнем углу светилась буква «П». Фаине показалось, что буква медленно крадется к краю визитки, но только тогда, когда на нее не смотришь. На лицевой стороне было что-то написано, скорее всего на каком-нибудь мертвом языке, который сейчас уже стал изучать Филолог.
Фаина плакала, опустив голову на стол. И повторяла, повторяла, повторяла, как заведенная, запомнившиеся четыре строчки из жизни Филолога, вместившейся теперь в одну строку: «Родился. Тире. Умер»….
«Глядишь с укором, дрожат губы, глупые губы кусаешь зубами. а у меня в ознобе зубы… Глупые губы целую губами…»
«Глупые губы кусаешь зубами…» – прошептала Фаина и, взглянув в зеркало, вытерла с губ кровь. Она посмотрела на визитку и не увидела буквы «П». Может, помешали слезы?
Глава 20. Башня
– Что засмурнел? Первый раз о смерти услышал? Хочешь, про Боба расскажу? Сколько там у нас времени? О, времени у нас до черта и больше! Ложись, патриций. Жаль, смочить нечем рассказ. Ну, да не привыкать. Смочим слюной и слезами, а?
* * *
На Дар-горе возле сельхозинститута, где громадный пустырь, поросший бурьяном, а в жилых кварталах сосредоточена вся герань и фикусы Воложилина, в конце сороковых годов построили водонапорную башню. В поселке вечно не хватало воды, но башня эту вечную проблему не решила. Башню не смогли наполнить водой – по причине ошибки в расчетах и недостаточной мощности насосов. Такое случается в истории довольно часто. Собственно, история – это прежде всего история ошибок. Возьми ту же Царь-пушку в Кремле: Чохов ошибся в расчетах и отлил непомерно тяжелые ядра, благодаря чему пушка сохранила множество жизней и стала памятником литейного искусства.
Однако водонапорная башня в жизни города сыграла определенную ей новейшей историей роль. Не будем сравнивать эту башню с Вавилонской. Упомянем лишь, что Вавилонская башня строилась восточными кочевниками для ориентира в пространстве рабовладельческого мира. К тому же, ее строительство объединяло людей, не давая им рассеяться, общим языком и единой верой. Но богу Яхве (а может, Мардуку) претило людское высокомерие и он взял да и смешал языки, а людей рассеял. Воложилинских инженеров-гидротехников, кстати, тоже по-божески взяли, смешали и рассеяли. Замечено, люди рассеиваются легче семян.
Какое-то время башня была заброшена. Там обитали крысы, ужи и бездомные кошки. Перепархивали с места на место серые и коричневые воробьи. Ползали муравьи и божьи коровки. Сами собой прятались ворованные со стройки гвозди и доски. Встречались картежники и выпивохи. Играли в войну дети. Юные пионеры гладили юным пионеркам колени, а комсомольцы вступали с комсомолками в принципиальный диспут. Собиралась и играла в пристенок шпана. Ютились какие-то французы, то ли потомки гувернеров, то ли остатки наполеоновских войск – спустя два-три десятилетия они обретут наконец-то официальный статус, и их станут звать бомжами. Кирпичная кладка проросла травой и кустарником. На стенах уже негде было писать имена и матерщину. Ступени лестницы внутри башни выкрошились и частью обрушились. Окна в верхней части башни стали напоминать амбразуры дота. Почва возле башни потрескалась, образовавшиеся провалы поросли бузиной и папоротником. С каждым годом место это все больше возвращалось к своему первозданному виду. Энтропия, как заявил учитель физики, растет вместе с благосостоянием трудящихся. Однако тепловой смерти пустыря и башни не последовало, и как-то ненавязчиво ближайшую автобусную остановку назвали «Башня», а когда построили новый микрорайон, то и его, не взыскивая особо, назвали тоже «Башней», а потом и весь юго-запад Воложилина превратился в Башню, и уже то ли шутили, то ли предлагали серьезно провести референдум о переименовании города в Санкт-Башнеград, а то и в более серьезный субъект Федерации – Башнестан.
В год, когда Хрущева сменил Брежнев, из-под башни вдруг выбежал ручеек. Выбежал, осмотрелся и уверенно, благо никто не мешал, разбился на два рукава. По одному направил воду в сторону пустыря, а по другому проложил себе русло до самой Вологжи. Сначала на него, понятно, никто не обратил внимания. Но когда через несколько лет на пустыре образовалось озеро с камышом, браконьерами и дикими утками, а из реки пришел сом и стал нападать на девушек, назначили комиссию. Выводы комиссии потом долго лежали стопочкой в туалетах СХИ и горисполкома. А у пострадавших девушек родились чернокожие дети.
Источник не один раз засыпали песком и гравием, закидывали камнями и бетоном, но все без толку: как только наступал июнь, пацаны, побросав в кучу одежду, обувь, портфели и пионерские галстуки, с упоением ныряли с бетонных блоков в холодную воду и вытаскивали из-под блоков гигантских раков.
Обычно такие самостийные ручейки называют «воняловками», но это название никак не подходило к данному случаю: вода вообще никак не пахла. Хоть пей ее. Но воду не пили, так как в нескольких километрах к востоку был какой-то жутко засекреченный подземный ящик. Мало ли какую заразу делают там для защиты Отечества! А вдруг водичка оттуда. Поскольку ручей впадал в Вологжу по течению ниже водозаборной станции, официально никто водичку не анализировал. Для полива же ее использовали охотно. Во-первых, другой воды все равно не было, а во-вторых, вырастали на диво крупные плоды, вкусные и сочные, чрезвычайно благотворно влияющие на перистальтику и гениталии граждан.
* * *
Как-то раз Борька Нелепо… Нелепо – это не прозвище, не кликуха, так давным-давно назвали его пра-пра– (в какой-то десятой степени) деда за то, что он всему радовался и, имея голос зычный, как у быка, то и дело ревел: «Это мне любо! Лепо! Лепо!» Церковные служители пытались поставить его могучий голос на службу Богу и пригласили за мзду в церковный хор, но когда в головах прихожан и после службы еще гудело всю ночь и под утро снились медведи, а колокол от резонанса дал трещину, эту затею оставили раз и навсегда. А жаль. Ну, а поскольку все окружающее было ему лепо, то это окружающее вполне резонно стало именовать его Не-лепо. Так и остался он в истории человечества Нелепой, а как была его настоящая фамилия, уже и не помнил никто, и записей на сей счет оставлено не было.
Так вот, как-то раз Борька Нелепо нарушил неписаный закон и пригласил на танго Глызю, так называемую «девушку» Сани Ельшанского, известного далеко за пределами Башни, Нижней и Верхней Ельшанок бандита. Пригласив на танго Глызю, Борька действительно поступил нелепо, что там говорить. За что и получил ему причитающееся и очнулся звездной ночью далеко от танцплощадки, почти в степи, возле той самой башни, о которой и идет, собственно, речь.
Ночь была прекрасная: тихая, теплая, сладкая, как халва, со сверчками и цикадами ночь. Борьке, понятно, было не до ночных красот – ему бы водички да бодяги, не болтовни, естественно, а травы, чтоб сделать примочки от синяков. Бодяги ночью было взять негде, а воды – хоть залейся. Со стонами и кряхтеньем Борька разделся и залез в воду. Вода была теплая, чуть солоноватая и держала тело на поверхности, как на ладонях. За день озеро хорошо прогревалось, хотя сам источник был ледяной до зубовной ломоты. Борька, раскинув руки, лежал на спине и глядел в небо, как в огромное зеркало. Боль потихоньку успокаивалась, затухала. Необычайная ясность мыслей, их какая-то звездная прозрачность – поначалу насторожили его, а потом наполнили душу восторгом. Ему вдруг представилось, что весь мир лежит вместе с ним на спине в этой благодатной воде и смотрит на звезды. И всему этому миру тоже было на все плевать и ничего не надо – лишь бы ничего не болело, не саднило и никуда не надо было бежать за кем-то или от кого-то. И для всего мира эта ночь тоже была сладкая и тягучая, как халва. «И чего это я связался с Глызей?» – недоумевал Борька, и вместе с ним недоумевали весь мир и все прогрессивное человечество, а звездное небо пожимало плечами. Борька поднялся в воздух и, не ощущая дуновения ветра, полетел, как ангел, к звездам, и увидел в черном глубоком зеркале свою побитую морду, и ему стало стыдно. Тут он захлебнулся и вернулся из дремы. Черная воздушная полусфера была пронизана сверху мириадами голубых светящихся нитей, а снизу мириадами серебряных переливчатых голосов, и где-то высоко-высоко под куполом мирового цирка эти светящиеся нити и серебряные голоса завязывались в невидимые узелки и создавали легкий гамак, на котором раскачивались и отдыхали боги со всех краев земли и неба. И где-то там же раскачивался гроб пророка Магомета.
Нехотя, по необходимости – с утра надо было идти в институт делать лабу, Борька выбрался из воды, оделся и пошел навстречу восходящему солнцу, домой. (Не замечал – всякий раз, когда утром возвращаешься домой, всегда идешь на восток, навстречу солнцу?). Удивительное дело – он как будто заново родился, ничего не болело и, главное, на душе было такое блаженство, хоть стихи романтические пиши.
Дома, правда, романтический настрой ему слегка подпортили. Мать всю ночь не спала и простояла у окна, глядя красными сухими глазами на освещенную лампочкой дорожку под кленами, которая к утру из желтоватой превратилась в серую, а потом стала белеть. Сначала она, как всегда, нервничала и молилась Господу и святителю Николаю, чтобы спасли и защитили ее непутевого сына от моря бед, а потом сами собой припорхнули воспоминания о собственной молодости, так ярко вспыхнувшей, и тут же приплелись тяжелые раздумья о приближающейся старости, тусклой и угасающей, болезнях и немощи, неизбежном одиночестве, страшном и пленительном одновременно. Ведь все в конце концов будет так, как будет, – в какой уже раз решила она, но все равно не могла изгнать из души материнского беспокойства. Когда Боренька тихо открыл дверь и проскользнул в комнату, она не обернулась, и он, заметив ее возле окна, поколебался, но подошел к ней.
– Ты опять не спала? Ну что ты в самом деле? Мне уже скоро двадцать лет, третий десяток пойдет, а ты меня все у окна поджидаешь.
– Ты для меня и с бородой будешь Боренькой, вот таким комочком, каким я тебя увидела в первый раз, – вздохнула мама. Она не плакала, не ругалась, и от этого у сына скребли на душе кошки. Неведомо ему еще было тогда, что он и впрямь – хоть и без бороды – останется для нее на всю жизнь маленьким теплым комочком, в котором для нее сосредоточилось все тепло Вселенной. А она это знала, этому не надо было учиться или узнавать от родных и знакомых, это выросло в ней самой. Боренька же жил, жил, не тужил, у него выросли роскошные, сводившие с ума все женское поголовье, усы, а борода не росла, если не считать жидкие и белесые, как у аксакала, волосики, которые пробились после второго курса. «Видно, почва на подбородке не та, хорошо хоть сверху да под носом густо», – решил он и бороду больше не отпускал, но слов маминых о том, что он непременно когда-нибудь окажется с бородой, не забывал. Мама никогда не ошибалась относительно его будущего, даже если ничего не говорила о нем, он сам читал по ее глазам. Он умел читать по глазам – это была его первая освоенная в жизни грамота и, быть может, единственная и самая главная из всех грамот. (Когда он окажется в одной компании с Рыцарем и в первый раз увидит, как из-за поворота выносит плот с орущим Бородой, он тут же поймет – вот она, его судьба. Он еще жив, он по-прежнему маленький комочек тепла. Почему от инфарктов помирают в основном мужчины? Да потому от инфарктов помирают в основном мужчины, что матерям не до этого, им надо дольше жить, чтобы не дать остыть этим мужским комочкам, не позволить превратиться им в обыкновенные куски мяса. У каждого в душе живет мама, и душа жива до тех пор, пока мама живет в ней. Господи, разве я не прав?)
– И где это тебя носило, – спросила она. – Есть будешь?
– Буду.
Мама вздохнула и пошла разогревать еду, а Борька включил настольную лампу и осмотрел лицо в зеркале – синяков не было. Удивительное дело! Пронесло на этот раз. А отделали хорошо. Под правый глаз съездили, а никаких следов. Просто удивительно! Но от бессонной ночи шумела голова, чесались глаза и разбирала зевота. Еще надо успеть заглянуть в учебник. Но все-таки, никаких следов! Это ж надо! Расскажи кому – не поверят.
Делать лабу он сел, как всегда, с Юркой – тот классно разбирался в электротехнике. Юрка долго глядел на него и наконец спросил:
– Что-то я не пойму, Боб, у тебя должны были остаться следы, не может быть, чтоб так лупили и…
– А ты где был?
– Где-где? Там же, где и ты. Только у меня еще голова на плечах есть, и я не хочу, чтоб из нее каждый идиот делал боксерскую грушу.
– Что же не помог?
– Иногда помощь заключается в том, чтобы ее не оказывать. Теперь ты подумаешь, прежде чем пригласишь прекрасную даму на вальс – благо, есть чем думать. И дам надо уметь выбирать.
– На танго. На танго, а не на вальс. Я вальсам не обучен.
– Учись. Если бы я ввязался, глядишь, отпевали бы обоих сейчас. Эти ребята не любят активное сопротивление.
– Мне уже поздно учиться, – сказал Боб. – Активное сопротивление, пассивное – это что-то из электротехники, это по твоей части.
И с Юркой больше лабы не делал. Электротехника, как оказалось, Бобу давалась совсем туго.
* * *
– Такой вот он, наш общий друг, – сказал Рассказчик. – О нем мы еще поговорим. Пора и о тебе вспомнить. Впрочем, о тебе еще рано. Почву надо сперва подготовить, циновку раскатать.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































