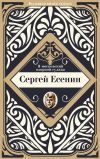Читать книгу "Есенин"

Автор книги: Виталий Безруков
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: 18+
сообщить о неприемлемом содержимом
– Браво, Есенин! Нас еще не прижимал!!
Кусиков пригрозил им кулаком:
– Тихо! Вы… Давай, Сергей! Один!
Сделав небольшую паузу, Есенин пропел тихо, обреченно опустив голову:
Да! Есть горькая правда земли,
Подсмотрел я ребяческим оком:
Лижут в очередь кобели
Истекающую суку соком.
И снова, резко ударяя по струнам, бросая вызов всем женщинам, которых он любил и любит, набычившись, упрямо замотал русыми кудрями:
Так чего ж мне ее ревновать,
Так чего ж мне болеть такому.
Наша жизнь – простыня да кровать.
Наша жизнь – поцелуй да в омут!
Девицы под припев пустились в пляс, настолько захватывающе звучали последние строчки стихотворения. Сандро Кусиков, размахивая руками, как истинный горец, на цыпочках вился вокруг пляшущих, вскрикивая: «Асса! Асса!»
И все хором вместе с Есениным уже не пели, а истошно кричали:
Пой же, пой! В роковом размахе
Этих рук роковая беда.
Только знаешь, пошли их на хер.
Не умру я, мой друг, никогда.
– Браво! Браво! Есенин! – аплодировали и кричали все разом.
Блюмкин обнял Есенина и расцеловал.
– Вы все должны учиться у него! Пигмеи! Наша жизнь – простыня да кровать… Сегодня жив, а завтра в омут… Пойду еще выпивки достану! – Скинул халат и, надев кожаную куртку, сунул в карман наган.
– Яшенька, может, хватит?.. Наган оставь, зачем наган? – встрепенулась Нора, с тревогой посмотрев на гостей.
– «Только знаешь, пошла ты на хер, не умру я, мой друг, никогда!» – зло процитировал Блюмкин.
– Яков, ты совсем одурел! Прекрати, слышишь! – первым возмутился Мандельштам. – А то я уйду!
– Яков Григорьевич, ты в своем уме? – решительно поддержал его Ганин.
– Это уже не смешно, Яков Григорьевич, – добавил Мариенгоф, больше обращаясь к присутствующим.
– Что с тобой, Яшенька? Яша, я тебя не узнаю, – заплакала Нора.
– Это я тебя не узнаю… истекающая… сука… соком… – мстительно пробормотал пьяный Блюмкин.
Есенин побледнел, положил гитару и, встав в дверях, преградил ему дорогу.
– Опомнись, Яков! За что ты ее? Какая муха тебя укусила? Не уходи никуда… не пущу, ты же пьян!.. И вообще, хватит вина, я не буду больше пить!
– Да, Григорич, мы тоже не будем, уж если Есенин пить отказывается, – съязвил Мариенгоф.
– Сидеть! Всем сидеть! – крикнул Блюмкин. – Я сейчас. – Подойдя к Есенину, стоявшему в дверях, прохрипел, сунув руку в карман:
– Прочь с дороги!
– Ты с ума сошел, Яков! Ты с ума сошел! – не двинулся с места Есенин.
– Считаю до трех, – Блюмкин достал наган. – Раз! Два! Три! – И нажал на курок, целясь Есенину в лицо. Выстрела не последовало, только холодный щелчок, но и он произвел на всех впечатление еще большее, нежели бы прозвучал сам выстрел. Все оцепенели.
Ганин яростно бросился на Блюмкина и заломил ему руку:
– Что сидите?! Сандро, Толя, помогите!
Девицы истерично закричали. Бениславская вцепилась в волосы Блюмкину. Кусиков бросился на помощь Ганину, выхватил у Блюмкина наган. Поясом от халата они связали ему руки за спину, и тот сразу скис.
– Пустите! Я пошутил, наган не заряжен… Развяжите! Ну, больно же руки! – почувствовав чужую силу, Блюмкин сразу протрезвел.
– Ладно, давай развяжу! – пожалел его Есенин.
Гости, спешно одеваясь, стали прощаться с женой Якова.
– Я не знаю, что это с ним? Простите, пожалуйста, нас, – извинялась Нора, вытирая платочком непрерывно текущие слезы. – Трезвый – милейший человек, а выпьет – сами видели.
Сандро, тайком передавая ей наган, прошептал:
– Спрячьте. И учтите, он заряжен! Просто была осечка, – и вышел, прихватив гитару и девиц.
– Боже мой! – ужаснулась Нора. Оглянувшись на мужа, она быстро вышла в спальню, сунула наган в свою шкатулку. – Извините, пожалуйста, – жалко улыбнулась она, вернувшись к гостям. – Так хорошо было, и вот…
– Ничего-ничего! С кем не бывает! Переутомился… Все в порядке, – произнес, прощаясь, бодрым тоном Мариенгоф и исчез за дверью.
Есенин подошел к Норе, поцеловал руку.
– Я заеду завтра. Нам ведь в Кремль с ним. Спасибо, Нора, до свидания. Галя, Катька, поехали!
Девушки, стоя уже в дверях с Наседкиным, вежливо попрощались с хозяйкой.
– До свидания! Спасибо! – Мандельштам поцеловал руку Норе и, не обращая внимания на Блюмкина, вышел следом.
Есенин, подождав, когда Ганин наденет пальто, подошел к Блюмкину.
– Дурак ты, Яша, и шутки у тебя дурацкие! Завтра стыдно тебе будет… по себе знаю. До завтра! Проспись! Пошли, Леша!
Когда они были уже в дверях, Блюмкин на прощанье крикнул:
– За мной должок, дорогие имажинисты! Долги я всегда плачу! Ганин, тебе первому! Будь спок!
Ганин вернулся и, наклонившись к нему, что-то с веселой усмешкой прошептал, а вслух добавил:
– Понял, морда пьяная! – и вышел вслед за Есениным, аккуратно притворив за собой дверь.
Нора, не желая оставаться вместе с мужем, ушла к себе в спальню.
Оставшись один, Блюмкин, пошатываясь, походил по комнате, поглядел на дверь, прислушался к удаляющимся шагам гостей. Потом достал из стола расстрельные листки и, обмакнув ручку в чернильницу, стал заполнять.
«В ГПУ. Ганин Алексей, 1893 года. Поэт. Большевистскую диктатуру воспринял как геноцид ко всем народам, кроме еврейского.
На основании декрета «О борьбе с антисемитизмом», принятого в 1918 году, прошу назначить Алексею Ганину мерой наказания лагерь особого назначения либо высшую меру – расстрел».
И подписался: член ВЧК Яков Блюмкин.
У Бениславской Ганин сразу же уселся за стол, налил себе чая из самовара и, неторопливо макая в стакан черствый сухарь, принялся с наслаждением грызть его, изредка прихлебывая.
– И то, что он тебя с Лубянки вызволил, Серега, ни о чем не говорит, – сказал он Есенину, стоявшему у широкого «венецианского» окна. – Им нужен ты… Ты – Россия! Понимаешь? Из нас, крестьянских поэтов, ты самый яркий. Они хотят тебя приручить. Помяни мое слово: они будут душу твою за сребреники покупать… Все они такие, Лейбманы…
– А Леня Каннегисер? – спросил Есенин, продолжая глядеть в окно. – Что его толкнуло на убийство начальника Петроградского ЧК Моисея Урицкого в восемнадцатом году?
Галя Бениславская, переодетая по-домашнему в скромный халатик, сидя на своей кровати, укутавшись в накинутую на плечи шаль, ответила, глядя на Есенина:
– Наверное, желание отомстить за погибшего друга.
Ганин усмехнулся.
– Нет, друзья мои. Я убежден: чувство еврея-интернационалиста, желающего перед русским народом, перед историей противопоставить свое имя именам других евреев – Урицких и Зиновьевых – и для этого совершить акт самопожертвования…
– Психологическая основа была, конечно, сложная, – согласился Есенин. – Но думаю, что она состояла из самых лучших, самых возвышенных чувств.
Глядя с седьмого этажа на виднеющийся в надвигающихся сумерках Нескучный сад, Воробьевы горы, купола Новодевичьего монастыря и темной синевой отливающуюся ленту Москва-реки, он вспомнил, как Каннегисер был у него в Константинове в 15-м году, бродил по берегу Оки. Ночуя в лугах, говорили, сидя у костра, до самого рассвета. Черные глаза молодого поэта Лени Каннегисера напоминали ему глаза Левитана, его неподдельный восторг, истинную горячую любовь к России, ненависть к ее поработителям. Эх, Леня, Леня! И, повернувшись к Ганину, Есенин проговорил с горечью:
– Между прочим, в тюрьме ВЧК меня бил Самсонов. Русский! И в камере провокатор был тоже русский… Ладно! Хватит об этом… Давайте выпьем, что ли. Галя, у тебя ничего нет? – спросил он с робкой надеждой.
– Есть! – засмеялась Галя. – Но с условием: выпьем, но искать больше не будем… как Блюмкин. – Она соскочила с кровати и, сходив в чулан, вернулась с бутылкой вина, видимо, припасенного для такого неожиданного случая. – Бедная Нора, как она может жить с ним, – добавила она, ставя бутылку на стол.
– Любовь зла, полюбишь и козла… – грубо сострил Ганин.
– А Катька где? – спросил Есенин, разглядывая этикетку на бутылке.
– С Наседкиным пошли гулять по ночной Москве… Мне кажется, Сережа, Наседкин давно увлечен Катей.
– Сопля она еще! Какой может быть серьез?
– Этой сопле уже девятнадцать лет, она красивая и стройная девушка, – не сдавалась Галя, подавая штопор и чистые стаканы. – А Наседкину столько же, сколько тебе!
– Но он же поэт! – поморщился Есенин.
– Ты тоже поэт.
Ганин, увидев реакцию Есенина, захохотал:
– Ну ты сравнила хер с пальцем!
– Я прошу не материться в моем доме! – возмутилась Галя.
– Леша, ты што, ох… охренел? Выгонит – куда нам деваться? Мариенгоф женился, дорога к нему заказана. Так что приспичит материться – иди в сортир и изрыгай… Я прав, Галечка? – шутливо-угодливо произнес Есенин, разливая вино по стаканам.
Галя ответила ему влюбленным взглядом, благодарно кивнув головой.
– Ну, чокнемся, – Есенин поднял стакан. – А Катька… то есть Екатерина Александровна, девятнадцати лет от роду получит от меня… – глянул он на Галю, – … на орехи! Как, я культурно выразился, Галечка?
– Да, очень. Спасибо, – и еще раз чокнувшись с Есениным, стала пить маленькими глоточками.
Есенин, залпом выпив свое вино, вздохнул, с грустью глядя на опустевший стакан:
– Жизнь – это глупая штука! В ней все пошло и ничтожно. Ничего в ней нет святого, один сплошной хаос разврата… – задумался он о чем-то своем. – Все люди живут ради чувственных наслаждений…
– Не надо, Сережа, – нежно коснулась его руки Бениславская.
– …но, правда, есть среди них в светлом облике непорочные, чистые, как бледные огни догорающего заката.
– Красиво, – Ганин налил себе из бутылки. – Дети мои, не стесняйтесь, скажите, если мне пора уходить.
– Еще слово, Леша, и я… я пойду в сортир материться.
Ганин встал и, подняв стакан, будто тост в честь хозяйки дома, прочел:
Русалка – зеленые косы,
Не бойся испуганных глаз,
На сером оглохшем утесе
Продли нецелованный час…
Галя застеснялась откровенного намека на ее чувство.
– Не смущайся, Галя, – вступился за нее Есенин. – Эти стихи он Зинаиде Райх посвятил, когда мы с ней венчались под Вологдой…
– Да, на моей родине… в церкви Кирика и Улиты, – подтвердил Ганин. – Все верно. Любил ее, а она вышла за тебя.
Под небом мой радужный пояс
Взовьется с полярных снегов,
И снова, от холода кроясь,
Я лягу у диких холмов!
Шумя, потечет по порогам
Последним потоком слеза,
Корнями врастут мои ноги,
Покроются мхами глаза.
Не вспомнится звездное эхо
Над мертвою зыбью пустынь;
И вечно без песен и смеха
Я буду один и один… —
прочел Есенин до конца стихотворение друга, словно желая этим отблагодарить его, утешить.
Ганин обнял Есенина:
– Спасибо, Сергун! Тронут! Надо же! Наизусть! Здорово! Я думал, ты только свои стихи помнишь…
– Чужие тоже, – засмеялся Есенин, довольный, что угодил ему. – Если они того стоят. Твои стоят. Правда, не все. Извини, брат.
– А правда, Сергей, что ты с Зинаидой разошелся? – простодушно спросил Ганин.
Есенин молча кивнул.
– Да полно тебе, Галя, что за секреты! – сказал он, заметив ее умоляющий жест. – Живет она теперь с ученым, умным мужем, и не нужна ей наша маета, и сам я ей ни капельки не нужен. С Мейерхольдом она, Леша! С Всеволодом Эмильевичем! К нему ушла… в театре у него… прима…
– Артистка?! – удивился Ганин. – Не поздновато ли в ее годы?
– Я видел ее в «Даме с камелиями», – пожал Есенин плечами. – Лучше бы не видел! Какая она артистка! Это видно всем, кроме Мейерхольда… Но он в своем театре хозяин, что хочу, то ворочу. Ладно, бог с ними! – закончил он, видя, что Галя осуждает его откровения. – Скучно! Выпить больше нечего? Может, мы?.. Ах, да! Слово дал! Давайте спать, что ли.
Есенин на минуту задумался: «Завтра с Блюмкиным – в Кремль, к Троцкому. «Что день грядущий мне готовит?..»»
– Сережа, я тебе постелила в темной комнате… где топчан походный. Там неплохо, только темно, – засуетилась Галя, – но ты возьми свечку. Мы с Катей на кровати, как она вернется, а вы, Леша, вот тут, у окна. Я сейчас положу матрасик, и подушка есть, а укроетесь пальто.
– Не беспокойтесь. Галя, добрая душа! Я рано утром уйду, – помогая Есенину отодвигать стол от окна, сказал Ганин. – По издательствам пойду. Везде блокируют… стихи возвращают, бль… – чуть не выругался он. – А если берут – денег не платят… Жить нечем. Эх! – горько вздохнул он, взяв папиросы со стола. – Вы ложитесь! Я пойду на лестницу, покурю.
Пройдя тускло освещенную прихожую, он вышел на площадку и увидел, как по лестнице метнулась чья-то тень и кто-то затопал вниз по ступенькам.
– Эй! – крикнул он вдогонку. – Кто тут? Слышь ты, сволочь? Что прячешься?
Далеко внизу хлопнула входная дверь.
В комнате Галя постелила на пол матрасик, подушку, разобрала свою кровать.
– Отвернись, Сережа, я разденусь.
– Что? Да-да… – отвернулся Есенин, но в зеркале трюмо ему было видно, как раздевается Галя. Он увидел ее грудь, стройную фигуру.
– Я тоже пойду покурю, – сглотнул он слюну.
– Дверь входную не забудьте покрепче захлопнуть, а то замок плохой, – юркнула она в кровать, укрывшись с головой одеялом.
На площадке Есенина встретил испуганный Ганин.
– Т-с-с-с! – приложил он дрожащий палец к губам.
– Ты чего, Леша? – прошептал Есенин.
– Кто-то стоял у двери, слушал. Как я вышел, убежал!
Есенин замер, прислушался, заглянул в темноту лестничного пролета. Испуг друга отозвался в нем нервной дрожью.
– Это меня… Как зверь чувствую! Меня они хотят убить! – И устыдившись своего страха перед другом, крикнул с вызовом: – Эй, вы, суки! Идите! Идите сюда!..
Но в ответ лишь испуганная кошка метнулась мимо них.
«Мяу! – злобно мяукнула она, словно угрожая. – Мяу!»
Есенин прикурил и, щелчком швырнув догорающую спичку в темноту, глубоко затянулся раз, другой, третий.
– Жуть, Леша! Сумасшедшая, бешеная, кровавая жуть! В тюрьме ВЧК я слышал, как расстреливали во дворе… каждую ночь! Что-то не то в нашей России творится!
– Я давно это понял… и сделал выводы… – приглушенно заговорил Ганин. – Нам надо бороться с ними. Нужно организованное сопротивление. Для этого не обязательно большое количество людей, хотя нас уже много, таких, кто готов идти до конца. Террор! Вспомни историю бомбометаний в России. Они сами подали пример… Основа нашей программы – национализм. На этом чувстве можно вести за собой всю громаду народа.
– У вас и оружие есть?
– Оружие – дело второстепенное… не вооруженность решает дело, а воля, спокойствие, хитрость, затаенность. Надо закалять в себе волю! А оружия можно достать сколько угодно… Я умею делать пироксилин. Щепотка в жестяной банке взорвет массу народа…
– Опять кровь?!
– Да! Кровь за кровь!
– Брат на брата?
– Это бесноватый Блюмкин, который нынче чуть не застрелил тебя? Он тебе брат? Или Лейба Бронштейн, что приглашает тебя завтра в Кремль, чтобы поставить «раком» и отодрать… В общем… переворот рано или поздно будет! Ты знаешь, у нас уже есть список будущих министров. Я тебя, Серега, включил министром народного просвещения. Не веришь? У нас и типографский шрифт есть!
– Ты больной, Леша? Бросай нюхать кокаин! А меня из списка вычеркни! – жестко потребовал Есенин. – Нашел министра…
– Не хочешь, не надо! Будет Приблудный министром. Только не пожалей потом.
– Не пожалею, контрреволюционер хренов! – Есенин бросил под ноги папиросу, раздавил каблуком. – Хватит! Пошли спать, – отворил он дверь.
– Может, еще винца? – заспешил за ним Ганин.
– Будет тебе, ты и без вина виноватый. Ложись и ни гугу, а то ты меня знаешь, я и в морду дам, не посмотрю, что друзья.
– Молчу, молчу! Правильно, Серега! Бей своих, чужие бояться будут! – Он разулся, положил ботинки под матрас, накрылся своим пальто и затих.
Есенин посмотрел на отвернувшуюся к стене Галю, взял со стола свечу и пошел в чулан. Поставил свечу на стул. Разделся, лег, закинув руки за голову. Через какое-то мгновение дверь в чулан скрипнула, и, крадучись, вошла Галя, босиком, без халата, в одной сорочке… Встала перед Сергеем, прижав руки к груди.
– Ты что, Галя? Ганин пристает?
– Нет! Я сама к тебе… Тоскливо, Сережа! – прошептала она, задыхаясь.
– Глупости не надо делать даже с тоски, – вдруг тоже часто задышал Есенин.
– Я люблю тебя, Сережа, – заплакала Галя. – Я обрадовалась, как узнала, что ты разошелся с Райх. Прости! Я с ума схожу. Я люблю тебя! Возьми меня… у меня еще никого не было.
Южный темперамент, унаследованный от матери-грузинки, от отца-француза, свобода чувств захлестнули ее. Она медленно сняла с себя рубашку, мгновенье постояла, словно давая полюбоваться Есенину своей девственной чистотой, и, дрожа всем телом, осторожно легла на него, легким выдохом погасив свечу.
В комнате Ганин приподнял голову, прислушиваясь к стонам и вскрикам, доносившимся из чуланчика.
– «Наша жизнь – простыня да кровать, наша жизнь – поцелуй да в омут», – как молитву прошептал он слова друга.
Редко девушка в первую свою близость с мужчиной испытывает восторг физического наслаждения. Все происходит не так, как мечталось. Но Есенин был из той породы мужчин, которые, удовлетворяя свою страсть, не были «эгоистами». «Небольшой, но ухватистой силою» он всегда давал возможность женщине испытать «восторг сладострастья», сколько ей этого хотелось. И, видимо, поэтому любовь Галины к Есенину – человеку, личности слилась с удовлетворенной женской страстью в одно огромное чувство, которое делает женщину либо «рабою», либо «деспотом».
В Гале проснулась «рабыня». С этой ночи она стала по-собачьи предана ему. Наутро, поливая Есенину воду из чайника, когда он традиционно мыл свою кудрявую голову перед серьезным деловым свиданием, она торопливо наставляла его.
– Знай еще: Троцкий – Сальери нашего времени. Он может придумать тебе конец не хуже моцартовского… Он сумеет рассчитать так, чтобы не только уничтожить тебя физически, но и испортить то, что останется… Всякую память о тебе очернить. – Она подала Есенину полотенце. – И еще, Сережа! Умоляю, в Кремле… там у них, не показывай свою храбрость… не поймут, то есть поймут, но не так, как надо…
– Я приглашен ко Льву в пасть к тринадцати, видимо, на обед, – пошутил Есенин, уже одетый в свой лучший серый костюм, причесываясь перед зеркалом.
– Я серьезно, Сережа! Зло против тебя у него в глубине большое, сам знаешь… Он хорош с тобой, пока ты ему нужен.
– Да уж, – согласился Есенин и пропел, оглядывая себя всего и приплясывая:
Что-то солнышко не светит,
Над головушкой туман.
То ли пуля в сердце метит,
То ли близок трибунал!
Эх, доля, неволя…
…………………………………
– Неотразим! – обняла его Галя, поправляя отдельные кудряшки на лбу, и потянулась губами для поцелуя.
– Ну тебя! Запугала совсем, – отстранился Есенин. – На месте разберусь!
Галя обиженно отошла, достала белый платок, подала Есенину.
– Возьми, он чистый! Внимательно смотри! Ну, с Богом… то есть удачи вам, Сергей Александрович.
Есенин почувствовал ее обиду. Он остановился в дверях и, решительно обернувшись, глядя ей прямо в глаза, произнес:
– Вы потрясающий человек, Галя… у меня сейчас никого нет ближе вас, то есть тебя… но, прости… я… я все-таки не люблю тебя, как Райх… как Зину! Прости! Но так уж вышло… Я теперь вот живу у тебя… о тебе могут нехорошо подумать… Хочешь… хочешь, женюсь, официально женюсь? – добавил он обреченно.
Бениславская отвернулась к окну, скрывая навернувшиеся слезы отчаяния и горечи.
– Я… Я не пойду за вас замуж, Сергей Александрович, только из-за того, чтобы люди об мне хорошо думали… Иди, Сережа, я сама отвечаю за себя! Пусть будет все, как оно есть!
Есенин хотел что-то сказать, как-то утешить девушку, но, не найдя слов, глубоко вздохнул и, неопределенно взмахнув рукой, вышел.
Галя, оставшись одна, на запотелом окне пальцем стала писать строчки из стихотворения теперь близкого, но оставшегося бесконечно далеким Есенина:
Предрассветное. Синее. Раннее.
И летающих звезд благодать.
Загадать бы какое желание,
Да не знаю, чего пожелать!..
Что желать под житейскою ношею,
Проклиная удел свой и дом!
Стерла написанные на стекле строчки и беззвучно зарыдала.
Глава 4
В пасти у льва
У Спасских ворот, в пальто нараспашку, в чуть сдвинутой на затылок шляпе Есенин ходил взад-вперед, с тревогой поглядывая по сторонам, нетерпеливо постукивая нога об ногу.
«Твою мать, Яша!.. Неужели не протрезвел… А может, натрепал?.. Вчера, если бы не осечка… Что ж, у каждого человека своя судьба! – думал он. – Своя дорога. Идти по ней порой тяжело, временами просто невыносимо, страх сковывает сердце, чугунными становятся ноги… Но чувствую, что предназначение мое высокое! Буду идти!.. Что бы ни случилось…»
Тоска сдавила душу. Спасская башня, враждебно нависая, угрожала опрокинуться, подмять его… Теснимый мрачными мыслями, Есенин не заметил, как подкатила пролетка и из нее выскочил Блюмкин.
– Молодец! Уже здесь, – бросил он на ходу. – Пошли, а то опаздываем!
Часы на башне пробили два раза.
– Я Блюмкин, – сказал он, показывая часовому свой мандат. – А это писатель Есенин со мной. Вот его приглашение.
Часовой, не взглянув на бумажку, взял под козырек:
– Здравствуйте, товарищ Блюмкин! Проходите!
Когда они миновали часового у входа в здание и Блюмкин во второй раз представил его писателем, Есенин спросил:
– Почему, Яков, ты меня писателем обозвал?
– Для солидности. Что эти серые шинели могут понимать в поэзии? Тем более латыши… Ой! Здорово вчера гульнули… ничего не помню! – засмеялся он, краем глаза проверяя Есенина. – Ты-то как?
– Все в порядке.
– Где обосновался?
– У Бениславской… пока.
– Это хорошо! Галя… это хорошо… наш человек!
– Ваш? Как это понять?
– Ну, в смысле, преданный делу революции человек… – Уклончиво ответил Блюмкин. – Ну вот и пришли.
Секретарь в приемной, взглянув на часы, укоризненно покачал головой.
– Здравствуйте, товарищи! Лев Давидович уже о вас спрашивал, товарищ Есенин. – И, взяв трубку, доложил: – Лев Давидович, Есенин прибыл… Слушаюсь! Проходите, товарищ Есенин!
– Давай, Есенин! Это твой шанс, не упусти! – хлопнул Есенина по плечу Блюмкин.
– А ты разве не идешь? – растерялся Есенин.
– Нет. Он же тебя вызывал. А у меня здесь работа… Давай! Потом увидимся.
За большим столом Троцкий читал бумаги и даже не взглянул в сторону вошедшего Есенина. Когда затянувшаяся пауза стала совсем длительной, Есенин кашлянул в кулак.
– Здравствуйте, Лев Давидович!
– А? Что? А-а-а… это вы, Сергей Александрович… – Он изобразил на лице смертельную усталость государственного деятеля. – Заждался я вас!
Не предложив Есенину сесть, Троцкий начал что-то писать.
– Извините, сейчас закончу… Ну вот и все! – сказал он, вставая и выходя из-за стола. – Здравствуйте, Есенин, здравствуйте!
Он оскалился мефистофельской улыбкой, опустив свой ястребиный нос.
Небо как колокол.
Месяц – язык.
Мать моя Родина.
Я – большевик!
– Так кто вы, Есенин? Большевик или попутчик? – и, не дожидаясь ответа, возможно, и не желая его, нравоучительным тоном, пытливо глядя сквозь стекла очков на Есенина, продолжил визгливым голосом: – На совещании ЦК РКБ (б) по вопросам литературной политики особое внимание было уделено отношению большевистской партии к «попутчикам» и прежде всего крестьянским поэтам и писателям. У нас должна быть крестьянская литература. Ясное дело, мы должны давать ей ход.
Заложив одну руку за спину, другой размахивая, он ходил взад-вперед перед стоящим Есениным, словно читая лекцию перед аудиторией.
– Должны ли мы ее душить за то, что она не пролетарская? Это бессмысленно… Но мы держим курс на то, чтобы привести крестьянина под руководством пролетариата к социализму, используя все радикальные революционные средства. Понимаете? Радикальные! Я всегда с предельной прямотой указывал на важность жесткой диктатуры пролетариата, необходимость принуждения! Подчеркиваю – принуждения по отношению к крестьянству.
– И в области художественной литературы? – обратил на себя внимание Есенин.
– И в области литературы, и в других идеологических областях! – Черный клочок бородки Троцкого вызывающе дернулся. – Нам надо создавать новую литературу, которая была бы верной опорой большевистской власти. Новое революционное искусство должно стать воспитателем и наставником масс… А у вас что? «Исповедь хулигана»? – неожиданно остановился он перед Есениным. – Хотите быть «желтым парусом в ту страну, куда мы плывем…»? Не выйдет, Есенин, – погрозил он пальцем. – Я вижу, что мое стремление к дальнейшим революционным преобразованиям и резкая критика в отношении работы партийно-государственных органов вызывает страх у многих чиновников, привыкших жрать и пить в три горла… Кстати! Вы читали мою статью «Литературные попутчики революции»?
Есенин кивнул.
– Да, Лев Давидович!
– Это хорошо! Очень хорошо! В ней как будто собраны все мои статьи! Тогда вы понимаете, о чем говорю? – Троцкий снял пенсне, не снял, а скорее сдернул, и нацелил белые от злобы глаза на Есенина.
«Что он со мной, как со школяром? Чего он хочет?» – пытался понять Есенин.
– Я считаю, что поэзия Клюева ущербна, – продолжал Троцкий, чеканя каждое слово как приговор. – И его дальнейший путь – скорее от революции. Слишком уж он насыщен прошлым. А вот с вами, Сергей Александрович, не все так просто, – снова оскалился он улыбкой. – С большого таланта и спрос большой… Мне вот не нравится ваша драма «Пугачев». Емелька ваш, его враги и соподвижники – сплошь имажинисты…
Есенин хотел было запротестовать, но Троцкий остановил его жестом.
– И все же, несмотря на большие претензии к вам, Сергей Александрович, учитывая вашу молодость и опять же, повторяю, большой талант, мы дарим вам возможность продолжить работу в новой литературе. При условии, что вы сможете стать революционным поэтом. А пока, товарищ Есенин, вы попутчик революции, «желтый парус», как вы сами о себе выразились в «Исповеди хулигана».
– Пусть я не близок коммунистам, как романтик в моих поэмах, – стал оправдываться Есенин, – но я близок им умом и… и надеюсь, что буду, может быть, близок и моим творчеством.
– Я тоже надеюсь, – прервал Троцкий. – Поэтому и пригласил вас. Мало поэтов, которые остались с революцией… Блюмкин мне доложил, что вас арестовала ВЧК… Сколько вы провели в тюрьме?
– Восемь дней!
– Восемь дней?! – покачал он сочувственно головой. – В чем обвиняют?
– В контрреволюции, – ответил Есенин.
Троцкий зашелся в дьявольском хохоте.
– Теперь уже и в контрреволюции?! Идиоты!!! Я знаю ваше творчество, Есенин, – заговорил он, успокоившись, – пристально слежу за ним… Вы смелый человек, порой безрассудно смелый, поэтому я буду говорить с вами настолько откровенно, насколько позволяет мне мое положение во власти.
Есенин весь внутренне подобрался: «Держи ухо востро, Сергун!» – вспомнил он Галины наставления.
– Все эти провокации в отношении вас… да-да, именно провокации и ничего более, я так считаю, – губы у Троцкого сжались, – обвинения в антисемитизме при каждом пьяном скандале, – это всего лишь вызов мне, Льву Троцкому. Вся эта кампания против Есенина и других крестьянских поэтов, обвинения в антисемитизме – результат моего напряженного противостояния триумвирату Зиновьев – Сталин – Каменев. Борьба за власть достигла такой кульминации, при которой все средства хороши.
– Я не понимаю, кому и для чего, как вы говорите, в борьбе за власть понадобилось поднимать шумиху вокруг инцидента в пивной, – искренне изумился Есенин.
– Объясню популярно, – презрительно скривил губы Троцкий. – Мои политические противники, коих я назвал… и иже с ними… помимо умаления моего значения в истории революции как председателя Реввоенсовета, как руководителя Октябрьского восстания, не побрезговали разыграть национальную карту… В общем… приписываемые вам и бесконечно повторяемые в центральной прессе пассажи о «жидовской власти» предназначаются для привлечения внимания народа и, прежде всего, членов партии к развернувшейся кампании по борьбе с антисемитизмом… Этим малограмотным людям предлагают задуматься: «Уж не тот ли Троцкий, которого поэты якобы ругали в пивной?!! Ага! Видно, не зря поговаривают, что на словах-то Троцкий за демократию, а получит власть – житья не даст! И пива спокойно не попьешь!»
Есенин улыбнулся.
– Да, Сергей Александрович, а кто усомнится в антисемитизме Есенина, о котором так гневно писал член ЦК товарищ Лев Сосновский? Так-то, Сергей Александрович!
Есенин изобразил на лице непорочную наивность:
– Мне мстят за вашу доброжелательность ко мне?!
– Если хотите, можно понимать и так… примитивно… В контексте этой борьбы, когда партия, каждый ее член, лавируя между вождями, стремится в то же время быть предан пролетарской идеологии… Ваша поэзия, Сергей Александрович, выступает разменной монетой, с помощью которой, играя в друзей трудового крестьянства или во врагов, можно заработать хорошие очки в аппаратной схватке.
– Я один, что ли? – опешил Есенин.
– Ну, и других крестьянских поэтов… Но именно вас, как самого талантливого из современных русских поэтов, используют во взаимоотношениях между нациями.
– Вот блядь! – вырвалось у Есенина. – В какой омут я попал!
Троцкий засмеялся его непосредственности.
– Да, бляди! Политические проститутки! Образнее и не скажешь! В омут… именно в омут! В омут невидимой, тайной и грязной борьбы за власть попали вы, Сергей Александрович. Но политика не терпит сантиментов: «а-ля гер ком а-ля гер…». У меня к вам одна просьба: не давайте повода для этих провокаций милиции и ВЧК! А в остальном я вам помогу, – он глянул на часы. – Где вы печатаетесь?
– «Красная новь», – ответил Есенин.
– Знаю. Редактор – Воронский. Хороший журнал. Я там тоже печатаю свои статьи. Правда, там же публиковал резкие выпады против меня Вардин… Вы с ним не знакомы? – словно невзначай спросил Троцкий.
– Нет, то есть я познакомился с ним через Анну Берзинь, это было в Кремлевской больнице. Он настойчиво советовал начать работу над темой революции и ее вождей.
– Вождей, конечно, Зиновьева, Сталина, Каменева, Бухарина? – вставил Троцкий. – Ну, а вы? – продолжал выпытывать он.
– Энтузиазма не проявил, – вывернулся Есенин.
– И навлек гнев высокопоставленного большевика?
– Напротив, он даже предложил поселиться в его великолепной квартире.
Троцкий насторожился.
– Но я отказался. Не желаю быть обязанным.
– Как всегда, вы поступили опрометчиво, Сергей Александрович! И скоро это почувствуете, последствия не заставят ждать… – Он отошел к столу, сел на стул, потянулся и, не стесняясь, широко зевнул. – Извините, не высыпаюсь! Дел по горло!
«Лев разинул пасть, – насмешливо подумал Есенин. – А зубы-то у тебя вставные…»
И отчаянно, словно ныряя в этот «омут» с головой, спросил с неподдельным трепетом:
– Лев Давидович, только откровенно… Вы лично считаете меня антисемитом?
– Ну вот! Опять на колу мочало… – Не сразу нашелся Троцкий. – Глупость! Знаете, Сергей Александрович, стоит мне лишиться своего могущества, как эти сосновские, устиновы, бухарины не стесняясь и меня обвинят в русофобии. Они будут спрашивать со страниц газет и прочих изданий: «Может, происхождение Бронштейна-Троцкого мешает поверить в историческую возможность русского народа?» Никакой вы не антисемит, так же как я никогда не был и не буду русофобом… – Как бы отвечая уже не Есенину, а более серьезному и грозному оппоненту, Лев Давидович вновь превратился в «трибуна» вождя революции. – Просто работает система, созданная Лениным для захвата и удержания власти любой ценой. И эта система, в создании которой и я принимал активное участие, сумела разрушить Российскую империю не потому, что она более эффективна и совершенна, а потому, что ее набор средств борьбы за власть не имеет никаких морально-этических ограничений. И эта игра на национальных чувствах – лишь небольшое и не самое ужасное средство для выживания! – Троцкий поглядел на часы. – И хватит об этом! Хотите издавать журнал?