Текст книги "Тадзимас"
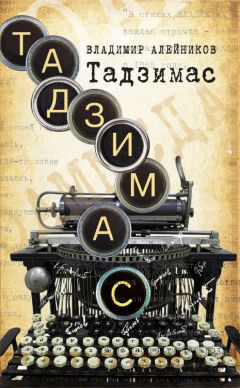
Автор книги: Владимир Алейников
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 11 (всего у книги 40 страниц) [доступный отрывок для чтения: 13 страниц]
И отправилась на кухню, хлопотать по хозяйству. Скоро наши дочери должны были после занятий домой заявиться.
Мы с Володей Бродянским сидели рядом и спокойно беседовали.
Я вкратце рассказывал ему, как живу, что пишу, какие житейские заботы одолевают, как мы с ними справляемся.
Простая беседа, неприхотливая. Жизнь есть жизнь.
Говорил я Володе, что очень уж стали тяготить меня неизданные мои книги. Вон сколько написано. Это тяжелый груз. Чувствую я, физически чувствую, что давит все это меня. Такое вот состояние. А работать надо, и я работаю. Но как бы вздохнул я посвободнее, если бы хоть часть моих писаний удалось опубликовать, все равно уже где, у нас или на Западе. Тогда они отойдут от меня, отодвинутся. Будет мне легче, свободнее. Снова тогда я сумею идти вперед. А пока что – все жду и жду чего-то. Но чего? Ждать – давно привык. И терпения у меня, все друзья знают, хватает. Уж чего-чего, а терпения мне не занимать. Но возраст уже такой, «Возраст полыни», как одна из моих книг называется. И – хотелось бы, уж чего там скрывать от друга, – увидеть что-нибудь изданным, да не так, как мои крохотные, изуродованные цензурой сборники выходили, да еще и ждал их выхода годами, – а чтобы вышли мои книги в подлинном их виде, так, как они написаны. Говорил я все это Володе, с грустью поглядывая на собственные рукописи.
– Ничего, – вдруг сказал мне Володя, – не переживай. Не мучайся. Ты и так в прежние годы натерпелся. Скоро выйдут твои книги. Много книг выйдет. Вот увидишь.
Я вытаращил на него глаза. Такое услышать – действительно вытаращишь. Я не удивился. Я – поразился.
– Откуда ты знаешь? – спрашиваю его.
– Знаю!
И – смотрит на меня. И просветленно улыбается.
Человек-луч. Спасающий человек. Целитель.
Володя между тем потихоньку разговорился. И вот что он рассказал мне.
Оказывается, он целый год прожил в Израиле.
Там живет первая его жена, благополучно живет. Он навестил ее, но садиться ей на шею, понятно, не стал. Слишком он был сам по себе, слишком – Бродянским, чтобы на такое пойти.
Средств у него было в обрез. А существовать как-то надо было. Периодически он кого-нибудь там исцелял, но денег-то за это не брал. Не полагалось. Как же ему прожить?
И он вспомнил.
Хлеб!
Хлеб – действительно всему голова.
Хлеб – нужен всем.
Особенно – черный хлеб, настоящий, российский.
Тот черный хлеб, по которому все уехавшие в благословенную теплую страну бывшие советские граждане так соскучились, и не просто соскучились, а поистине истосковались.
Печь замечательно вкусный деревенский хлеб, и причем без дрожжей, в простейших условиях, Володя умел. В деревне своей научился.
Он отыскал какую-то маленькую хлебопекарню и договорился, что в определенные часы он будет выпекать там свой хлеб. Ну, ясно, что с выручки будет отдавать хозяевам какие-то деньги. И он выпек там свой первый хлеб. Вначале немного.
И только он вынес этот еще горячий, аппетитно и вкусно пахнущий, черный-пречерный, такой домашний, такой приятный хлеб на улицу, и только собирался где-нибудь пристроиться, чтобы воззвать к израильским гражданам, чтобы призвать их купить у него хлеб, как произошло нечто невероятное.
На людной, шумной, пестрой улице все многочисленные прохожие вдруг – замерли. Остановились все одновременно, как при игре в «замри».
Потом стали – все одновременно, – медленно и верно поворачиваться к Володе, разворачиваться к нему отовсюду, нацеливаться на него, настраиваться на него.
И вот – всех, разом, – прорвало:
– Хлеб! Мама родная, хлеб! Черный!
– Люди, это же черный хлеб!
– Самый настоящий!
– В натуре!
– О боже, как же я по нему соскучилась!
– Хлебушек! Черненький!
– Хлеб! Черный, наш! И надо же такое увидеть! И где бы вы думали? Здесь, у нас! Хотя – где мы? И откуда? И хлеб наш, и Израиль наш. Но Израиль еще вчера был без черного хлеба, а сегодня он уже-таки с черным хлебом. Это же хорошо!
– Мама, хочу хлеба черного!
– Папа, купи, ну купи. Это же черный хлеб!
– Вы чувствуете, люди, как наша жизнь меняется к лучшему? Заметьте, у нас уже появился свой черный хлеб!
В это время из одного раскрытого окна послышалось шипение, потом треск, потом все нарастающий шум – и грянула песня, и все услышали такой родной, такой сиплый, неповторимый голос Утесова:
– Эх, путь-дорожка фронтовая! Не страшна нам бомбежка любая…
Часть толпы оживилась и сразу же подхватила:
– А помирать нам рановато, есть у нас еще дома дела!
И тут же, вслед утесовской песне, из другого раскрытого окошка раздался на всю улицу мягкий, задушевный голос Бернеса:
– Шаланды, полные кефали, в Одессу Костя приводил…
Над улицей плыл несравненный запах черного хлеба.
Изрядная часть толпы тут же продолжила, вслед за Бернесом:
– И все биндюжники вставали, когда в пивную он входил.
Запах черного неба действовал на людей, как наркотик.
Из третьего растворенного окна опять запел Утесов:
– Сердце, тебе не хочется покоя…
Толпа немедленно подхватила:
– Сердце, как хорошо на свете жить!
Из четвертого окна, вперехлест, снова пел Бернес:
– Я люблю тебя, жизнь, что само по себе и не ново…
Толпа подхватила:
– Я люблю тебя, жизнь, я люблю тебя снова и снова!
Толпа – секунду помедлила, причем видно было, как наполняется она неистовым ликованием.
Толпа – напряглась, как на старте, перед забегом.
Толпа – рванулась с места, вся, рванулась – к Володе, к хлебу. К черному хлебу.
Минута, другая, третья – и весь хлеб расхватали.
Володя – стоял растерянно, с пустым лотком своим, с пачкой шекелей в руке.
Толпа – ела хлеб. Черный хлеб. Свой.
Кто откусывал маленькие кусочки, а кто и жадно, торопливо отрывал и глотал крупные куски.
Маленькие дети ели хлеб не спеша, как едят пирожное. Им нравился его вкус.
Веселые парни в ярких футболках ели хлеб и запивали его пивом из банок.
Пожилая женщина, отломив маленький кусочек и пожевав его, бережно заворачивала буханку в платок и укладывала в полиэтиленовый пакет.
Сгорбленный, морщинистый старик в мешковатом пиджаке, на котором сразу бросались в глаза орденские планки, медленно и задумчиво жевал корку черного хлеба, и в глазах его стояли слезы, нет, не стояли – жили, светились и жили…
Слух о том, что в городе появился в продаже черный хлеб, разлетелся по всем кварталам, от центра до окраин, мгновенно.
Володю – искали. Его умоляли не позабыть, обязательно оставить хоть одну буханочку. Выпекал-то он хлеба мало.
Надо было расширять производство. Бродянский арендовал пекарню, на слово, что вскоре расплатится за аренду. Хозяева, узнав, какой именно хлеб собирается он выпекать, поверили ему безоговорочно.
Работа, как говорится, закипела. Володя трудился днем и ночью. Он работал – для людей. Он кормил людей хлебом. Черным. Всеми любимым.
С утра к нему выстраивались очереди – как когда-то, в советские времена. В этих длинных очередях все соблюдали порядок. Без очереди не лез никто. Совесть не позволяла.
Это ведь – черный хлеб! Где ты еще найдешь его?
Это – память о родине. Память о прошлом. О жизни в этом прошлом. О выживании в этом прошлом, отдаленном теперь от них чередою разнообразных границ.
Сколько воспоминаний можно было услышать в этих очередях! Какими только ласковыми эпитетами не наделяли люди Володин хлеб, хлебушек. Черный.
Он уже не справлялся с работой. Количество желающих покупать у него черный хлеб неумолимо росло.
Он выписал к себе своего сына. Любашиного сына. Из России. Необходим был помощник. Сын приехал – и стал помогать отцу.
Так они и работали вдвоем – и кормили нынешних израильтян, бывших советских граждан, свежим черным хлебом.
Надо заметить, что цена на буханку этого хлеба, в переводе на доллары, от одного доллара вскоре поднялась до двух.
Можно было назначить цену и побольше, и все равно покупали бы, но Володя не хотел. Чувство меры присуще было ему – обостренное.
Так они и жили – отец с сыном – около года. Неплохо жили. Людям радость доставляли, и при деньгах были.
О хлебе Володином до сих пор там вспоминают.
А Володя – на то он и Володя, что не хлебом единым жив человек.
Он рассказал мне, что параллельно с выпечкой хлеба он еще много усилий – своих, целительских, – приложил для того, чтобы помирить евреев с арабами, во время очередного какого-то конфликта, – и это ему удалось.
Я поверил.
Идея примирения всех людей между собою, спасения людей, жила в Бродянском прочно. И он ее поступательно осуществлял.
– Вот теперь надо поехать в Америку, в Соединенные Штаты, пожить там, – очень серьезно сказал он мне, – черным хлебом людей покормить. Негров и латиноамериканцев с белыми помирить. Много дел у меня!..
Вскоре он уехал.
И с тех пор я его не видел.
Наверное, действительно спасает человечество.
Володя-то уехал.
Но пришло от него – по почте – вот что.
Несколько раз приносили мне от него толстые, тяжелые бандероли и посылки. Я разворачивал их – и всякий раз изумлялся. В них, в абсолютном порядке, присланы были все – совершенно все – рукописи мои и самиздатовские книжки мои, и даже все письма мои к нему, – все, что я ему столько лет дарил.
В первой из бандеролей обнаружил я лаконичную его записку:
«Володенька! Посылаю все твои бумаги. Тебе они нужнее».
Ну что поделаешь с этим Бродянским!
Я вначале растерялся даже. А потом, подумав хорошенько, понял: нет, надо все это принимать мне так, как оно есть. Володя знал, что делает.
И действительно ведь – знал!
Он ведь тоже – человек самиздата.
Эти бумаги мои, возвращенные мне им, все до единой, очень даже пригодились мне. Ох как еще пригодились. Для этой вот книги. И для других книг, которые я, даст бог, еще напишу. Обязательно напишу. Обязан. Долг чувствую – перед нашим прошлым. В нем шло становление духа. Вот об этом и книги мои. В нем был – свет. Жив он и сейчас. Останется он и в грядущем.
Ну, спасибо тебе, Володя! Знал ты, что делаешь.
А вот книги мои – те, о которых сказал мне в конце восьмидесятых, что скоро они выйдут, книги – в самом деле вышедшие, – он себе оставил.
И правильно сделал. Знал, что делает.
Бог тебе в помощь, Володя!
Коли призван ты к этому – то спасай человечество.
Сквозь пространство и время почитаю – тебе.
…А там, за осенью, где свечи ты зажжешь, чтоб разглядеть лицо мое при встрече, как луч провидческий, восстану я из речи, которой ты, мой друг, так долго ждешь.
Итак, у книг свои дороги. Свои у них дороги, свои пути, зачастую и неисповедимые.
Пути эти и перепутья, стежки и дорожки, прямые и обходные, кривые и объездные, торные и потаенные, всякие, существуют, во всем своем разнообразии, порой и в голове-то не укладывающемся, давно и всегда, столько же времени, сколько существует и книга. Пути, по которым движутся книги, не зависят от авторов, их написавших. Это пути – человеческие, а значит – живые. Да и сами книги совершенно не зависят от их авторов.
Изданные, вышедшие в свет – каково это, как сказано: в свет! – вышедшие одновременно и на свет, к свету – ночному ли, при котором их читают, дневному ли, – вышедшие и ушедшие в странствия, отстранившиеся от их авторов, живут они самостоятельно, собственной своей жизнью, и ничего уже с этим не поделаешь. Они – написаны, но еще они – изданы, то есть – отданы читателям, розданы им, рассеяны везде, куда только добрались они, где только, в чьих руках, в чьем владении они ни оказались. Да, во владении, потому что читатель книгой – владеет. Это его собственность. Вещь? Ну, не совсем. Скорее, некий, с виду безмолвный, а на деле – живой, говорящий, многое хорошему читателю говорящий предмет, объект, – не знаю, как точнее выразиться. Нечто – с речью. Со словом. Со светом – если это настоящая книга. То есть такая, которая благотворно воздействует на человека. Жить ему помогает. Исцеляет. Именно таких – не так уж много. Но они – есть.
Книга – лучшее, что придумал человек. Лучшее – потому что сущее. Иногда и вещее. Всегда – говорящее, звучащее. Можно читать про себя. Можно и вслух. На выбор. Читаешь про себя – слово звучит внутри, в мозгу, в сознании твоем звучит. Читаешь вслух, особенно стихи, – тоже звучит, да еще как. Поет. Было бы слово словом. Была бы речь – речью. Продлевал бы автор книги, особенно поэтической, – звучание речи, дыхание речи. Ощущал бы читатель такой книги – что дыхание речи длится. Тогда и жить можно. И работать дальше. Был бы контакт. Была бы связь – автора с читателем. Читать уметь по-настоящему тоже работа, большая. Настоящий читатель – трудится в поте лица. Он вроде как второй автор книги – для себя самого. Свет авторского слова зафиксирован, оставлен, сохранен в книге. Читатель – воспринимает этот свет. И создает, сам творит – еще один свет, свой собственный, свет восприятия книги, свет впечатления, свет размышлений своих о прочитанном. Образуются как бы два световых луча. Они проходят параллельно. И, как две прямые, по Лобачевскому, уж где-нибудь да пересекаются. Пересекаются – значит смыкаются. Соединяются. Происходит новый контакт. Образуется новая связь. Возникает, вспыхивает новый свет – авторского слова и читательской мысли о нем. Этот свет не исчезает. Он уходит куда-то в космические хранилища, в информационное поле вселенной. Все в мире сохраняется. Энергия не исчезает бесследно. Она видоизменяется, трансформируется, но – существует, в новом виде – но живет. Вот и книга – живет и живет, куда бы ее ни забрасывала судьба, – книга, речевой, информационный, световой сгусток, частица всеобщей связи в мире, всего и со всем, что живо. Книга – почти верига, если она написана, но не издана, если она тяготит ее автора. Книга – благо, если она подлинная. И вдвойне благо, если еще и изданная, желательно – вовремя, что случается далеко не всегда. Изданная книга – бывает подобием брега, куда можно из потопившей твой корабль и поистрепавшей тебя стихии выбраться. В книге – что-то от бега: бега глаз по строкам, бега мысли, авторской и читательской, бега времени, которое бежит незаметнее, когда ты читаешь. Настоящая книга – от Бога.
Книги, как известно, сами приходят к людям. Приходят, доходят. Уж как-то – добираются. Иногда годами стоит книга где-нибудь поблизости, на полке, и ты ее не трогаешь. И вдруг – срабатывает что-то, и ты берешь именно ее, и читаешь. Она пришла к тебе. Пришла – сама. Поэтому желательно заведомо хорошие книги иметь под рукой, дома. А вдруг – вот так – сами придут? А так всегда и бывает. Книга – она свой час чувствует. В нужный час, в нужный миг – приходит. Открывай, читай, вникай. Что в ней, между альфой и омегой, между началом и завершением? Содержание. Слово. Речь. Свет.
В Петербурге, в период белых ночей, можно читать, не включая электричества. Хорошая книга – сама источник света. Сама светолюбива, сама светоносна.
Когда осенью, в Коктебеле у нас, начинают выключать вечерами электричество, – для экономии ли, от всеобщего безобразия ли, тут не разберешься, – и в доме темно, и помещение комнаты сразу же как-то сужается, сжимается, и сгущаются, обобщаются все детали, все предметы немудреной нашей домашней обстановки, и мир, темный и густой, по ту сторону окна, упорно хочет слиться, соединиться с миром дома в одно целое, неразрывное, густое состояние мрака, состояние тьмы, хочет образовать нечто общее, беспросветное, непроглядное, непролазное, и темнота даже в поры норовит проникнуть, не то что в глаза, – я читаю при свечах.
Да, зажигаю свечи – и теплый, живой их свет соединяется со светом, исходящим от хорошей книги. Эти два света соединяются со светом ощущений моих и размышлений. Такой тройственный свет – сила. С ним хорошо. Он помогает, он настраивает на живые, жизненные волны. И в самом деле: оторвешься от книги, подойдешь к окошку, а за ним – не такая уж и тьма, а за ним – и звезды видны. Вот что такое книга.
Потому и держу я, по давней своей привычке, хорошие книги, любимые мои книги, те, которые читаю, те, которые часто перечитываю, – здесь, рядом, под рукой. Почувствовал знакомый импульс – доверяйся ему. Первоначальный импульс – начало нового движения в жизни и залог продолжения жизни. И жизни речи, одновременно. Потому что жизнь физическая, существование человеческое в мире, и жизнь речи – неразрывны, они в вечном единстве. В начале ведь было слово. Потом – все остальное, включая и человека.
Протягиваешь руку – берешь книгу. Открываешь, читаешь. Дышишь. Существуешь. Движешься во времени и пространстве – мыслью движешься, сознанием, душой. Метаморфоза движения: взаимодействие, взаимопреображение. Кружение времени: Леонардовский круг, в который вписана человеческая фигура. Кружение, округление пространства: сфера. Земная, небесная, космическая. Сфера. Область распространения слова. Света. Сфера. Среда. Замкнутая поверхность, в центре которой – свет. Сфера. Внутреннее пространство шара. Дара. Сфера. Мера. Та, которой в вышних будут мерить этот дар. Сфера. Эра. Уходящая. И – грядущая. Сфера. Вера. Без нее – никак нельзя.
Читаешь ли, пишешь ли при свече – и теплее делается в мире, да и в душе твоей.
Мои слова:
– Наше время – свеча и полынь.
Символ былой эпохи. Фирменный знак ее. Код, по которому отыщут ее звучание. Слово. Речь ее.
Со свечой, точно встарь, – при свече, у свечи, – в киммерийском тумане, при тумане, в забвенье, в дурмане, сквозь туман – с лепестком на плече, сгустком крови сухим, лепестком поздней розы – в проем за кордоном, в лабиринт за провалом бездонным, в Зазеркалье с таким пустяком, как твое отражение там, где пространство уже не помеха, где речей твоих долгое эхо сквозь просвет шелестит по листам.
Состояние – в октябре. Пребывание – в одиночестве. Вместе с речью. Движение. Творчество. При свече и звезде.
Отдаляются книги от их авторов, отрываются, отстраняются – и приходят к людям. Приближаются. Прислоняются. Прирастают. Пусть. Пусть читают их наши могикане – в Европе ли, в Азии ли, в Америке ли. Не знаю, добрались ли мои книги до Африки. Или до Австралии. К Оле Кочубей. Уж ей-то дорога русская поэзия. Уж она-то, дочь эмигрантов, выросшая на чужбине – вопреки судьбине, – сохранила внутреннюю связь с родиной, и при первой же возможности приехала сюда, чтобы все увидеть своими глазами и если не все, то главное, главнейшее, важнейшее, постараться самой понять, – и поняла, – глаза у нее открылись тогда на очень многое, – и ведь сколько было ликования, сколько радости в осознании ею простейшего, вроде бы, факта: искусство – живо, поэзия – жива, речь наша – жива, и мы с нею живы. Пусть читают мои книги – там, куда эти книги, разными путями, но добрались. Потому что «кто в Париже, а кто в Нью-Йорке», – еще Ахматовой это сказано. И не только в этих известных местах. Я попробовал было вспомнить и перечислить нынешние «места обитания» моих книг – да и махнул рукой на это: зачем заполнять страницы длинным перечнем – имен ли, городов ли, зарубежных и отечественных, отдаленных стран ли, названия которых до сих пор, с детства, отдают для меня неугасимой романтикой, хотя в действительности наверняка они куда прозаичнее, нежели сам их звук, – впрочем, не знаю, не бывал, – да тут если об отечестве своем вспомнишь, или об отделившихся от отечества республиках, так и то получится путеводитель или справочник: где кто живет – и, живя там, книги еще читает. А сколького я просто не знаю? Не нужно мне это «что? где? когда?», не нужно. Уже не нужно. Раньше – интересовало все-таки: где они, книги, куда, к кому попали? А постепенно – все новая и новая работа заслонила все это. Прежнее – уже написано. А нынешнее – пишется. И вот сколько из этого нынешнего – опять не издано. Неужели опять – на круги своя? Что за круговорот?
В России, читатель, книг моих ты не найдешь. Никто не спешит переиздавать их. Переиздают – другое: продукцию междувременья. Мои книги – уже раритеты. Вот так мне стали все чаще говорить. Да так оно и есть. Но отыскать и прочитать мои книги, при желании, все-таки можно. Спрашивай у тех, кто любит стихи. Ищущий да обрящет.
Кто я, живущий у себя в Коктебеле, глядящий годами в окно на Святую гору, сидящий за старым письменным столом, посреди груд собственных рукописей, и сочиняющий эту книгу?
Я – мастодонт. Или – реликт. Или – что-то еще в этом роде.
Так, во всяком случае, выразился лет пять назад один молодой предприниматель, производящий мебель, которого занесло сюда, в Крым, на отдых, на считаное количество дней, определенных им самим, главой предприятия, самому себе, дабы хоть здесь отдышаться от дел.
Он, деловой человек, донельзя занятый там, в Москве, занятый – выше головы, с расписанным по минутам каждым днем, очень трезвый и рассудительный в поступках, привыкший рассчитывать каждый свой шаг и взвешивать каждое свое слово, здесь, в киммерийском отдалении от постоянной нервотрепки, оказался на поверку милым парнем, любящим литературу, да вот только почти не имеющим возможности читать, в силу фантастической занятости собственным делом, съедающей все его личное время, целиком, без остатка.
На отдыхе он прочитал мои «Скифские хроники», большой том, вмещающий несколько книг стихов, написанных в начале девяностых, в Коктебеле.
И я хорошо помню его изумление, растерянность, даже некоторую оторопелость, когда он, с книгой в руках, пришел ко мне, – помню его сбивчивые слова, которые сведу вкратце к следующему: да как это можно, да неужели это еще можно, неужели это еще возможно – в наше сумасшедшее время – писать стихи? – неужели это правда? – и кто-то еще пишет их? – он поражен, в его голове бизнесмена это с трудом укладывается, он озадачен: значит, выходит, несмотря на всеобщий бред, поэзия существует? – и я, стоящий перед ним, живу почти отшельником и пишу свои книги?
Он смотрел на меня, как на диковинного зверя, находящегося не в зоопарке, а почему-то на воле.
– Можно писать стихи, – ответил я ему, – и надо их писать.
Вот тогда он и изрек свое словцо, в котором выразилось то, как он, молодой и деловой, меня, немолодого и неделового, но верного поэзии, воспринимает.
Можно в наше время писать стихи – скажу я тебе, читатель, и нужно их писать.
Если это настоящие стихи. Если это – призвание.
Итак, я – мастодонт, реликт.
Очень хорошо.
«Лексикон русской литературы XX века» Вольфганга Казака, где кое-что сказано обо мне, тоже не приобретешь ты, читатель, в книжном магазине, тем более если живешь ты не в Москве, а в провинции, или, что еще печальнее, в бывших братских республиках, ныне государствах независимых и практически лишенных налаженного притока книжных новинок и даже российской периодики.
Заведующий харьковской центральной библиотекой с нескрываемым ужасом говорил мне, что, как он ни бьется, ничего, ну ничегошеньки не может выписать из Москвы – ни книг, ни журналов.
Большим событием оказались недавно – что бы вы думали? полученные для подписки – на весь Киев! – десять экземпляров «Литературной газеты».
Давным-давно захирела библиотека известнейшего на весь наш бывший Союз коктебельского Дома творчества писателей. Захирела – и тихо сошла на нет.
Как и сам этот дом творчества.
Он пустует. Дичает. Мутирует. Он меняется. Трансформируется в нечто странное. Общедоступное. Дорогущее. И – преступное.
Не по карману теперь писателям ездить на море, а скидок (о, прежние годы, с их вниманием бережным к людям, и особенно творческим людям, инженерам душ человеческих и ловцам этих душ, писателям, и поэтам, и композиторам, и художникам, всем, всем, всем, кто, понятно, в Союзе числится соответствующем, сплошь творческом, где, кого ни возьми, все члены этих самых Союзов, трудятся днем и ночью, только и делают, что творят, и творят, и творят, и потом, за труды свои, получают возможность ездить отдыхать, или, как считалось, неустанно и там творить, в свои собственные, писательские, да и прочие, им подобные, удивительные, приветливые, притягательные дома, – о советские, с их движением к коммунизму грядущему, годы, с гонорарами и с авансами, с тиражами астрономическими, с профсоюзами, льготами всякими, с поликлиниками первоклассными, с переделкинскими просторами и малеевскими деньками!), скидок, этих, изъятых решительно из сознания граждан творческих пережитков советского прошлого, на путевки в райское место и в помине давно уже нет.
В нем теперь иногда отдыхают бугаи с цепями пудовыми золотыми на прочной шее, приезжающие на сверкающих, лоснящихся от ухода за ними, как будто лошади, породистые, дорогие, немыслимых иномарках.
Бугаи, бабуины, гориллы, гамадрилы, орангутанги, плещутся нехотя в море, заводят амуры с бабами, жрут водку, хлещут коньяк, по привычке режутся в карты и в охотку парятся в сауне.
Здесь больше – надо же, как обернулось все! – не стучат, портативные в основном (для удобства, для путешествий по просторам Союза, для творческих регулярных командировок, для того, чтобы в доме творчества можно было засесть за них и создать что-нибудь эпохальное, что-нибудь, чтоб тянуло на премию, Государственную желательно, чтоб читатели раскупали в магазинах книжных немедленно свежевыпеченные, нетленные, в ногу дружно со временем радостным и прекрасным охотно идущие, выдающиеся, понятно, не сгорающие, наверно, не стареющие шедевры), пишущие машинки, не скрипят уже не гусиные, золотые, пожалуй, перья, не склоняются ночью бессонной над лежащими на столе ворохами, Эльбрусами, рукописями полные грандиозных замыслов и серьезнейших, видимо, дум писательские высоколобые головы.
Ну, они и раньше-то особо не склонялись.
Больше здесь вдоль берега, подвыпивши, слонялись.
Крайне редко здесь что-то писали.
Больше пили здесь да гуляли.
Но гонор-то был: ну как же, советские, понимаешь ли, писатели, то-то, этакая, обособленная, ухоженная, обласканная властями, терзаемая страстями тайными, подловатая, нагловатая, глуповатая иногда, порой вороватая, в бедах многих сплошь виноватая, быдловатая, грязью чреватая, на поверку жуткая каста.
Толстенный том, содержащий перечень членов Союза писателей, раньше, бывало, неминуемо поражал воображение тех, кто, любопытства ради, просто для ознакомленья, его открывал впервые.
Много ли было средь них, тех, из справочника, – настоящих?
А форсу-то, а фасону сколько в них раньше было!
Ты поди попробуй пройди через их, писателей, зону, территорию Дома творчества, напрямик, побыстрее, к морю!
Сразу же остановят:
– А ты куда направляешься? Здесь посторонним ходить нельзя. Давай поворачивай туда, откуда пришел, побыстрее шагай обратно.
То же самое было всегда и у входа, с калиточкой крепкой, на замок иногда запираемой, для спокойствия пущего, стало быть, на литфондовский, отгороженный с двух сторон железною сеткой, для элиты, для тех, кто лучше прочих граждан, удобный пляж.
Там всегда восседала грозная, точно Цербер, злющая тетка, и уж своих-то, членов, отдыхающих в доме творчества писателей, с их семействами, со специальными, личными, у каждого, пропусками – к морю, на пляж, закрытый от ненужных глаз, пропусками – к стихии, вроде свободной, – наперечет, в лицо, всех поименно, знала.
Чужих – ни в жисть не пропустит! Налетит – и растопчет вмиг. А то и проглотит. Всякое случалось. Должность такая.
А вечера! Вот эти, всех краше на белом свете, прозрачные, долгие, праздные, летние вечера!
После дневной удачной работы – ну, сомневаюсь, что таковая была у писателей, понаехавших отовсюду сюда, чтобы здесь отдыхать, в основном, отдыхать, отдыхать, но отнюдь не работать! – степенно, вальяжно, с достоинством подчеркнутым, выходили сочинители, утомленные, сплошь, трудами своими великими, эпопеями многотомными, на площадку перед столовой.
Как раз на этом вот месте раньше, кстати, стоял дом коктебельского, здешнего, священника, дом Синицына, человека доброго, светлого, хорошего друга Волошина.
Но писатели вряд ли об этом хоть когда-нибудь что-нибудь слышали.
Одни в одиночку, другие – парами, по-семейному, с женами, по-туземному, с перебором изрядным, обвешанными купленными у местных, шустрых, сметливых торговцев ювелирными, так считалось, из камней окрестных, изделиями – серьгами, кулонами, бусами, браслетами, брошками, кольцами, шли они по широкой, тенистой, от деревьев разросшихся, набережной, потрудившиеся на славу на бескрайней, литературной, потом щедро политой ниве, шли, отужинавшие, размякшие, шли вдоль моря неторопливо, со значением: эй, народ, мол, ты, братец, не забывай, подтянись, – писатель идет!
«Весь цвет литературы СССР» – ликуйте и приветствуйте – идет!
Идет писатель! Учитель жизни.
А если много их – учителя.
Их вдосталь было. По всей отчизне.
Ох, терпеливая у нас земля!
Очень любили они это – учить жить.
Будто бы знали: вот так можно жить, даже нужно, а так вот – категорически, никак, ни за что, нельзя.
Учить-то учили, – а сами, в большинстве своем, – были гады ползучие, гниды поганые. Пробу негде ставить на них.
(Вот Гумилев действительно умный был человек, тот Ахматовой Анне Андреевне, супруге своей законной, не единожды говорил:
– Аня, если я вдруг начну, хоть один-единственный раз, кого-то учить жить, то, пожалуйста, сразу, немедленно, не жалея, меня отрави!
Эх, Николай Степанович!
С пулей в сердце, полученной вами от таких вот, по-большевистски всезнающих, как им казалось, «учителей жизни», лежите вы, русский поэт, офицер, путешественник, мученик, в земле болотистой питерской.
Встали бы, поглядели бы на всю эту псевдописательскую свору, на кодлу злокозненную «учителей жизни», – так действительно, может быть, в заговоре против таких «педагогов», с их мерзкой, кровавой властью, приняли бы участие!..)
Мы, в молодости далекой свободолюбивой нашей, чурались этого места.
Дом творчества из упрямства обходили мы стороной.
Для нас он – не существовал.
Вот парк его – да, этот парк был хорош, ничего не скажешь, только вспомнишь о нем да взгрустнешь, был хорош, просторен и зелен, и подрастал, разрастался на глазах у нас, и садовник, создавший его когда-то, всю душу в него вложивший, радовался, как ребенок, детищу своему.
Но и на парк этот чудный смотрели мы – со стороны.
Посторонние все мы здесь были.
Чужие. Всегда – чужаки.
Не учились мы встарь у здешних обитателей сытых – жизни.
А те учили-учили – и, надо же, научили.
Власть нынче, можно сказать, та же самая, что и прежде.
Только – вывернутая. Повернутая вспять. С ног на голову перевернутая.
Под иной, с латиницей, вдруг сквозь кириллицу проступившей, не случайно, стало быть, вывеской.
И все вокруг – привыкайте к сюрпризу – наперекосяк.
Потому что, удобно устроившись, находясь под новою вывеской, власть имущие, с их подручными, думают лишь о себе.
Что им, видите ли, народ!
Он, как сказано было, безмолвствует.
Парк, роскошный когда-то, известнейшего коктебельского Дома творчества – в запустении. Гибнет он. Как бы время его сжирает.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































