Текст книги "Дорога на Астапово"
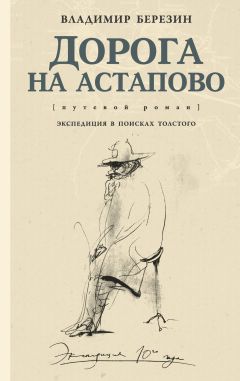
Автор книги: Владимир Березин
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 4 (всего у книги 20 страниц) [доступный отрывок для чтения: 7 страниц]
Это всё рассказано затем, что на маленьких деталях всегда сосредотачивается интерес, а большие идеи часто не подходят человеческому восприятию.
Собрание идёт день за днем, Левин там занимается делами сестры и испытывает «чувство мучительное, подобное тому досадному бессилию, которое испытываешь во сне, когда хочешь употребить физическую силу»[30]30
Толстой Л. ПСС: в 90 т. Т. 19: Анна Каренина. Части 5–8. С. 222.
[Закрыть]. Выборы он старается не осуждать, а «сколько возможно понять то дело, которым с такою серьёзностью и увлечением занимались уважаемые им честные и хорошие люди»[31]31
Там же. С. 223.
[Закрыть].
Свияжский на этих выборах терпит поражение[32]32
«Надо знать статью закона о выборах предводителей дворянства для того, чтобы понять, как они происходили. По этой статье было обязательным выбрать двух лиц – предводителя и кандидата к нему, но они не выбирались каждый отдельно, а получивший большее число шаров становился предводителем, меньшее – кандидатом. Поэтому, если первый баллотировавшийся был выбран, это ещё не значило, что он будет предводителем. Второй выбранный мог получить большее число шаров, и тогда он становился предводителем. Поэтому надо было подстроить выборы так, чтобы менее желательный для большинства – первый или второй из баллотирующихся – был выбран меньшим числом шаров, чем желательный, но не был бы забаллотирован, так как, если бы было выбрано только одно лицо, остальные же были бы забаллотированы, выборы признавались несостоявшимися. На игре по этой статье и велись интриги. Когда Снетков был избран, партия Неведовского старалась провести своего кандидата большим числом шаров, чем Снеткова, что ей и удалось». («Об отражении жизни в “Анне Карениной” из воспоминаний С. Л. Толстого» // Лев Толстой. Полное собрание сочинений. Т.т. 37, 38. М.: Академия наук СССР, 1939. С. 586.)
[Закрыть], но не в этом дело.
На выборах мелькают все: Стива Облонский в камергерском мундире, Вронский в шталмейстерском, либерал Свияжский и тот самый угрюмый помещик, бывший на охоте, только теперь – в полковничьем мундире старого генерального штаба.
То есть либерал, консерватор и новатор (Вронский, разумеется, новатор – со своей больницей, машинами, выписанными из Швейцарии коровами и желанием во всё вникнуть и иметь всё самое лучшее на свои деньги).
Левин спрашивает угрюмого консерватора о хозяйстве. Тот отвечает, что всё так же, в убытке.
Левин спрашивает его, что он думает о выборах. Помещик отвечает, что значения в них никакого, упавшее это учреждение, «продолжающее своё движение только по силе инерции. Посмотрите, мундиры – и эти говорят вам: это собрание мировых судей, непременных членов и так далее, а не дворян».
А про новое поколение он говорит: «Новое-то новое. Но не дворянство. Это землевладельцы, а мы помещики. Они как дворяне налагают сами на себя руки». И дальше старый помещик вводит в повествование образ сада, который не уйдёт из русской литературы вплоть до чеховских историй.
«Хороши мы, нет ли, мы тысячу лет росли. Знаете, придётся если вам пред домом разводить садик, планировать, и растёт у вас на этом месте столетнее дерево… Оно хотя и корявое, и старое, а всё вы для клумбочек цветочных не срубите старика, а так клумбочки распланируете, чтобы воспользоваться деревом. Его в год не вырастишь. <…> Сосед купец был у меня. Мы прошлись по хозяйству, по саду. “Нет, говорит, Степан Васильич, всё у вас в порядке идёт, но садик в забросе”. А он у меня в порядке. “На мой разум, я бы эту липу срубил. Только в сок надо. Ведь их тысяча лип, из каждой два хороших лубка выйдет. А нынче лубок в цене, и струбов бы липовеньких нарубил”.
– А на эти деньги он бы накупил скота или землицу купил бы за бесценок и мужикам роздал бы внаймы, – с улыбкой докончил Левин, очевидно не раз уже сталкивавшийся с подобными расчётами. – И он составит себе состояние. А вы и я – только дай бог нам своё удержать и деткам оставить. <…>
– Но для чего же мы не делаем как купцы? На лубок не срубаем сад? – возвращаясь к поразившей его мысли, сказал Левин.
– Да вот, как вы сказали, огонь блюсти. А то не дворянское дело. И дворянское дело наше делается не здесь, на выборах, а там, в своём углу. Есть тоже свой сословный инстинкт, что должно или не должно. Вот мужики тоже, посмотрю на них другой раз: как хороший мужик, так хватает земли нанять сколько может. Какая ни будь плохая земля, всё пашет. Тоже без расчёта. Прямо в убыток»[33]33
Там же. С. 231–234.
[Закрыть].
Итак, Толстой (продолжал я рассказывать своей воображаемой спутнице, шурша гравием дорожки близ дома Волконских) – настоящий писатель с имением.
А вот Достоевский – писатель без имения. Конечно, некоторое имение было, и мужик Марей был в нём – ничем не хуже тульских мужиков Толстого. Да и Марей, собственно, был тульским – согласно тогдашнему административному делению.
В 1827 году отец Достоевского получил чин коллежского асессора и через это на следующий год вписался в дворянскую книгу. И через три года приобрёл село Даровое Каширского уезда Тульской губернии, к которому потом прикупил соседнюю деревню Чермошню.
Там-то Федя и сидел летом. Там-то русским Иоанном и крестил его пахарь Марей на русскую литературу.
Всю дальнейшую жизнь хотел купить имение, желая – зеркально противоположно Толстому – обеспечить детей после собственной смерти. Не только жизнь русского писателя определяется тем, что у него есть имение, но и его посмертная судьба очень зависит от клочка приписанной ему земли. Важно и местоположение. От него зависело, по каким географическим правилам пойдёт писателя жизнь. Если оно слишком далеко от цивилизации, то зарастёт народная тропа, и лишь ржавый трактор укажет на то место, где бегал без штанишек русский гений. Если слишком близко, то его могут сжечь угрюмые крестьяне, руководствующиеся чувством меры прекрасного.
И тю! – не только тропа зарастёт, но и все развалины. Только безумные экскурсоводы будут читать стихи над колосящимся полем.
Дворянство тут ни при чём: вон у русского поэта Есенина есть вообще чужое имение. Он его посмертно отобрал у одной красивой женщины (для женщин русский поэт всегда губителен). И что? Все едут в Константиново, смотрят на расстилающийся речной пейзаж и скользят в войлочных кандалах по дому этой помещицы.
Есть у Есенина имение, есть.
А вот другим повезло меньше. Много писательских посмертных судеб загублено тем, что не было у них географической привязки, хотя бы развалин. Или если есть какие развалины, то нет к ним дороги – не подъедет автобус, не вылезут оттуда зелёные мутные экскурсанты и не узнают о скорбной судьбе, о думах и чаяниях, о вершинах лирики.
И о гражданском пафосе не узнают.
Итак, 1831 год. Два тульских мальчика сидят в своих имениях: Феде девять лет, а Лёве не исполнилось ещё три года. Лёвина мать умерла год назад, Федины родители ещё живы.
И вот Федя проходит по оврагу, выламывает себе ореховый хлыст, чтоб стегать им лягушек, а хлысты из орешника так красивы и так непрочны, куда против берёзовых. Занимают его букашки и жучки, он их собирает, разглядывая маленьких проворных красно-жёлтых ящериц с чёрными пятнышками. Грибов тут мало; за грибами надо идти в березняк, и он уже собирается туда пойти, потому что ничего в жизни он так не любит, как лес с его грибами и дикими ягодами, с его букашками и птичками, ёжиками и белками, с его столь любимым им сырым запахом перетлевших листьев.
И вдруг среди глубокой тишины Федя ясно и отчётливо услышал крик: «Волк бежит!»…
Он выпадает из рощи прямо на поляну, к пашущему мужику. Тот останавливает лошадь и смотрит на барчука, вцепившегося одной рукой в его соху, а другой – в рукав крестьянской рубашки.
– Волк бежит! – кричит мальчик.
– Где волк?
– Закричал… Кто-то закричал сейчас: «Волк бежит»…
Тогда мужик бормочет:
– Что ты, что ты, какой волк, померещилось, вишь! Какому тут волку быть! Ишь ведь испужался, ай-ай! Полно, родный. Ишь малец, ай! Ну, полно же, ну, Христос с тобой, окстись.
Мужик гладит мальчика по щеке, и тот постепенно успокаивается.
– Ну, я пойду, – говорит Федя, вопросительно и робко смотря на него.
– Ну и ступай, а я те вослед посмотрю. Уж я тебя волку не дам! – говорит мужик с той улыбкой, которую Федя спустя сорок пять лет определяет как материнскую, – ну, Христос с тобой, ну ступай, – и крестит его, и сам крестится.
Федя идёт, оглядываясь назад почти каждые десять шагов. Марей же всё стоит и смотрит ему вслед, каждый раз кивая головой, когда мальчик оглядывается. Мальчику немного стыдно за свой испуг, но идёт он, всё ещё побаиваясь волка, пока не поднимается на косогор оврага, где испуг проходит совсем. Оба мальчика – и тот, что живёт в Ясной Поляне, и тот, что живёт в деревне под Зарайском, – находятся вне Москвы, по ту сторону Оки.
Архитектору бы эта мысль зачем-нибудь пригодилась.
Но Ясная Поляна, из которой потом убежал второй мальчик, стала большим музеем, а вот Даровое – вовсе нет, несмотря на то что мужик по имени Марей дорогого стоил для русской литературы.
Судьба музея – сложная штука. У Толстого была целая семья, шотландский клан, который и тогда шёл по жизни кучно, и существует сейчас, и пребудет вовеки.
И как Толстой ни беги из него, убежать не мог. Достоевский же человек частный, противоположный большим группам людей.
Имение в Даровом, близ города Зарайска, кстати, никуда не исчезало из семьи, им владела сестра мальчика Феди, а затем – её дочь. В двадцатых она отдала в московский музей какой-то шкаф, что помнил Федины рубашки. Умерла она, кажется, году в 1929-м.
После этого знаменитая сказка, которой до сих пор мучают детей в музыкальных школах, должна была бы называться иначе.
«Федя и волк» должна была бы она называться. Вдумайтесь, как заиграл бы этот сюжет, и вам станет не по себе.
Но на судьбу музея влияют и иные обстоятельства. Вот приехал к нам в гости какой президент – куда его везти, чтобы приникнул к русской духовности? В Михайловское не довезёшь, а кроме Пушкина и братьев Толстоевских, басурман никого не знает. Ну и везут его в Ясную Поляну, и справедливо везут.
Нет у Достоевского имения, как-то оно к нему не ладится, всё время выпадает, как ворованные яблоки из-за пазухи.
А то привезли бы в Даровое, высадили б из машины…
И услышал бы иностранец из-за леса протяжный вой.
Тут вся мировая политика могла б иначе обернуться.
Могила Толстого похожа на простую кучу палых листьев, часть природы, травы, кустарника, леса вообще.
Она находится в глубине леса.
Слышал я от красивых сотрудниц музея всяко разные байки, например, историю о том, как женщина на могиле Толстого вымаливала себе иностранца и действительно потом вышла замуж. Уехала, значит, из Ясной Поляны и из страны. А вот другая вымолила институт для сына и освобождение от армии. Была среди прочего и история про дорогу на Грумант – маленькую деревеньку в окрестностях, что названа так была дедом Толстого в честь его бытия на Русском Севере. На этой дороге, незатейливом просёлке, было немудрено заблудиться и работникам толстовского Заповедника. Бурый туман из Воронки, мистическая история про часы в доме Волконских, которые слышно на могиле Толстого, когда они бьют полночь. Ну, ясное дело, говорили мне, Волконских-то звали Волхонскими. От «волхвов», значит.
Все гуляющие к ней (а к этой могиле не ходят, а именно гуляют, идут неспешно, постепенно приворачивая разговор, как фитиль) говорят о материальном положении семьи графа. О чём же ещё говорить экскурсанту?
Когда я в первый раз подошёл к этой могиле, то внезапно оказался в темноте. Это была храмовая темнота.
Вершины деревьев сомкнулись у меня над головой. В храме царили неясные потусторонние звуки. Солнечные лучи играли на листьях, ещё державших на спинах капельки воды. Капли скатывались, падали вниз, в лесу происходило шуршание и шелест.
Лес высыхал.
Кроме разговоров о материальном, у могилы часто говорят о немецких оккупантах.
Я как-то беседовал с патриотически настроенными людьми о русской истории, могиле Толстого, немецкой скверне и был от этого печален.
Кстати, одной из самых известных перевранных во всём цитат стало знаменитое выражение о патриотизме как о последнем прибежище негодяя.
Множится загадочное употребление неверного авторства и странные трактовки этой фразы: «Великий русский писатель Л. Н. Толстой однажды сказал, что патриотизм – последнее прибежище негодяев». «В последние годы чуть не каждую неделю в какой-нибудь из газет или телевизионных программ повторяется одно из любимых изречений Льва Николаевича Толстого: “Патриотизм – последнее прибежище негодяя”. Авторство принадлежит не ему, но именно огромный авторитет Льва Николаевича обеспечил афоризму популярность и непререкаемость… Но Толстой писал именно о патриотизме. А великий мастер языка всегда говорил именно то, что хотел сказать». «Мне кажется, нет смысла для душевного спокойствия приглаживать мысль Льва Николаевича – гораздо важней её понять».
А вот что говорил Никита Михалков: «Правозащитник г-н Ковалёв говорит с экрана телевизора (НТВ), ссылаясь на Толстого, будто тот назвал патриотизм последним прибежищем негодяя. Но только это не его фраза, опубликована она в книге “Круг чтения” и принадлежит английскому писателю-консерватору XVIII века Сэмуэлю Джонсону, и смысл её прямо противоположный: даже для последнего негодяя патриотизм является последним прибежищем»[34]34
Михалков Н. «Объединяться на нелюбви бесперспективно» / записал И. Иванов // Христианская газета Севера России «ВЕРА»-«ЭСКОМ». (http://vera.mrezha.ru/18/37.html.)
[Закрыть].
Да что там! Это выражение приписывают даже Черчиллю!
Однажды Толстой писал что-то похожее в статье «О присоединении Боснии и Герцеговины к Австрии»: «Патриотизм, в самом простом, ясном и несомненном значении своём, есть не что иное для правителей, как орудие для достижения властолюбивых и корыстных целей, а для управляемых – отречение от человеческого достоинства, разума, совести и рабское подчинение себя тем, кто во власти. Так оно и проповедуется везде, где проповедуется патриотизм. Патриотизм есть рабство»[35]35
Толстой Л. О присоединении Боснии и Герцеговины к Австрии // ПСС: в 90 т. Т. 37. С. 123–124.
[Закрыть].
Но Толстой не говорил и не писал слов о прибежище. Они действительно принадлежат англичанину Джонсону и были напечатаны со ссылкой на автора в толстовском «Круге чтения» за 1905 год. Кто именно включил изречение Джонсона в книгу, сам ли Толстой или её редакторы, неизвестно. Правда, говорят, что потом он выкинул этот афоризм, видимо осознавая его неоднозначность, и в сборниках «На каждый день» и «Путь жизни», изданных десять лет спустя, афоризма уже нет.
Да и в знаменитой статье «Патриот» Джонсона нет этой фразы, а суть статьи именно в обличении ложного патриотизма – Британия в сложном положении, а негодяи, прикрывающиеся «патриотизмом», могут ввергнуть её в войну, а в этот момент, пишет Джонсон, и без этой войны в стране царит ужас. Особый элемент путаницы вносит то, что под одним и тем же словом «патриотизм» в разное время понимали совершенно разные вещи. Джонсон пишет: A patriot is he whose public conduct is regulated by one single motive, the love of his country; who, as an agent in parliament, has, for himself, neither hope nor fear, neither kindness nor resentment, but refers every thing to the common interest[36]36
Johnson S. The Patriot // The Works of Samuel Johnson. London, 1837. P. 423.
[Закрыть]. А уже его биограф Босуэлл оговаривается: Johnson suddenly uttered, in a strong deter– mined tone, an apophthegm, at which many will start: «Patriotism is the last refuge of a scoundrel». But let it be considered that he did not mean a real and generous love of our country, but that pretended patriotism which so many, in all ages and countries, have made a cloak of self-interest[37]37
Boswell J. The life of Samuel Johnson. London, 1817. P. 410.
[Закрыть].
Сэмюэль Джонсон был сложный человек, непростой политик и парадоксалист, живший в то время, когда затрещали устои прежнего мира и треснула даже привычная географическая карта. Для того чтобы понимать, когда это писалось, можно выстроить следующий хронологический ряд: двадцатые годы XVIII века, когда появилось понятие «патриотизм», воспринимающееся сперва как сугубо положительное, но затем, в четвёртом издании словаря английского языка, к нему добавляется уничижительный оттенок в одном из значений – именно тот, что потом использует Джонсон в своей знаменитой статье. В 1773 году происходит «Бостонское чаепитие», через год устанавливается запрет на импорт британских товаров – и вот тогда же появляется статья The Patriot. Скоро в Северной Америке начинается война за независимость, Британия признаёт независимость США, а ещё через год Джонсон умирает. Ещё через пять, когда Великая французская революция в разгаре, публикуется биографическая книга Босуэлла «Жизнь Сэмюэля Джонсона». Тут-то, через семь лет после смерти якобы автора, и после провозглашения независимости США, и даже после взятия Бастилии, сгущается из воздуха этот афоризм.
Но и узнав эти подробности, многие люди не отказываются от собственных трактовок фразы про негодяев и патриотизм. Почему Толстой стал названым автором этой фразы? Да потому что и для давних, и для современных граждан России Джонсон – абстракция, непонятная заморская зверушка. А вот Лев Толстой, как с ним кто ни спорь, символ русской литературы, к которой сохранилось инерциальное уважение. Кого хочется иметь в качестве союзника в пикейно-жилетных спорах? Ответ очевиден, и коллективное бессознательное выпихивает бородатого писателя в центр круга.
Второе обстоятельство – тридцать лет назад, в середине восьмидесятых годов прошлого века, кое-кто использовал афоризм Джонсона, низводя патриотизм любого рода до гадкого свойства недостойных людей. Это было время странной эйфории непослушания и не менее странного противостояния «демократов» и «патриотов» – названия этих человеческих партий сейчас звучат даже как-то неловко.
Теперь времена изменились, и в патриотизме ищется опора. Происходит обратное движение политического поршня. Поэтому и говорят о том, что патриотизм может спасти даже закоренелого негодяя. Можно прочитать это иначе: есть патриотизм двух сортов: один для хороших людей, а другой для дурных. Прочтений может быть масса. И всегда человек обосновывает своё допущение тем, что оно – во спасение. Теперь это не призыв правых или левых, это бессознательная мольба о сплочении, которая в слепоте хватается за попавшийся под руку лозунг.
Патриотизм – такая штука: куда повернёшь, туда и вышло.
И вся эта неразбериха приводит нас к мысли о возрастании нашей ответственности за высказывание в современном мире.
Мире, где самые известные лозунги – это цитаты неточного смысла.
Словом, дело ещё и в том, что спокойно говорить о русской истории можно только с непатриотическими людьми: столько в ней страха, ужаса и величия.
Зашёл разговор о Московской битве и о Ясной Поляне, и я вновь подивился живучести мифа об осквернении могилы Толстого. Дело в том, что хороший писатель Владимир Богомолов в своей давней, но очень интересной статье «Срам имут и живые, и мёртвые, и Россия…» написал один странный пассаж. Вначале он цитировал материалы Нюрнбергского процесса: «В течение полутора месяцев немцы оккупировали всемирно известную Ясную Поляну… Этот православный памятник русской культуры нацистские вандалы разгромили, изгадили и, наконец, подожгли. Могила великого писателя была осквернена оккупантами. Неповторимые реликвии, связанные с жизнью и творчеством Льва Толстого – редчайшие рукописи, книги, картины, – были либо разорваны немецкой военщиной, либо выброшены и уничтожены». А потом сообщил: «(Под “изгадили” подразумевалось устройство в помещениях музея-усадьбы конюшни для обозных лошадей, а под осквернением могилы Толстого имелось в виду сооружение там нужника солдатами полка “Великая Германия”)»[38]38
Богомолов В. Сердца моего боль. М.: Вагриус, 2008. С. 240.
[Закрыть]. Это очень печальная ошибка, всё дело в том, что в доме немецкие солдаты, конечно, напакостили, кое-где нагадили, кое-что стащили, а вот никакого нужника на могиле не было. Историю про сортир придумали какие-то пропагандистские дураки.
И вот почему: могила находится от усадьбы чуть ли не в километре, и в лютый мороз 1941 года никакой немец не добежал бы туда через лес: примёрз бы к дороге своим гузном. Кроме того, немцы там устроили кладбище своих солдат и офицеров, и мчаться туда за отправлением естественных надобностей, чтобы заодно осквернить могилы своих боевых соратников, и вовсе было бы нелепо.
Была легенда, что поверх могилы Толстого был похоронен какой-то немецкий офицер. Не думаю, что Толстой, даже при известном его опрощении, обрадовался такому соседству. Но все могилы были просто неподалёку.
Как только хмурые красноармейцы из Тулы погнали немцев к западу, могилу вскрыли (в связи с этим осматривали и проверяли и тело самого Толстого), всех немцев выковыряли из мёрзлой тульской земли и похоронили за Воронкой, потом перезахоранивали ещё, и наконец, говорят, перенесли на Всехсвятское кладбище в Туле.
Но мои собеседники начали горячиться и с упорством, достойным лучшего применения, кричать: «Нет, нагадили! Насрали!»
Это меня раздосадовало. Часто гитлеровцев обвиняют во всех смертных грехах, и это только вредит делу. То есть обстоятельство, присочинённое для красного словца, удивительно некрасиво потом выглядит на фоне реальных обстоятельств. Гитлеровцев не обелит то, что они не нагадили на могилу Толстого, а если мы будем домысливать эту деталь, то это нас запачкает.
Патриотически настроенные собеседники продолжали горячиться, намекали на какие-то немецкие караулы, что стояли в лесу. Но я знал, что не было там никаких караулов: место неудобное, глухое, именно поэтому Толстой завещал там себя хоронить. Я исходил этот лес вдоль и поперёк.
Я не спорил со своими оппонентами, лишь печаль прибоем окатывала меня. И вот почему: мне до слёз было жалко чистоты аргументов, которая была редкостью в истории моей страны. Лаврентия Берию осудили и застрелили, постановив, что он – английский шпион, а Генриху Ягоде отказали в реабилитации, признав, что он всё ещё остаётся агентом нескольких вражеских разведок. И вот ненависть к гитлеровцам, что действительно нагадили людям в душу на огромном пространстве от Марселя до Яхромы, нужно было отчего-то дополнить невероятной кучкой на писательской могиле. Будто без неё не заведётся ни одна самоходка, ни один танк не стронется с места, ни один лётчик не сядет в свой деревянный истребитель, чтобы умереть в небе – согласно своим убеждениям.
Но тогда, пробираясь по тропинке, тогда, много лет назад, я думал о том, как мне было хорошо, и был убеждён, что в этот момент хорошо всем.
В далекой кавказской деревне, невидимой с яснополянских холмов, в тот час текла река. Текла…
Деревня стояла на одном берегу, а на другом, где располагался чудесный луг, каждый день кто-нибудь – приезжие или местные жители – делал шашлык.
Место было довольно живописное, и над лугом постоянно витал запах подрумянившейся баранины. Кости, правда, бросались тут же, и к аппетитному запаху часто примешивался иной, не слишком приятный.
Не знаю, не знаю, при чём тут казачья повесть Толстого, пьянящий воздух гор и шум реки; видно, на любого жителя среднерусской равнины река и горы оказывают такое же действие.
Друзья мои, потомки мирных народов, будут готовить шашлык на горном лугу, покрытом проплешинами от прежних костров. К ним, наверное, сегодня приехали гости из Москвы, пленники кавказского радушия, красивые мужчины и женщины. Одна из них, сидя в раскладном полотняном кресле около машины, слушает шум реки. Её тонкие ноздри вздрагивают, когда ветерок доносит до кресла запах свежей крови, жареного мяса и дыма…
Это мирный запах мирного дыма, это запах бараньей крови.
Всё пока хорошо, и много лет назад никто не думал о войне.
Кстати, говорили, что Лев Толстой предпочитал котлетки и каши не только из идеологических соображений. Он довольно рано лишился зубов и просто не мог жевать жёсткое и твёрдое. Человек прост, и часто куда проще легенд о себе самом.
Я много лет потом приезжал в Ясную Поляну и видел там настоящих писателей.
Писатели были народ суровый и сурово бичевали пороки общества и недогляд литературы. Из их заседательной комнаты каждый год было слышно: «Он барахтался всю жизнь в своих выделениях, доказывая, что за Тропиком Рака может идти только Тропик Козерога». Как-то в качестве шутки национальные писатели приделывали друг другу отчество «Абрамович» и так здоровались по десять раз на дню.
Вместо этого общения я гулял с другими писателями по окрестностям, а когда уйти было совсем невозможно, то спал под веймутовой сосной. Название этой сосны постоянно с чем-то путают, называют её веймарской или того хуже – вермутовой. «Веймарская» – это ещё понятно, потому что уже стёршееся сочетание «Веймарская республика» живет в сознании. Между тем сосна действительно веймутова, похожа на сибирскую кедровую и называется Pinus strobus. Растёт такая сосна быстро.
Эта самая знаменитая веймутова сосна торчит на полянке перед музеем Толстого.
В сентябре сидят под ней писатели, русские и иностранные, и читают свою прозу. Голос синхрониста при выступлении иностранных гостей вторит интонациям «Андрея Рублёва», той сцены, когда иностранная речь служит фоном скрипам и уханью раскачиваемого колокола.
Проза часто переходит в тосты.
А тосты, как правило, приедаются. Это не каламбур: тосты унылы тем, что набор здравиц ограничен, быстро стираются в них слова.
Но при этом хочется поплакаться, выкрикнуть то, выкрикнуть это. Про нищету, про смертоубийство, что в стране и мире, про пользованные наркоманские шприцы, что валяются в подъездах.
Шевелит ветер трёхгранные иголки веймутовой сосны, будто пальцы. Этих иголок по пять штук в пучке. Ветер уносит тосты и крики.
В Музее-заповеднике, приехав туда по делам, я как раз и сдружился с харизматическим Архитектором.
Метафоры у него рождались из любой подручной вещи.
Однажды, сидя за дармовым столом, мы уставились в миску, что стояла на столе перед нами. Миска была в форме рыбы. Ближе к хвосту лежало полдюжины маслин.
– Это икра, – угрюмо сказал Архитектор.
Он делал открытие за открытием и создавал особое, не географическое, а географическо-поэтическое пространство вокруг себя.
Рядом с Заповедником протекает река Воронка. На её берег мы с Архитектором отправились гулять. Окрестные пейзаны с удивлением смотрели на странную пару: высокого его и толстого низенького меня. Архитектор был в чёрном, а я – в белом. Перебираясь через ручей, я разулся и после этого шёл по толстовской земле босиком. Копатели картошки, когда мы проходили мимо них, ломали шапки и говорили:
– Ишь, баре всё из города едут…
Воронка, по словам Архитектора, была действительно воронкой. Из неё вдруг начинала сочиться бурая мгла. На конце ночи, в зябкий предрассветный час, она всасывалась обратно и исчезала в районе мостика.
Как-то я рассказал Архитектору про известный шар из сумасшедшего дома, вписанный в другой шар.
– Причём, по условиям задачи, – сказал я, – диаметр внутреннего шара – больший.
Архитектора это не смутило абсолютно.
– Это, – ответил он, – взрыв шара.
Правда, меня чрезвычайно раздражало, что Архитектор пользовался успехом у женщин.
Только я начинал распускать хвост и рассказывать разные байки сотрудницам, как появлялся он – и все головы поворачивались к Архитектору.
Сёстры-экскурсоводы даже отвлекались от своих обязанностей и уже скороговоркой сообщали идущим за ними гостям об исчезнувшем здании с полуколоннами и треугольным фронтоном, о том, как Толстой хотел издать солдатскую азбуку и велел продать дом… Как-то незаметно речь эта стихала, проборматывалась, и не все слышали, что азбуки не случилось, а случилась карточная игра, и деньги как-то разошлись.
Дом был продан, и про это можно написать отдельный роман. Про то, как дом был разобран и вновь собран неподалёку. Как он старел на новом месте, как населяли его другие люди, любили друг друга, умирали и как кто-то рождался в той комнате, где родился Толстой. И вот этот дом, огромное здание, что держало всю композицию усадьбы, наконец исчезло.
Спустя много лет после исчезновения Архитектор предложил нарисовать светом несуществующий дом, в котором родился Толстой, – проект разовый, но уж больно красивый. Он чем-то был похож на буддийскую мандалу, что выделывают из песка и они тут же исчезают.
Откуда-то притащили множество прожекторов, что уставились разноцветными глазами в небо, и вот однажды ночью они зажглись.
Посреди усадьбы стоял большой дом, сквозь который проросли деревья. Внутрь можно было зайти, но для того, чтобы подняться на верхние этажи, пришлось бы карабкаться по стволам. Там среди ветвей парило в воздухе место, где родился Толстой.
В сумраке между деревьями светились контуры этажей, а вокруг бродили приглашённые гости с пластиковыми стаканчиками в руках. Они крутили головами и воображали прошлое, как когда-то представлял себе это Виктор Шкловский: где-то там, в высоте, плыл знаменитый клеёнчатый диван, на котором впервые в жизни завопил будущий бородатый гений.
Сейчас мне кажется, что так это и было, хотя, кажется, Архитектор не успел построить дом из света.
Во всякой русской местности есть какое-нибудь специальное место, куда ходят женихи и невесты сразу после того, как их союз признан Богом или людьми. То они идут к мятущемуся Вечному огню, то ломятся на какую-нибудь смотровую площадку. Ходят на могилы Толстого, Пушкина, прибайкальские жители ходят на могилу Вампилова. С могилами всё ясно и довольно символично: это древний дохристианский обычай – ходить чуть что на могилы предков. Отсюда и могила Толстого, и могила Вампилова у Байкала, и Вечный огонь – повсеместно.
Правда, некоторые жители Москвы и Московской области ездят по Ярославскому шоссе в сторону Радонежа. Там есть памятник Сергию Радонежскому – человеческая фигура с врезанным в неё силуэтом мальчика.
Конечно, люди просвещённые много что сказали об этом символе, но краше всего народные объяснения: за ними правда, а не за учёными теориями.
Я как-то отправился туда в надежде купить животворящую простоквашу в церковной лавке и разговорился с каким-то жителем о памятнике. Он поведал, что это символ плодородия, оттого его привечают нерожавшие и бесплодные.
Тульские жители, свершив обряд брака, едут в Ясную Поляну. Через реку Воронку женихи носят невест. Носят, правда, по мосту. Река символизирует жизнь, понятное дело, жизнь прожить – не через Воронку пронести, но всё же.
Я не раз видел эту картину, причём женихи были изрядно выпившие.
Невесты, впрочем, тоже. Одна из них тревожилась по понятной причине и громко орала шатающемуся жениху в ухо:
– Ты…, смотри, не грохнись, – она употребляла, впрочем, другое русское слово, – смотри…
А жених сопел ей в ответ:
– Не боись, сука, не боись. Не грохнемся, – он возвращал глагол…
Это была идеальная пара. Да.
Вся русская литература парна, она всегда двоится: Маяковский – Есенин, Толстой – Достоевский… Никому, впрочем, нет дела до того, как было на самом деле, а про Достоевского я было начал рассказывать.
А как рассказал про Достоевского Архитектору, так тот посмотрел на меня пристально и спросил про Солженицына.
Тут я вспомнил другой разговор с одним Профессором, что учил меня литературе и тоже говорил о неразрывности пары Шолохов – Солженицын.
– Многие этого не понимают, – вещал он. – Ты писатель, а не понимаешь смысла существования Шолохова и Солженицына в литературе. А может, именно поэтому и не понимаешь.
– Чё? – Я не сдавался.
– Ничё. (Профессор часто бывал нетрезв, и не только в коридорах моего литературного техникума, но и на лекциях.) Дело в том, что вся жизнь Солженицына была посвящена противоборству с Шолоховым. Ещё с тех пор, когда он читал его в первый раз, и потом.
Потом, когда Шолохов ехал мимо Солженицына за шторками лакированного лимузина по дороге в Переделкино, а Солженицын клал кирпичи в своём арестантском бушлате. И потом, когда Солженицыну не дали Ленинскую премию, а Шолохов был давно в этих премиях, как в пуговицах. И когда Солженицына выслали, а Шолохов всё ездил в своём лимузине, и ему было всё пофигу. Шолохов жил себе и жил и даже не писал ничего. Но при этом он оставался главным советским писателем, потому что «Тихий Дон» – великая книга, а прочие советские писатели давно перемёрли. И Шолохова проходили в школе – правда, другой роман, но всё равно. Из года в год миллионы детей выводили, от старания высунув набок языки: «Образ новой жизни в романе Михаила Шолохова…»
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































