Текст книги "Дорога на Астапово"
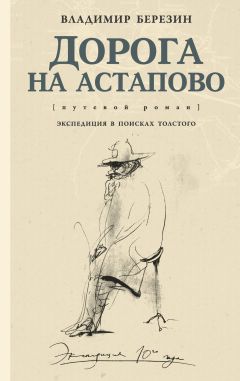
Автор книги: Владимир Березин
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 6 (всего у книги 20 страниц) [доступный отрывок для чтения: 7 страниц]
Бородинское сражение мы воспринимаем именно так, как оно было описано в романе. При этом сначала на Льва Толстого топали ногами очевидцы и участники, а потом какие-то историки пытались ниспровергнуть величественный образ Кутузова (а он у Толстого похож на мудрого друида, смекнувшего, что из священного леса уже выломано дерево, из которого сделают народную дубину, и конец всему, что встанет на дороге).
Один историк утверждал, что оттого Кутузов был сонлив, что баловался ночью винцом и проч. Историк настаивал, что полководец вовсе не имел мудрости одноглазого лесовика, но веры историку никакой нет. Быть по сему, то есть по Толстому.
И «Война и мир» навсегда стала энциклопедией, причём по тому же типу, что и пушкинский роман. При этом понятно, откуда пошла эта фраза: «Евгений Онегин», в котором время счислено по календарю, который комментировали все приличные филологи, так же набит деталями.
У Вересаева есть история про то, как он участвовал в работе филологического кружка, где разбирали «Евгения Онегина» построчно и за год дошли только до фразы «И, взвившись, занавес шумит». Почему шумит? Если уже взвился? Как это? Отчего…
«Война и мир» для нынешнего читателя – энциклопедия русской жизни, но только особенная – та, в которой ничто не счислено, и мало того что по календарю, всё подчинено разным замыслам мироздания. Комментирование её, вернее тщательный разбор, может привести к не менее интересным открытиям. Внимательно читая роман, можно много понять в трёх русских революциях, и даже то, почему олигарх Абрамович купил британский футбольный клуб «Челси».
Толстой совмещает биографическое жизнеописание с описанием быта, более того, приводит в роман толпу своих родственников с их привычками и характерами, насыщает его мелкими деталями, каждая из которых сама по себе – целый остров в океане жизнеописания.
Вот известная выборка из письма Тургенева П. В. Анненкову. Баден-Баден, 14/26 февраля 1868 г.: «…Я прочёл и роман Толстого, и вашу статью о нём. Скажу вам без комплиментов, что вы ничего умнее и дельнее не писали… <…> Сам роман возбудил во мне весьма живой интерес: есть целые десятки страниц сплошь удивительных, первоклассных – всё бытовое, описательное (охота, катанье ночью и т. д.), но историческая прибавка, от которой собственно читатели в восторге, – кукольная комедия и шарлатанство. Как Ворошилов в “Дыме” бросает пыль в глаза тем, что цитирует последние слова науки (не зная ни первых, ни вторых, чего, например, добросовестные немцы и предполагать не могут), так и Толстой поражает читателя носком сапога Александра, смехом Сперанского, заставляя думать, что он всё об этом знает, коли даже до этих мелочей дошёл, – а он и знает только что эти мелочи. Фокус, и больше ничего, – но публика на него и попалась. И насчет так называемой психологии Толстого можно многое сказать: настоящего развития нет ни в одном характере (что, впрочем, вы отлично заметили), а есть старая замашка передавать колебания, вибрации одного и того же чувства, положения, то, что он столь беспощадно вкладывает в уста и в сознание каждого из своих героев: люблю, мол, я, а в сущности ненавижу, и т. д., и т. д. Уж как приелись и надоели эти quasi-тонкие рефлексии, и размышления, и наблюдения за собственными чувствами! Другой психологии Толстой словно не знает или с намерением её игнорирует. И как мучительны эти преднамеренные, упорные повторения одного и того же штриха – усики на верхней губе княжны Болконской и т. д. Со всем тем, есть в этом романе вещи, которых, кроме Толстого, никому в целой Европе не написать и которые возбудили во мне озноб и жар восторга»[47]47
Тургенев И. – П. Анненкову. Баден-Баден, среда 26/14 февраля 1868 г. // Л. Н. Толстой в русской критике. М.: Государственное издательство художественной литературы, 1952. С. 592–593.
[Закрыть].
Тут я отчего-то вспомнил, что есть такой небольшой городок Чернь, более известный тем, что неподалёку от него находится Бежин луг, и, собственно, в этом уезде происходит действие «Охотничьих рассказов». И двух тургеневских подпасков голоса… Да уж известно, что с чем они путают, дураки.
У дороги там стоит серый памятник Тургеневу и Толстому, похожим на Маркса и Энгельса.
В здании бывшей бумажной фабрики давным-давно открыли крохотный музей. Директор его была прекрасная женщина.
– Чернь, – говорила она, – райское место для вас, писателей! Фет, Толстой, Тургенев… Они так любили эту землю, тут писали, даже дуэль назначили именно у нас, на чернской земле!
Но надо вернуться: для нас, не-современников Толстого, людей уже даже не XX, а XXI века, приобретают особый смысл не только мелкие детали художественных образов, но и детали жизнеописания людей, бытовые приметы времени.
Вот чудесное выражение: «Денщик рубил огонь». Оно означает, что денщик бил по кремню стальным жалом кресала, высекая искры, искра попадала на пропитанный селитрой трут, а от тлеющего трута зажигали далее упоминающиеся Толстым серники. Это своего рода протоспички – лучины с серной головкой, вспыхивавшей от трута; от трения она не загоралась. Иногда серники звались «маканки» – по процессу нанесения расплавленной серы. Интересно, что в том самом 1812 году появились так называемые спички Шапселя, головка у которых состояла из серы и бертолетовой соли. Их зажигали лупой или капали на них серной кислотой. Это было неудобно, пожароопасно и дорого, но фосфорные спички появились гораздо позже, во времена юности Толстого, и навек вошли в историю своей ядовитостью. Белый фосфор, растворённый в воде, был ядом, и «она отравилась спичками» стало ходовой развязкой бульварного романа. Первые безопасные спички стали делать в 1851 году братья Лундстрем в Швеции…
Пушкин писал как очевидец, Толстой пишет об Отечественной войне и отечественном мире как путешественник, отправившийся в прошлое, рассказывающий публике об увиденном, но он не в силах удержаться от интерпретации. Это просто невозможно.
Есть известное место в романе, когда «государь велел подать себе тарелку бисквитов и стал кидать бисквиты с балкона»[48]48
Толстой Л. ПСС: в 90 т. Т. 11: Война и мир. Том третий. С. 90.
[Закрыть]. Это один из самых рисковых эпизодов «Войны и мира»: молодой Ростов наблюдает давку народа за бисквитами, сам бросается за ними, и это как бы карикатура на власть, спустя много лет отзывающаяся в сознании современного читателя Ходынской катастрофой, – в Ясной Поляне на полке до сих пор стоит подарочная кружка, одна из тех, за которыми давился народ на Ходынском поле. Но Толстой пишет свой роман задолго до коронации Николая II, просто иллюстрируя идею бессмысленности власти в момент исторического выбора.
Судя по всему, Толстой выдумал этот эпизод. Более того, сцена с бисквитами стала поводом для особых претензий к роману. Сразу после публикации П. А. Вяземский написал мемуар «Воспоминания о 1812 годе», в котором и говорил о недостоверности сцены. Толстой отправил в «Русский архив», напечатавший Вяземского, свой ответ, где утверждал: «Князь Вяземский в № “Русского архива” обвиняет меня в клевете на характер и<мператора> А<лександра> и в несправедливости моего показания. Анекдот о бросании бисквитов народу почерпнут мною из книги Глинки…»[49]49
Толстой Л. – П. Бартеневу. 6 февраля 1869 г. // ПСС: в 90 т. Т. 61. С. 212.
[Закрыть] Редактор «Русского архива» П. И. Бартенев этого эпизода в «Записках о 1812 годе Сергея Глинки, первого ратника Московского ополчения» не обнаружил. Оттого ответ Толстого не попал на страницы журнала, но Толстой настаивал на том, что всё написанное – след подлинных событий.
Комментаторы толстовского текста ссылаются на Эйхенбаума, который обнаружил нечто похожее в книге А. Рязанцева «Воспоминания очевидца о пребывании французов в Москве в 1812 г.», вышедшей в 1862 году: «…император, заметив собравшийся народ, с дворцового парапета смотревший в растворенные окна на царскую трапезу, приказал камер– лакеям принести несколько корзин фруктов и своими руками с благосклонностью начал их раздавать народу». Эйхенбаум считал, что Толстой «описывал эту сцену на память и заменил фрукты бисквитом»[50]50
Эйхенбаум Б. Комментарий // Толстой Л. Война и мир. Т. 3–4. Л.: Гослитиздат, 1935. С. 692.
[Закрыть].
Вероятнее другое: идеи Толстого требовали этой сцены (а она то и дело повторяется в разных странах и в разные времена), она ему была нужна, была естественна – и вот появилась.
Нельзя говорить о небрежности Толстого, он вовсе не вольно обходится с источниками (на бытовом языке это означает, что он дурно с ними работает). Нет, он сознательно проламывается сквозь историческую скорлупу твёрдых знаний. К примеру, он пишет о том, что «действия Понятовского против Утицы и Уварова на правом фланге французов составляли отдельные от хода сражения действия»[51]51
Толстой Л. ПСС: в 90 т. Т. 11: Война и мир. Том третий. С. 189.
[Закрыть], но это не так, он спорит с общественным мнением, ко времени написания «Войны и мира» воспринимавшим Бородинское сражение как результат гениальных решений Кутузова. А в рамках идей романа лучше бы оно было результатом хаотических движений войск, подчинённых лишь провидению. Провидение у Толстого, тот самый русский Бог, несёт более смысла, чем исторические свидетельства.
Отечественная война становится более религиозной, чем можно вывести из мемуаров и документов.
Сейчас Толстого назвали бы постмодернистом. Если внимательно почитать, то видно, как он докручивает образы: вот был маршал Ней, признанный символ храбрости и самоотречения. У Толстого «Ней, с своим десятитысячным корпусом, прибежал в Оршу к Наполеону только с тысячью человеками, побросав и всех людей, и все пушки и ночью, украдучись, пробравшись лесом через Днепр»[52]52
Толстой Л. ПСС: в 90 т. Т. 12: Война и мир. Том четвёртый. С. 163.
[Закрыть].
При этом Ней прикрывал отход всей армии, дрался отчаянно и вывел остатки своих солдат по тонкому льду через Днепр, сам пойдя первым.
Его действия высоко ценил противник, то есть русские. Владимир Иванович Левенштерн (1777–1858), генерал и мемуарист, писал: «Ней сражался как лев. Этот подвиг будет навеки достопамятен в летописях военной истории. Ней должен бы был погибнуть, у него не было иных шансов к спасению, кроме силы воли и твёрдого желания сохранить Наполеону его армию»[53]53
Тарле Е. Нашествие Наполеона на Россию // 1812 год: избранные произведения. М., 1994. С. 311-312.
[Закрыть].
Одним словом, Толстому необходимо было показать, что военное искусство – только часть отвратительной стороны войны, наполеоновская машина порочна, и маршал Ней со всей своей славой пал жертвой этой необходимости. Шкловский отстаивал не право Толстого на интерпретацию, а право на «энергию заблуждения», в том числе на свой метод описания мира, в котором, вслед Толстому, много этой энергии и много заблуждений.
Как расскажешь, так и будет. Всё определяется свойствами рассказчика.
История, которой мы питаемся, ими и создается.
Сама по себе эта история очень показательна и постоянно повторяется – противоборство «возвышенных патриотов», «очевидцев» и «писателей-очернителей», «критиков истории» вечно.
Вот хороший вопрос: достаточно ли боевого опыта Льва Толстого на Кавказе и в Крымской войне для того, чтобы писать об Отечественной войне 1812 года? Многим современникам, кстати, роман Толстого не пришёлся по душе. Вяземский и Норов считали, что нет.
Авраам Сергеевич Норов был, между прочим, человек примечательный: при Бородинском сражении прапорщик Норов командовал полубатареей на Багратионовых флешах, потерял ногу, но остался в армии и дослужился до полковника. Стуча деревянной ногой, он объездил Ближний Восток, научился читать иероглифы, оставил множество заметок. Потом был министром народного образования и умер семидесяти трёх лет в 1869 году. Так вот, напоследок он написал заметки о толстовском романе в духе: «Неужели таково было наше общество, неужели такова была наша армия, спрашивали меня многие? Если бы книга графа Толстого была писана иностранцем, то всякий сказал бы, что он не имел под рукою ничего, кроме частных рассказов; но книга писана русским и не названа романом (хотя мы принимаем её за роман), и поэтому не так могут взглянуть на неё читатели, не имеющие ни времени, ни случая поверить её с документами или поговорить с небольшим числом оставшихся очевидцев великих отечественных событий. Будучи в числе сих последних (quorum pars minima fui), я не мог без оскорблённого патриотического чувства дочитать этот роман, имеющий претензии быть историческим, и, несмотря на преклонность лет моих, счёл как бы своим долгом написать несколько строк в память моих бывших начальников и боевых сослуживцев»[54]54
Норов А. «Война и миръ» с исторической точки зрѣнія и по воспоминаніямъ современника. (По поводу сочиненія графа Л. Н. Толстаго «Война и миръ») // 11‐й Военный сборник 1868 года. Санкт‐Петербург: Типография Департамента Уделов, 1868. С. 2.
[Закрыть].
Дело не только в том, что Толстому Норов и прочие очевидцы высказывали претензии в неточностях движения войск, – они говорили о совершенно другом поведении исторических персонажей, о других мотивировках слов, речей, поведения и принятии решений. И, при всех поправках на оскорблённую гордость, это довольно ценные замечания. Из этого не следует, что книга Толстого не является национальным сокровищем. Из этого следует то, что это сокровище имеет сложную структуру и им нужно уметь пользоваться.
Для какого-то читателя это роман не о войне 1812 года, а о месте человека в истории и прихотливости человеческой гордости и предубеждений. Но для миллионов читателей это текст, из которого выводится история русского похода и (опционально) загадочной славянской души, о чём нам так весело рассказал Вуди Аллен. Это проблема старая, об неё спотыкался не только обидевшийся Норов, но и русские формалисты. Виктор Шкловский написал по этому поводу довольно известную статью «Матерьял и стиль в романе Льва Толстого “Война и мир”». Осип Брик говорил об этой работе так: «Какая культурная значимость этой работы? Она заключается в том, что если ты хочешь читать войну и мир двенадцатого года, то читай документы, а не читай “Войну и мир” Толстого; а если хочешь получить эмоциональную зарядку от Наташи Ростовой, то читай “Войну и мир”. Культурный человек тот, который заражается эмоциональным настроением от реальных фактов, а не от выдумки. Замечателен в этом отношении спор Бабеля с Будённым. Будённый говорит: ты исказил конармию, а Бабель говорит: я и не собирался её писать. Какой мне нужен был материал, тот я и брал. А если хочешь читать про конармию, то возьми документы и читай. Будённый требует от писателя фактичности, и в этом мы с ним согласны»[55]55
Брик О. ЛЕФ и кино. Стенограмма совещания // Новый ЛЕФ. 1927. № 11/12. С. 63.
[Закрыть].
Но, хоть убейся о памятники на Бородинском поле, неодолимая сила этого романа в том, что он замещает историю Отечественной войны – и ничего теперь с этим нельзя поделать.
Есть и другая проблема. Как-то, по своей временной работе собирая военные мемуары, то есть опрашивая стариков-ветеранов, я понял, что никакой их военный опыт не гарантия ничего, даже не гарантия того, что они говорят правду. Всякий их рассказ о событии был не рассказ-документ, а рассказ-воображение. Очевидцы вовсе могут не знать предмет и строить совершенно нелепые здания из кирпичей памятного личного ужаса, как и из кирпичей личной гордости, впрочем.
Лучшие самозванцы на моей памяти были люди, внимательно читавшие мемуары, а то и документы из архивов. Эти самозванцы оказывались удивительно правдоподобны, а рассказы их – куда более художественны, чем истории непосредственных участников.
Суждение о «релевантном опыте» не то чтобы неверно, но бессмысленно. Чем измерить эту релевантность? Почему «служба в армии» считается чему-то релевантной (кстати, даже за пределами литературы)? Например, релевантна ли служба офицером пуска зенитных ракет сочинённому сюжету о космических пауках, напавших на землю? Или описанию кровавой мясорубки на Перекопе? Это, разумеется, вопросы риторические.
Мы знаем массу примеров, когда ничто ничему не было релевантно. Пушкин пишет «Бориса Годунова» в двадцать пять лет, прочитав Карамзина. Он не был ни царём, ни самозванцем, вернее, он был ими обоими в своей глуши, посреди псковских далей, как по поводу этой топографии острил Довлатов.
А обывателю хочется объяснить великое чудо литературы персональным опытом. Есть известная фраза Олеши о Данте: «Неудивительно, что, встречая Данте на улицах Флоренции, прохожие отшатывались в священном страхе:
– О, боже мой, он был в аду!..»
Часто какой-нибудь писатель съездит на войну, и обыватели на улицах цокают языком: «Он был в аду». В таком писателе обязательно подозревают посттравматический синдром, излом души и особые свойства.
При этом я видел множество людей, по зову сердца, из корысти или просто по воле начальства побывавших в аду, и никаких изломов у них не обнаруживал.
Нет, были и люди с изломами, но большинство, за редкими исключениями, считало, что за командировку в ад им положены дополнительные бонусы. И их книги должны быть чуть более популярны: смотрите, вы сидите сытые, а я видел злые щели, видел пропасти и языки пламени, и оттого к моим словам нужно испытать больше уважения.
Некоторые посетители ада в этом убеждении искренни, другие, немного циничные, получают зачёт как бы по очкам, суммированным общественным мнениям. В аду побывать можно не только в погонах (хотя это самый товарный образ героя и автора). Есть истории, рассказанные инвалидами, неизлечимыми больными и ввергнутыми в узилище.
То есть они были в аду, и теперь жители Флоренции им немного должны.
Одним словом, элемент персонального чувствования и выдается за критерий.
Чем это плохо? Тем, что делает анализ бессмысленным. Слова «художественное открытие может родиться только из личного, всеми чувствами и кожей пережитого опыта» на самом деле означают: а) то, что нам не нравится, – не открытие или б) если оно нам нравится, мы легко подберём под него истинный или воображаемый жизненный опыт автора, etc.
Жизненный опыт может быть «пережитым кожей» и «пережитым не кожей, а мозгом», да и вообще заёмным. Это правило не работает и в другую сторону: люди, обладающие уникальным опытом и литературным даром, могут вовсе не совершать никаких открытий (хоть и пытаться) и, более того, вовсе не уметь связно высказаться (хоть и пытаются).
Речь идёт о самой постановке вопроса: существует ли ценз личного опыта?
История литературы отвечает: не существует.
Пушкин не служил в армии, в двадцать пять он не мог вспоминать, как пахнет на постоялом дворе армяк Отрепьева. Тынянов не ночевал в чумных хижинах под Гюмри, не надевал на себя мундир подпоручика в военном музее. Брэдбери, наконец, не был в космосе.
Волшебство литературы – если говорить о чудесах – заключается как раз в том, что писатель создаёт в воображении мир, и сила его воображения лишь опосредованно связана с его реальным опытом. А может, и вовсе никак не связана.
Следующая волна чудес начинается в тот момент, когда воображаемый мир становится главнее реального – толстовская история войны замещает документы, а тыняновская книга замещает реального поэта и дипломата.
Никакого правила нет, яркие образы могут возникнуть у человека, лежащего взаперти, и никакого – портянок ли, фиалок ли – запаха для этого не нужно.
Жизнеописание становится энциклопедией жизни не только благодаря, но и вопреки своим деталям.

Машинка времени
10 ноября
Крапивна, Одоев и Белёв
Иногда ирония должна восстановить то, что разрушил пафос.
Станислав Ежи Лец
Утренняя Крапивна. Засечная черта. Дела судебные. Что делать, когда не можешь молчать. Белёв и Одоев. Эксперименты со временем
Осенняя тьма понемногу отступала. Махала нам с золотого поля звезда из шести крапивных ветвей – «по имени сего города».
Мы не въехали, а как-то вдвинулись в Крапивну. Только рассветало, но город казался ещё мрачным и тёмным.
Мы вылезли, озираясь, как куриные воры, на главной площади.
Вокруг нас плыл зелёный и серый холодный туман – я чувствовал себя словно внутри аквариума. В этом аквариуме рядом со мной были какие-то будто бы гроты, водоросли, непонятные сооружения и неровности бытия.
А ведь я помнил Крапивну совершенно иной; меня привезли сюда на какое-то фольклорное мероприятие, и я чуть не увязался в фольклорную баню с пригожими фольклорными девками.
Меня мягко, но строго вернули и усадили на улице, которую перегородил хоровод. В него затесался пьяный, он притопывал, прихлопывал и делал нам козу грязными, в машинном масле, пальцами. Хоровод плавно двигался под гармонь, и я вдруг почувствовал себя Генералиссимусом, что стоит на трибуне и, хлопая в ладоши, раздвигает невидимую трёхрядку. Так это было странно, что я тайком покинул назначенное место и поплёлся по улицам.
Сверкали выставленные в окна фольклорные самовары.
За занавесками пили чай потомки поставщиков гусиного пера, бондарей и шорников.
Прошёл мимо наследник бортников, заметно шатаясь от хмельного мёда. Тогда, далеко уж отойдя от праздника и народных напевов, я закурил под щитом с лаконичной надписью «1389» и стёршимся рисунком, похожим на изображение конопли.
История Крапивны была прихотливой, с юга часто приходили ожидаемые, хоть и нежеланные гости.
В конце шестнадцатого века зазвенели над Крапивной сабли Девлет Гирея, и история её пресеклась. Разбрелся народ по окрестностям, и лишь крапива проросла на пепелищах.
И, как замечает летописец, «далее история о городе сем не упоминаема. Кроме того, что в смутныя времяна подвержен был он соблазнам и, чаяв держаться законных своих государей, часто предавался самозванцам». Прекрасная фраза эта катается по разным путеводителям, однако без всяких сносок и ссылок.
Глеб Иванович Успенский Крапивны не пощадил, бросив в одном из рассказов: «Городишко оказывается самый обыкновенный: грязь, каланча, свинья под забором, мещанин, загоняющий её поленом и ревущий на неё простуженным голосом, – всё это, вместе с всклокоченной головой мещанина и его рубахой, распоясанной и терзаемой ветром, составляет картину довольно сильную по впечатлению.
Осенняя непогода в полном разгаре. Уездная нищета ещё унылее влачит свои отребья и недуги по грязи и слякоти, вся промоченная до нитки проливными дождями и продрогшая от холодного, беспрерывно ревущего ветра. Не хочется ни выйти, ни взглянуть в окно»[56]56
Успенский Г. Разоренье. М.: Директмедиа, 2014. С. 214.
[Закрыть].
И сейчас было довольно холодно.
Я приплясывал, а Директор Музея начал делать какие-то пассы в воздухе, объясняя границу засечной черты. Чем-то он напоминал мне человека из заграничных фильмов, что одним взмахом руки меняет картины на фантастических экранах-голограммах.
Раз! – и рука описывала полукруг по всей южной границе России от брянских до мещерских лесов. Ладонь начинала движение где-то на Жиздре, проникала через Белёв к Одоеву, затем поднималась к Ясной Поляне и, снизу обходя Каширу, врезалась в мещерскую болотину. И наконец, уже остановившись, делала два движения вниз – к Шацку и Ряжску.
Два! – и растопыренные пальцы показывали поваленные деревья, закреплённые под углом и ложащиеся друг на друга. Три! – и он изображал Ивана Грозного, приехавшего инспектировать наш суковатый аналог Великой Китайской стены. Тут в ход шли совершенно неприличные жесты. Иван Грозный в этом пересказе напоминал генерала, заставшего дембелей за ловлей бабочек.
Видел я как-то такую картину и оттого представлял хорошо трепет воевод. Представлял я и незавидную судьбу подчиненных Директора, что, к примеру, проворонили бы в его музее хулигана, написавшего короткое неприличное слово на мраморной ягодице.
Но деревянная стена вместе с бревенчатыми стенами крепостей давно превратились в труху, тлен, смешались с землей и водой.
Итак, места были пограничные.
Но для Толстого Крапивна в первую очередь была городом начальственным – Ясная Поляна входила в Крапивенский уезд. Тут Толстой был мировым посредником в шестидесятые, в семидесятые – секретарём дворянского собрания и губернским гласным от крапивенского земства. В восьмидесятые его избрали уездным предводителем дворянства.
Меня эта судебная деятельность Толстого всегда занимала. Однако ж относился я к ней с опаской, как к теме, которая бередит душу, и выводы твои никому не нравятся: ни правым, ни левым, да и самому себе не нравятся. Ибо взялся ты говорить о вещах несовместимых и нерешаемых.
А тут человек с идеалами вмешивается в самое угрюмое, что есть между людьми.
Разве что обычная война будет поугрюмее войны судебной.
Причём Толстой год от года подходил к этой бесчеловечной судебной машине, совал в неё палки, подманивал, разговаривал с ней по-русски, хотя, как известно, она не говорит ни по-русски, ни по по-арамейски, а на каком-то своём, нечеловеческом языке. И даже ведя речи на нём, она понимает лишь себя.
Сначала Толстой был мировым посредником и ходатайствовал за крестьян. Понятное дело, окрестные помещики его возненавидели.
Он ушёл из посредников, а в 1866 году случилась знаменитая история с Василием Шабуниным. Василий Шабунин был рядовой, ударивший своего командира. Толстой выступал на суде, надеясь на лучшее, да только преступление считалось тяжким, и Шабунину грозила смертная казнь.
Было написано прошение на Высочайшее имя. Однако в августе того же года Шабунина казнили.
История с Шабуниным грустная, и началась она 6 июня.
Был в 65-м Московском пехотном полку ротный писарь и был капитан Яцкевич, командир этой роты.
Писарь посреди дня напился, и ротный его на этом деле поймал. Капитан велел посадить его под замок, а после дать розог.
Однако ж писарь успел крикнуть:
– За что же меня в карцер, поляцкая морда? Вот я тебе!
И разбил своему командиру лицо в кровь.
В советской литературе о Толстом эта история пересказывалась скороговоркой, потому что «рядовой Шабунин ударил офицера» звучит не в пример лучше, чем «пьяный писарь обругал своего командира “польской мордой” и избил до крови». Трагедия любого суда в том, что он всегда родом из знаменитого рассказа «В чаще», а ещё и в том, что легко защищать чистого и прекрасного человека, а попробуй защищать пьяного писаря.
В итоге защитить не удалось.
Толстому вообще не удавалось защищать людей: в 1881-м он пытался защищать цареубийц, да тоже ничего не вышло.
И была ещё история с убитым конокрадом и его убийцами, которых судили в Крапивне.
О деле писали много, потому что думали, что Толстой снова будет защищать обвиняемых, в зале были газетчики, и публика пребывала в ажитации. Литературоведы говорят, что этот эпизод попал в «Фальшивый купон»; впрочем, таких случаев было немало. От отчётов о деле возникает глухая тоска – убийство это звериное, без человеческой страсти.
Толстой об этих людях заботился. Не поймёшь, чем дело кончилось, – мемуаристика избирательна.
Старик, что приехал к тюремным воротам и ждёт, – неизбирателен. Вот он переминается перед крапивенской тюрьмой, привёз какие-то вещи будущим сидельцам. «Один из обвиняемых оправдан, один – присужден к заключению в тюрьме на три года, а двое в ссылку на поселение в места не столь отдалённые. Когда осужденных повели в тюрьму, граф торопливо оделся в свой старый полушубок, побежал за арестантами и что-то говорил с ними»[57]57
Граф Л. Н. Толстой в суде. Нам пишут из Крапивны // День. 1890. 11 ноября. № 901.
[Закрыть].
Толстой, кстати, вовсе не всегда ходил по судам, чтобы защищать кого-то. Вот ещё отрывок: «Вчера в VII отделении Окружного суда в Москве, в среде немногочисленной публики, собравшейся слушать неинтересные дела о пустых кражах, был и граф Л. Н. Толстой. Наш маститый писатель был не в обычной блузе, каким его рисуют на портретах, а в костюме европейского покроя. Граф живо интересовался всем ходом судебного следствия, прений и даже формальностями по составлению присутствия суда. Всё время у него в руках была записная книжка, куда он часто вносил свои заметки. Слух о пребывании графа Л. Н. Толсто– го быстро разнесся по всем коридорам суда, и в Митрофаниевскую залу то и дело заходили посмотреть известного писателя. Все удивлялись лишь тому, что граф Л.Н. выбрал так неудачно день, когда рассматривались совершенно неинтересные дела»[58]58
Московские новости. 1895. 12 апреля. № 4250 // Интервью и беседы с Львом Толстым / сост. и комм. В. Я. Лакшина. М.: Современник, 1986. С. 466.
[Закрыть].
Это довольно примечательное разочарование.
Интересное дело для публики тогда (да и сейчас) – одно, для Толстого – другое.
Вот пройдёт много времени, и старый человек не сможет молчать, как его ни предостерегай.
Статье Толстого «Не могу молчать» не повезло, потому что её название превратилось в риторическое восклицание. Оно как бы стёрлось. Статью начали трактовать, да так, что, казалось, речь идёт о десятках разных текстов.
А слова Толстого страшные, потому что безнадёжные.
И не потому, что эти слова никто не слышит, а потому, что слово изречённое летит над толпой как лист, жухнет на лету, меняет цвет. И вот все уже повторяют эти слова – ан нет, вышла какая-то дрянь.
Тут ведь трагедия в том (и мы это сейчас понимаем), что, найдись на троне какой второй Толстой, раздай он землю крестьянам, – начнётся такая резня, что мало не покажется. (И не показалось, собственно.)
И некуда податься: что ни сделай, всё плохо будет. А не делай – так себе стыдно и надежды вовсе не будет.
Всё не так, лучше не стало, и человечество не улучшилось.
Не о том я всё, не о том.
Я про Толстого с его полузадушенными криками и не-молчанием. «Не могу молчать» на самом деле очень простое рассуждение.
Сначала Толстой пишет о смертных приговорах крестьянам за разбойничьи нападения на помещичьи усадьбы.
Потом он говорит о том, что ремесло смертной казни стало обыденным: «Ещё недавно, в 80-х годах, был только один палач во всей России. Помню, как тогда Соловьёв Владимир с радостью рассказывал мне, как не могли по всей России найти другого палача, и одного возили с места на место. Теперь не то». Дальше происходит некоторая полемика с людьми, которые говорили, что жестокость совершается для того, «чтобы водворить спокойствие, порядок». Толстой замечает: «…вы не только не излечиваете болезнь, а только усиливаете её, загоняя внутрь». Что же делать? «Ответ самый простой: перестать делать то, что вы делаете». «Вы говорите, что совершаемые революционерами злодейства ужасны, – пишет Толстой, – но то, что делаете вы, ещё ужаснее». Аргумент его сводится к тому, что власть не чиста, а оттого не имеет права судить революционеров. «Если есть разница между вами и ими, то никак не в вашу, а в их пользу. Смягчающие для них обстоятельства, во-первых, в том, что их злодейства совершаются при условии большей личной опасности, чем та, которой вы подвергаетесь, а риск, опасность оправдывают многое в глазах увлекающейся молодежи. Во-вторых, в том, что они в огромном большинстве – совсем молодые люди, которым свойственно заблуждаться, вы же – большей частью люди зрелые, старые, которым свойственно разумное спокойствие и снисхождение к заблуждающимся. В-третьих, смягчающие обстоятельства в их пользу ещё в том, что как ни гадки их убийства, они всё-таки не так холодно-систематически жестоки, как ваши Шлиссельбурги, каторги, виселицы, расстрелы. Четвёртое смягчающее вину обстоятельство для революционеров в том, что все они совершенно определённо отвергают всякое религиозное учение, считают, что цель оправдывает средства, и потому поступают совершенно последовательно, убивая одного или нескольких для воображаемого блага многих. Тогда как вы, правительственные люди, начиная от низших палачей и до высших распорядителей их, вы все стоите за религию, за христианство, ни в каком случае не совместимое с совершаемыми вами делами»[59]59
Толстой Л. Не могу молчать // ПСС: в 90 т. Т. 37. С. 92.
[Закрыть]. Потом Толстой рассказывает о стыдящемся своей работы палаче, который, по его мнению, нравственно выше «вас всех», то есть власти и общества, и заключает: «Я, по крайней мере, не могу так жить, не могу и не буду. Затем я и пишу это и буду всеми силами распространять то, что пишу, и в России, и вне её, чтобы одно из двух: или кончились эти нечеловеческие дела, или уничтожилась бы моя связь с этими делами, чтобы или посадили меня в тюрьму, где бы я ясно сознавал, что не для меня уже делаются все эти ужасы, или же, что было бы лучше всего (так хорошо, что я и не смею мечтать о таком счастье), надели на меня, так же как на тех двадцать или двенадцать крестьян, саван, колпак и так же столкнули с скамейки, чтобы я своей тяжестью затянул на своём старом горле намыленную петлю»[60]60
Там же. С. 95.
[Закрыть].
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































