Текст книги "Дорога на Астапово"
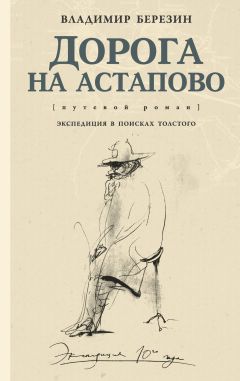
Автор книги: Владимир Березин
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 5 (всего у книги 20 страниц) [доступный отрывок для чтения: 7 страниц]
Что было с этим делать – непонятно.
Один знакомый стал упрекать Солженицына в том, что он хочет стать вторым Толстым, отрастил себе толстовскую бороду и подбривает лоб, чтобы больше походить на зеркало русской революции. Глупец! Что Толстой! Шолохов – вот кто занимал мысли Солженицына. На фоне существования Шолохова всё остальное было мелкими неприятностями. Чекисты – надоедливыми мухами, Брежнев – дураком-петрушкой. Высылка – загранкомандировкой, а слежка – общественным вниманием.
Можно было помогать всяким людям, что доказывали неподлинность «Тихого Дона». Неподлинность, которая как бы отменяла ценность и романа, и самого Шолохова.
Солженицын нанял дюжину авторов, что распространяли слухи о прикованном в подвале Шолохова скелете белого офицера, о Булгакове и Платонове, что хватились своих рукописей, а обнаружили их в знаменитой книге.
И тут ему наконец дали Нобелёвскую премию. Понадобилось пять лет, чтобы наверстать этот разрыв между ними, но это ему удалось!
Но это всё не было то – нужно было иметь замещающую «Тихий Дон» книгу, где лязгают друг о друга колеса и шестеренки революции. И Солженицын всё писал свой огромный роман, с ужасом понимая, что никто его читать не будет. Никто не продерётся через все эти долгие речи персонажей о судьбах России, через мельтешение солдат и матросов на улицах Петрограда, через персонажей, говорящих с помощью словаря языкового расширения. Но ничего не поделаешь, заместить целый «Тихий Дон» рассказом про бригадира подневольных строителей было нельзя.
Потом Шолохов умер, и, узнав об этом, Солженицын несколько часов бегал между вермонтскими берёзами, радостно крича и стуча палкой по деревьям. Через пару лет всё окончательно переменилось, и Солженицын стал главным писателем. А Шолохов незаметно исчез из школьной программы.
Это была славная битва уже мёртвых писателей, и в конце концов молодой победил старого. Не хватало только одного штриха – и вот он закончил картину. Уже мёртвый Солженицын поверг Шолохова в прах.
Потому что он заместил его в школе.
Понял? И нет тут никакой политики.
От этой истории о вечном писательском недовольстве я возвращаюсь мыслями к моей гипотетической спутнице. Мы гуляем по полям и вскоре находим ясную полянку. Трава на ней скошена, но достаточно давно, так что она не колет ноги.
Мы снимаем обувь, я стелю на поляне плед, вынутый из сумки.
Моя спутница кладёт мне ладонь на грудь, расстегнув предварительно рубашку. Рот её полуоткрыт, и налитые чувственные губы особенно прекрасны в этот момент. Вскоре мы путаемся в застёжках, она, наконец, роняет голову на грудь…
Мы занимаемся любовью прямо под клёкот трактора, вынырнувшего из-за пригорка.
Тракторист приветливо машет нам.
Нет, так не годится…
Не годится, потому что я, одиноко шатаясь по закрытому Заповеднику, заблудился. Я шёл по полевой дороге. Вокруг холмы, вдали река – матёрый человечище бегал туда купаться.
Я представил себе, как из-за пригорка навстречу мне появляется старичок-лесовичок, похожий на лесного волшебника. Едет он на лошадке, резво подкидывающей его в седле. Вот он промчится мимо, а я останусь стоять с открытым ртом, так и не спрошу ничего и не успею рассказать ни про русскую революцию, ни про прочие беды и несчастья.
Но нет, другой старичок проехал мимо меня, пролетел мимо ком земли, откинутый копытом.
Я начал тупо глядеть на солнце. «Оно сейчас на западе, – размышлял я, – оно на западе, а мне надо… Куда же мне надо? На север? Или…»
Я вслушивался в шумы. Нет, это не шоссе. Кажется, это вертолёт. И вот, махнув рукой, я зашагал куда глаза глядят. Глядели они туда, куда нужно, и вскоре показались зелёные указатели с загадочной надписью: «К любимой скамейке».
Такие надписи в мемориальных парках всегда приводят меня в трепет.
В Михайловском, например, они сделаны на мраморных кладбищенских плитах, и, прогуливаясь поздним вечером, я часто испуганно вздрагивал: что это там, кто лежит у развилки? Ближе становился различим белеющий в темноте квадрат и кляксы стихов на нем. Несмотря на величие пушкинского слова, хотелось убежать от страшного места.
Начало темнеть, оттого я даже побежал.
Почему-то на бегу я опять вообразил себе несущегося по лесу Льва Николаевича. Нет, лучше Салтыкова-Щедрина, которого мои школьные приятели называли просто – Щедрищин. Да, воображаю себе, как он, бывший генерал-губернатор, махая лопатистой бородой, кричит:
– Воруют, все воруют!
И поделом.
Я думаю о Толстом: всё же я приехал в Ясную Поляну, а не в какую-то заштатную Карабиху или Спас-Клепики. (Тут я запнулся и напомнил самому себе, что обязательно нужно рассказать про Спас-Клепики.)
Верил ли он сам в то, что мир можно переменить? Нет, мы все в это верим, но как-то отчасти, не полностью, не в каждом дыхании, а вот он как? Зачем ему все эти утренние забавы помещика? Зачем весь этот босоногий пахотный образ? Зачем неприличное писателю возмущение общественными нравами? Я, кстати, заметил, что как только писатель начинает кого-нибудь обличать, а хуже того, изъявляет желание пахать землю или встать к какому-то загадочному станку, его литературный путь заканчивается.
Хотя нет… Тут я в испуге остановился.
А вдруг этот помещик, про взгляды которого у школьной доски обязательно нужно было прибавить непонятные слова «юродствующий во Христе», оказался прав? Вдруг?
И между прочим, я давно замечал за собой желание опроститься, очиститься для лучшей жизни…
Тут выныривает откуда-то из-за куста моя эфемерная знакомая. Фу, не буду я на неё смотреть, не буду смотреть на её тонкие музыкальные пальцы с аккуратными ногтями, на её французскую кофточку, на стройные лодыжки.
– А ты не хочешь ли, – говорю я ей, – заняться мозольным трудом, а?
Лик моей спутницы растворяется в заповедной растительности.
Скоро за деревьями показались белые строения.
Первым делом я обошёл музей.
Было пустынно.
Рядом, отделённое металлической сеткой, стояло освежёванное сухое дерево. В нём неестественным образом торчал Колокол Нищих.
Некогда нищие приходили и брякали в этот колокол.
Из дома появлялся некто и давал нищим нечто.
Или ничего?
Огромная глыбища этого дерева стоит у дома матёрого человечища.
Дерево росло и всасывало в себя колокол. Теперь он торчит почти горизонтально.
Ещё у колокола нет языка.
Как нынче ведут себя нищие, мне неизвестно.
По парку ездил на жёлто-синем мотоцикле милиционер и проверял поведение посетителей.
Но посетителей уже не было.
Один я шёл к выходу, а через полчаса за неполную пачку сигарет грязный ассенизационный МАЗ увёз меня к тульской окраине. Солнце на самом горизонте пробивало кабину навылет, и шофёр, отворачиваясь от луча, рассказывал про систему отсоса всякого из частных выгребных ям. После этого он принялся рассказывать мне анекдоты. Помнил он их плохо и часто останавливался на полуслове.
Тогда анекдот сдувался как воздушный шарик.
Впрочем, потом мы заговорили о духоборах, с которыми шофёр откуда-то был знаком. Эти духоборы давным-давно уехали на Кавказ. Там, на границе между Грузией, Арменией и Турцией, они и жили целый век – и на всех рынках Тбилиси молочные ряды были духоборские. А потом детей от семи до семнадцати привезли в Ясную Поляну. Они многого пугались: в Ясной Поляне они впервые увидели, как растут яблоки. Почему-то у них там не было яблок, по крайней мере, так мне рассказывали. Радость этих людей вспыхивала ярко лишь при виде коней, поскольку заняты мальчики в прежней жизни были только джигитовкой. Из-за близкого родства дети были некрасивы, но если об этом не знать, то и не заметишь.
В Грузии стало жить тяжело, и вот КамАЗы заревели по грузинским дорогам, а в домах за Кавказским хребтом остались только старухи – умирать в пустых огромных домах. Умирать рядом с родными могилами, что куда лучше, чем доживать без них.
Уже в нынешние времена в Тульском университете мне дали подержаться за реликвию, потрогать пальцем подпись Толстого под собственной фотографией. Сделана она тушью, оттого выпукла и светло-коричнева. Видел я там и жёлтую книгу «Воскресения», что издана в Нью-Йорке, деньги от которой перешли к тем самым духоборам.
Несколько лет назад ходил в Туле к Николо-Зарецкому храму, называемому также Николой Богатым, где настоятелем был альпинист. Он во время ремонта штурмовал крышу вместе с друзьями. Всё там было из чугуна: полы, престол. Это был чугунный храм, и всё оттого, что построившие его Демидовы занимались литейным делом.
Внутри стояли коробки с оливковым маслом. Кому оно предназначалось, было неясно. Да, впрочем, всё тут было Богу. Эту церковь спасли, а я застал ещё пустые храмы, белые, высветленные ветром.
Церковная казначейша рассказывала про исцеления. Тут исцелился даже какой-то психиатр. Казначейша, её звали, кажется, Марина, стояла в притворе и говорила:
– Вот у нас есть такая прихожанка, такая она русская-народная, такая сдобная, что прямо с изюмом.
Развиднелось. Солнце сочилось сквозь высокие окна. Нас пустили молиться, и, шагая по холодному и гулкому чугуну, мы приблизились к иконам.
А в тот момент, когда я преклонил колена в храме, «боинг», первый из двух, делал вираж в нью-йоркском небе, выцеливая небоскрёб.
Не зная ещё об этом ничего, я, по завету Архитектора, старался вчувствоваться в тульскую архитектуру.
Архитектурные стили в Туле передёрнуты, как винтовочный затвор, смещены и смазаны, как тот же ружейный затвор. Десятью годами раньше открытия Америки появилось огнестрельное оружие на Руси. Непонятно, которая из этих двух реальностей больше занимает умы.
В Туле рядом стоят два музея – музеи огня и металла. Оружия и самоваров. В них много общего: пространство, ограниченное железом, и огонь.
Пулемёт «Максим» вообще очень похож на самовар. В обоих кипела вода вокруг нагревательной трубы, и именно про это хрипел комиссар: «Воду – женщинам и пулемётам».
В оружейном музее под стеклом лежал сувенирный АКС-74У – хромированный, блестящий и будто неживой. Красота оружия должна быть естественна, когда же его украшают, ничего путного не выйдет. Так и лежат, как поленья, ложи сувенирных ружей, подаренные императрицам. Дарёное вернулось назад, не сделав ни единого выстрела.
В тульском музее самоваров я разглядывал самовары-шары, самовары-банки, самовары-вазы, самовары-рюмки и самовары-яйца. Как часовые, стояли сбитенники и самовары-кофейники. Все они тоже напоминали диковинное, чудесное русское оружие – круглое и покатое.
А вот на ладони воспоминаний – тульский вокзал. Я вижу суетящихся людей, они бегают туда и сюда, как броуновские частицы в учебном фильме.
Ещё я вижу солдата-узбека. Он пьёт фальшивый гранатовый сок, который тогда продавали на всех вокзалах страны, а из-под локтя у него торчат коробки с тульскими пряниками.
Мне тоже хочется пряников, но взять их негде, и я просто слоняюсь по зданию вокзала.
Билетов нет, и ночь безнадёжно наваливается на город.
Я представляю себе вечернее чаепитие.
Передо мной на столе стоит самовар, на блестящих боках которого – гербы и медали. Самовар блестит, и я вижу в нём собственное искажённое лицо с вытянутым носом, со свёрнутой набок бородой. Лицо это кривляется и гримасничает, как и лица других чаепителей – старичка и моей спутницы.
Старичок говорит:
– Если уж живёшь с женщиной, так надобно жить с ней в браке, плодить детей, а иначе нечего с ней связываться, тратить её и свою жизнь.
– Как интересно, – отвечает ему спутница и поворачивается ко мне. – А ты что думаешь по этому поводу, дорогой?
Я злобно молчу и между делом откусываю от печатного пряника. Мне хочется домой, а когда меня туда повезут, непонятно.
На площади перед вокзалом стоит автобус. Его водитель обещает за десять рублей довезти до Москвы, если таких желающих наберётся хотя бы двадцать.
Двадцать набирается, и я несусь в тёмном и мрачном автобусе на север. Внутренность автобуса время от времени освещается светом встречных автомобилей, а за окном стоит собачье-волчья пора.
И отчего я слоняюсь по стране, не знаю того я.
Не знаю я, ничего не знаю, не знаю…
Внезапно я вижу сон, который приходил ко мне в детстве.
Я лежу на своей кровати и откуда-то понимаю, что должен быть один в доме. Однако, поворачивая голову, вижу в лунном свете бородатого старика, сидящего за столом.
Старик одет в армяк, перепоясанный верёвкой, а на столе лежат кипы бумаг. Он пишет что-то, но внезапно поднимает лицо и строго смотрит прямо мне в глаза. Весь он серебряный, с серебряной бородой и с серебряными морщинами на открытом лбу.
Сейчас, думаю я, он повернётся обратно к своим бумагам и напишет там про меня. Он напишет про меня роман, где я, эпизодический герой, буду затоптан лошадьми на Бородинском поле. Этот немедный всадник знает про меня, никчёмного беглеца по чужим улицам, всё.
Я в ужасе просыпаюсь. Возвращение на поверхность реальной жизни происходит на тёмном Варшавском шоссе. Нет, это не мой сон.
Это детский сон женщины, которая теперь подросла, научилась водить машину и едет с кем-то домой на своей машине. Она куда-то едет и в этот момент обгоняет автобус, выскакивая на встречную полосу. Дальний свет фар на мгновение слепит мне глаза.
Я подхожу к своему подъезду.
Ночная улица освещена странным оранжевым светом.
Около подъезда сбрасывает скорость длинный автомобиль. Чмокает дверца, я вижу профиль женщины, сидящей за рулём, и человека, неловко вылезающего на тротуар.
Да ведь это ж я!
Но сон мой был прерывист и краток. Известно, у кого бывает такой сон.
Навалилось наконец на меня холодное утро. Товарищи мои уже собрались и, насупленно переминаясь, ожидали меня у подъезда.
Поднявшись по Прешпекту, мы вышли к Каретному сараю и начали оглядываться, примеряясь, как мы будем бежать из Ясной Поляны.

Бегом, через сад
10 ноября
Ясная Поляна – Щёкино
Я бежал оттоль, с того места, сам себя не понимая, а помню только, что за мною всё будто кто-то гнался, ужасно какой большой и длинный, и бесстыжий, обнагощённый, а тело всё черное и голова малая, как луковочка, а сам весь обростенький, в волосах, и я догадался, что это если не Каин, то сам губитель-бес, и всё я от него убегал и звал к себе ангела-хранителя. Опомнился же я где-то на большой дороге, под ракиточкой. И такой это день был осенний, сухой, солнце светит, а холодно, и ветер, и пыль несёт, и жёлтый лист крутит; а я не знаю, какой час, и что это за место, и куда та дорога ведёт, и ничего у меня на душе нет, ни чувства, ни определения, что мне делать.
Николай Лесков. «Очарованный странник»
Бегство Льва Толстого. Энергия заблуждения – как Толстой меняет время и пространство
Толстой бежал из Ясной Поляны странным образом: он слонялся по дому, кашлял и скрипел половицами, будто ожидал, что его остановят. А потом с дороги слал домой телеграммы под прозрачными псевдонимами. Он ждал знамений, но знамений не последовало.
Всё было ужасно театрально, если забыть о том, что клюквенный сок обернулся кровью и путь увёл его куда дальше Астапова.
Итак, 9 ноября (28 октября по старому стилю) в три часа ночи Толстой просыпается.
Вот как он отмечает это событие в своем дневнике: «28 октября 1910 г. Лёг в половине 12 и спал до 3-го часа. Проснулся и опять, как в прежние ночи, услыхал отворачивание дверей и шаги. В прежние ночи я не смотрел на свою дверь, нынче взглянул и вижу в щелях яркий свет в кабинете и шуршание. Это Софья Андреевна что-то разыскивает, вероятно, читает… Опять шаги, осторожное отпирание двери, и она проходит. Не знаю отчего, это вызвало во мне неудержимое отвращение, возмущение. Хотел заснуть, не могу, поворочался около часа, зажёг свечу и сел. Отворяет дверь и входит Софья Андреевна, спрашивая “о здоровье” и удивляясь на свет, который она видит у меня. Отвращение и возмущение растёт, задыхаюсь, считаю пульс: 97. Не могу лежать и вдруг принимаю окончательное решение уехать. Пишу ей письмо, начинаю укладывать самое нужное, только бы уехать. Бужу Душана, потом Сашу, они помогают мне укладываться. Я дрожу при мысли, что она услышит, выйдет – сцена, истерика, и уж впредь без сцены не уехать. В 6-м часу всё кое-как уложено; я иду на конюшню велеть закладывать… Может быть, ошибаюсь, оправдывая себя, но кажется, что я спасал себя, не Льва Николаевича, а спасал то, что иногда и хоть чуть-чуть есть во мне»[39]39
Толстой Л. ПСС: в 90 т. Т. 58: Дневники и Записные книжки 1910. С. 123–124.
[Закрыть].
Сухотина-Толстая пишет, что последние слова можно сравнить с проектом завещания в дневниковой записи от 27 марта 1895 года: «У меня были времена, когда я чувствовал, что становлюсь проводником воли божьей… Это были счастливейшие минуты моей жизни»[40]40
Толстой Л. ПСС: в 90 т. Т. 53: Дневники и Записные книжки 1895–1899. С. 16.
[Закрыть].
Он бежал рано утром – в темноте, прячась у каретного сарая, чтобы затем в рассветных сумерках броситься к станции, да не к ближней Козловой Засеке, а к дальнему Щёкину. Вот он бежит через сад и теряет шапку, ему дают другую, потом как-то оказывается у него две шапки, как в известном анекдоте про памятник Ленину, который держит одну кепку в руке, а вторая красуется у него на голове.
Тут происходит самое интересное. Это был холодный ноябрь в предчувствии снега. Воспоминатели пишут, что было сыро и грязно. И на фотографиях похорон, уже после этой драмы отсроченной смерти, видны пятна снега, а не сплошной покров.
Бегство по снегу – зряшное дело, и это описал нам совершенно другой писатель. Его герои бормочут о снеге, и их не радует красота падающих в испанских горах хлопьев. В этом романе застрелившегося американского писателя всё живёт в ожидании снега. Все герои стоят там, задрав головы, и ждут испанский снег, потому что они знают, что на свежем снегу хорошо видны следы и не уйти от погони. «Один Бог знает, что будет сегодня с Глухим, если до него доберутся по следам на снегу. И надо же было, чтоб снег перестал именно тогда. Но он быстро растает, и это спасёт дело. Только не для Глухого. Боюсь, что Глухого уже не спасёшь». И всё потому, что следы партизан хорошо видны на белом – и оборачивается всё чёрным.
Однако прочь метафоры.
Продравшись через сад, Толстой оказывается в пространстве внешней свободы, но ведёт себя как зверь, подыскивая себе место для смерти. Будто партизан, он чувствует, что сзади дементоры с ружьями.
Толстой уезжает из Щёкина поездом в 7:55 – на грани рассвета, с учётом нашей часовой декретной разницы.
А вот что пишет Виктор Шкловский: «Владимир Короленко говорил, что Лев Николаевич вышел в мир с детской доверчивостью. Ни он, ни Душан Маковицкий не считали возможным солгать – например, они могли взять билет дальше той станции, до которой собирались ехать. Поэтому они оставляли после себя очень ясный след для погони. Один момент Лев Николаевич хотел поехать на Тулу, потому что поезд на Тулу шёл скоро, ему казалось, что он так может запутать погоню. Но из Тулы надо было бы обратно. Лев Николаевич, очевидно, собирался ехать к Марье Николаевне Толстой в Шамордино, значит было бы проехать опять через Козлову Засеку, где его знали. Поэтому решили ждать на вокзале»[41]41
Шкловский В. Лев Толстой // Собрание сочинений: в 3 т. Т. 2. М.: Художественная литература, 1974. С. 688.
[Закрыть].
Причём Маковицкий не знает, куда они едут, и не спрашивает сам. Они сидят в купе посередине вагона второго класса и варят кофе на спиртовке. На станции Горбачёво пересаживаются на поезд Сухиничи – Козельск, где, как оказалось, всего один пассажирский вагон. Там накурено, угрюмо, пахнет тем простым народом-богоносцем, который хорошо любить издали.
Маковицкий описывает вагон так: «Наш вагон был самый плохой и тесный, в каком мне впервые пришлось ехать по России. Вход несимметрично расположен к продольному ходу. Входящий во время трогания поезда рисковал расшибить лицо об угол приподнятой спинки, который как раз был против середины двери; его надо обходить. Отделения в вагоне узкие, между скамейками мало простора, багаж тоже не умещается. Духота; воздух пропитан табаком»[42]42
Маковицкий Д. Уход Льва Николаевича // Л. Н. Толстой в воспоминаниях современников: в 2 т. Т. 2. М.: Художественная литература, 1978. С. 426.
[Закрыть].
Шкловский замечает: «Вероятно, Толстой попал в вагон, которые тогда назывались “4-й класс”. В них скамейки были только с одной стороны. Внутри вагон окрашивали в мутно-серую краску. Когда верхние полки приподнимались, то они смыкались.
В вагоне было душно. Толстой разделся. Он был в длинной чёрной рубашке до колен, высоких сапогах. Потом надел меховое пальто, зимнюю шапку и пошёл на заднюю площадку: там стояли пять курильщиков. Пришлось идти на переднюю площадку. Там дуло, но было только трое – женщина с ребёнком и мужик»[43]43
Там же.
[Закрыть].
Толстой кутается, раскладывает свою знаменитую трость-стул, пристраивается на площадке, но потом возвращается в вагон. Там баба с детьми, надо уступить место. И он, чуть полежав на лавке, дальше сидел в уголке.
Было удивительно холодно.
Дрожа от утреннего нехорошего холода, осеннего и сырого, холода, особенно ощутимого после бессонной ночи, мы вышли к каретному сараю.
Сейчас начнётся главная часть нашего путешествия, и это было ощущение не радости, а тревоги.
Сейчас бежать той же дорогой сложно: на пути забор и охрана, но сад по-прежнему существует. И серое, хмурое утро, приплывшее из романа другого Толстого, радости не добавляло – делать нечего, нужно примерить на себя чужое путешествие. Мы спустились по Прешпекту вниз и вот уже через пять минут подпрыгивали на колдобинах в машине – Архитектор, Краевед, Директор Музея и я.
Щёкинский вокзал был безлюден. Толстой, похожий на Ленина, сидел на лавке и ждал поезда. Блики семафорной сигнализации плясали на его гипсовом лбу.
Вокруг было мёртво и пустынно. Дорога начиналась, но ехать было нужно вдоль железнодорожной лестницы. Сменились названия станций и исчезли прежние железные дороги – ехать так, как ехал Толстой, было невозможно. Я сидел сзади и думал о частной жизни Толстого, потому что все частные жизни похожи одна на другую и люди, в общем-то, не очень отличаются.
Жизнь Толстого только внешне кажется жизнью даоса.
Жизнь эта трудна той трудностью, что связана не с голодом и непосильной работой, а с тем адом, что, по меткому выражению одного вольнолюбивого француза, составляют другие.
Дочь Толстого Сухотина-Толстая написала об этой жизни так: «Мать просила мужа вернуться к сорок восьмой годовщине их свадьбы. Он согласился и вернулся в Ясную 22 сентября ночью. Последняя запись в его дневнике сделана накануне: “Еду в Ясную, и ужас берёт при мысли о том, что меня ожидает… А главное, молчать и помнить, что в ней душа – Бог”»[44]44
Толстой Л. ПСС: в 90 т. Т. 58: Дневник 1910 года. (22.09.1910). С. 137.
[Закрыть].
Этими словами заканчивается первая тетрадь дневника «Для одного себя» Льва Толстого.
Дочь пишет: «Увы, в Ясной Поляне отца ожидали всё те же тревоги, что и в предыдущие месяцы. Мать, продолжая поиски, наткнулась на маленькую книжку: это был секретный дневник. Она схватила и спрятала его. Отец подумал, что он его потерял, и начал другую книжку. На ней поставлена дата 24 сентября. “За завтраком начал разговор о Д.М. (то есть о статье “Детская мудрость”, которую писал отец), что Чертков-коллекционер, собрал. Куда он денет рукописи после моей смерти? Я немного горячо попросил оставить меня в покое. Казалось – ничего. Но после обеда начались упрёки, что я кричал на неё, что мне бы надо пожалеть её. Я молчал. Она ушла к себе, и теперь 11-й час, она не выходит, и мне тяжело…Иногда думается: уйти ото всех”[45]45
Сухотина-Толстая Т. О смерти моего отца и об отдаленных причинах его ухода // Воспоминания. М.: Художественная литература, 1980. С. 406.
[Закрыть].
Я вернулась в Ясную в октябре. Там творилось нечто ужасное! Сестра Александра после ссоры с матерью переехала в своё маленькое имение по соседству с Ясной. Чертков больше не показывался. Мать не переставая жаловалась на всех и на вся. Она говорила, что переутомилась, работая над новым изданием сочинений отца, которое она готовит, измучена постоянными намёками на уход, которым отец ей грозит. Она добавляла, что не знает, как держать себя по отношению к Черткову. Не принимать его больше? Муж будет скучать в его отсутствие и упрекать её за это. Принимать его? Это было выше её сил. Один взгляд на его портрет уже вызывал у неё нервный припадок. Именно тогда она и потребовала от отца, чтобы все дневники были изъяты от Черткова. Отец и на этот раз уступил. Но эта непрерывная борьба довела его до последней степени истощения.
3 октября у него сделался сердечный припадок, сопровождавшийся судорогами. Мать думала, что наступил конец. Она была уничтожена. У неё вдруг открылись глаза на происходившее. Она признала себя виновной, поняла, какая доля ответственности за болезнь мужа лежит на ней. Она то падала на колени в изножье его кровати и обнимала его ноги, которые сводили конвульсии, то убегала в соседнюю комнату, бросалась на пол, в страхе молилась, лихорадочно крестясь и шепча: “Господи, Господи, прости меня! Да, это я виновата! Господи! Только не теперь ещё, только не теперь!”
Отец выдержал припадок. Но только ещё больше сгорбился, а в его светлых глазах появилось ещё больше грусти.
Во время этой болезни сестра Александра вернулась домой и помирилась с матерью, а мать, призвав на помощь всё своё мужество, попросила Черткова возобновить посещения Ясной Поляны. На неё было жалко смотреть в тот вечер, когда после своего приглашения она ждала его первого визита. Она волновалась, было видно, что она страдает. Возбуждённая, с пылающими щеками, она наполняла дом суетой. Она поминутно смотрела на часы, подбегала к окну, затем бежала к отцу, который находился в своем кабинете. Когда Чертков приехал, она не знала, что ей делать, не находила себе места, металась от одной двери к другой, ведущей в кабинет мужа. Под конец она бросилась ко мне на шею и разразилась горькими рыданиями. Я старалась её успокоить и утешить. Но её больное сердце не могло уже найти покоя.
Дальше всё шло хуже и хуже. 25 октября, за три дня до своего ухода, отец пишет: “Всё то же тяжёлое чувство. Подозрения, подсматривание и грешное желание, чтобы она подала повод уехать. Так я плох. А подумаю уехать и об её положении, и жаль, и тоже не могу”…
В тот же день он пишет: “Всю ночь видел мою тяжёлую борьбу с ней. Проснусь, засну и опять то же”.
Ещё два дня, и вот в ночь с 27 на 28 октября ему был нанесён удар, которого он ждал, и он покинул навсегда Ясную Поляну»[46]46
Сухотина-Толстая Т. Там же. С. 407.
[Закрыть].
В общем, это всё какое-то безумие.
Липкое, клейкое безумие, что требует от человека перемены участи – той, что заставляла острожных сидельцев совершить новое преступление, чтобы только поменять место.
А сто лет спустя этих событий мы решили двинуться через сумрачную Крапивну, чтобы попасть к Белёву.
Первый раз Толстой выходил и пил чай на станции Белёво. Поезда тогда двигались, несмотря на прогресс, медленно, и можно было выбегать в буфет даже не на главных остановках.
Газеты тут же написали: «В Белёве Лев Николаевич выходил в буфет и съел яичницу» – это была новость безо всякого ещё трагического подтекста. Вот вегетарианец отправился в путь и тут же оскоромился жареным живым существом.
За Толстым везде подсматривали, и я думаю, он сильно переживал (пока ещё высокая температура не помутила его восприятие) именно то, что мир сузился и всё стало видно, каждое движение не было тайной более одного дня, как и предсказывал о мире будущего Бентам.
Впрочем, тогда же Толстой, кажется, и простудился. Маковицкий записал: «Поезд очень медленно шёл – 105 верст за 6 ч. 25 мин. (Эта медленная езда по российским железным дорогам помогала убивать Л.Н.)».
Но пока он жив и даже спорит в пути со случайными попутчиками.
Он спорил тогда, а сейчас спорят о нём – и он до сих пор не понят вполне.
Причём со временем ты начинаешь гораздо лучше понимать даже те мысли, к которым, казалось, можно было относиться только пренебрежительно или снисходительно.
Даже вековое чудовищное преподавание толстовского романа в школе оказывается очень интересным, оттого что советская власть уже кончилась, а отовсюду продолжают лезть рисовые котлетки и зеркало русской революции. И оказывается, что Толстой действительно зеркало русской революции.
И более того, очень важно, что Толстой прожил долгую, биографически долгую жизнь.
С известной фразой о жизни писателя происходит чудесная путаница: «Я уж не помню кто – то ли Шкловский, то ли Чуковский– сказал, что писатель в России должен жить долго». «Говорят, что писатель в России должен жить долго, как Лев Толстой, чтобы дождаться прижизненного признания». Или вот группа «Людены» комментирует братьев Стругацких: «…настоящий писатель должен жить долго! – ср.: “В России надо жить долго”. Фраза приписывается К. Чуковскому». А вот Копелев и Раиса в повествовании «Мы жили в Москве» замечают: «Писатель в России должен жить долго! Эти слова мы не раз слышали от Корнея Ивановича. Он повторял их, говоря о новых публикациях Ахматовой, Булгакова, Мандельштама, Зощенко, вспоминая о своих тяжбах с редакторами. Впервые он сказал это, кажется, в 1956 году, когда начали воскресать из забвения и люди, и книги». Некоторые люди честно пишут: «Кто-то сказал, что писатель должен жить долго». А некоторые утвердительно сообщают: «Правильно говорил писатель В. Каверин – “В России надо жить долго”». Хотя можно и так: «В России надо жить долго, заметил однажды писатель и литературовед Виктор Шкловский». Или вот чудесное: «Один известный писатель задумчиво сказал: “В России надо жить долго!” А зачем? А как?» – это, конечно, и вовсе гениальный ход. Так и кажется, что толпа известных писателей начала говорить хором (будто статисты-солдаты за сценой, что бормотали: «О чём говорить, когда нечего говорить»), повторяя «Писатель в России должен жить долго», будто заклятие, будто вера в то, что не застрелят, что сам нужен кому-то будешь спустя много лет слюнявым бессмысленным старикашкой.
Ну и ладно, Толстой как раз такой человек, который жил очень долго, вырастая из тех мнений, что надевало на него сословие, как из детской одежды, затем вырастая из тех мундиров, что сшил для себя сам, – и так повторялось много раз. Человек, родившийся за год до того, как толпа с сапожными ножами приближалась к русскому посольству в Тегеране и потом тащила по улицам то, что осталось от Вазир-Мухтара, дожил до фонографа, фотографии, телефонов, аэропланов, бронепоездов, миномётов и пулемётного огня. Да– же до первой волны сексуальной революции.
Это самый известный за границей русский писатель. Дело не в существующем внутри читательских голов соперничестве с Достоевским за звание лучшего писателя-учителя, а в том, что писатель в России должен жить долго. Толстой оказался единственным русским писателем, исполнившим этот завет, – и оказался символом русской литературы.
А «Война и мир», как ни крути, стал самым известным русским романом, даже больше – самим символом русского романа. Особенность Толстого заключалась ещё и в том, что он придумал несколько совершенно самодостаточных миров. Оттого история войны 1812 года воспринимается именно как история, рассказанная в романе «Война и мир». И художественный образ, расширяясь, увеличиваясь в объёмах, как сказочный великан, подмял под себя жалкие вопли историков.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































