Текст книги "Дорога на Астапово"
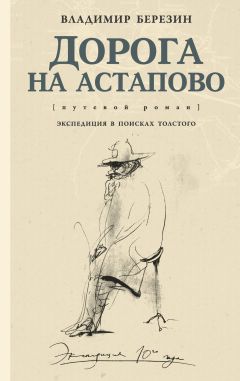
Автор книги: Владимир Березин
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 7 (всего у книги 20 страниц) [доступный отрывок для чтения: 7 страниц]
Надо оговориться, что Толстой по-разному употребляет слово «вы» – то это всё общество в целом, то «да подумайте все вы, от высших до низших участников убийств».
Есть важное обстоятельство – сто лет спустя никакого исторического оптимизма уже нет и в помине, наоборот, самые либеральные люди из самых различных стран, напуганные катаклизмами XX века, совершенно открыто призывают уничтожить кого-нибудь не только ради справедливого наказания, но и впрок, как бы чего не вышло.
Именно это обстоятельство не оставляет меня: общественный выбор «кто не с нами, тот против нас». Общество, особенно испорченное лёгкостью сетевой коммуникации, радостно травит любого, и это вовсе не связано с политическим окрасом.
Знаменитая история с Достоевским, стоящим у витрины магазина Дациаро, история, зеркальная смыслу статьи Толстого, имеет удивительное окончание. (История эта весьма тёмная, хотя и затасканная: мы знаем об этом событии со слов Суворина, и совершенно непонятно, как рассказал бы об этом сам Достоевский, если бы захотел.) Так вот, Алексей Сергеевич Суворин в своём «Дневнике», опубликованном только в 1923 году (Суворин умер в 1912-м), записал историю, случившуюся 20 февраля 1880 года, в день покушения И. О. Млодецкого на М. Т. Лорис-Меликова. (Сам Достоевский потом будет присутствовать при казни Млодецкого, и это произведёт на него чрезвычайно тягостное впечатление.) Достоевский не жаловал Суворина и сблизился с ним только в последние годы жизни, и вот в этот день они стали говорить о случившемся недавно взрыве в Зимнем дворце (устроенном знаменитым Халтуриным).
Суворин пишет: «В день покушения Млодецкого на Лорис-Меликова я сидел у Ф. М. Достоевского. Он занимал бедную квартирку. Я застал его за круглым столиком его гостиной набивающим папиросы. Лицо его походило на лицо человека, только что вышедшего из бани, с полка, где он парился. Оно как будто носило на себе печать пота. Я, вероятно, не мог скрыть своего удивления, потому что он, взглянув на меня и поздоровавшись, сказал:
– А у меня только что прошёл припадок. Я рад, очень рад.
И он продолжал набивать папиросы. О покушении ни он, ни я ещё не знали. Но разговор скоро перешёл на политические преступления вообще и на взрыв в Зимнем дворце в особенности. Обсуждая это событие, Достоевский остановился на странном отношении общества к преступлениям этим. Общество как будто сочувствовало им или, ближе к истине, не знало хорошенько, как к ним относиться.
– Представьте себе, – говорил он, – что мы с вами стоим у окон магазина Дациаро и смотрим картины. Около нас стоит человек, который притворяется, что смотрит. Он чего-то ждёт и всё оглядывается. Вдруг поспешно подходит к нему другой человек и говорит: “Сейчас Зимний дворец будет взорван. Я завёл машину”. Мы это слышим. Представьте себе, что мы это слышим, что люди эти так возбуждены, что не соразмеряют обстоятельств и своего голоса. Как бы мы с вами поступили? Пошли бы мы в Зимний дворец предупредить о взрыве или обратились ли к полиции, к городовому, чтобы он арестовал этих людей? Вы пошли бы?
– Нет, не пошёл бы…
– И я бы не пошёл. Почему? Ведь это ужас. Это – преступление. Мы, может быть, могли бы предупредить. Я вот об этом думал до вашего прихода, набивая папиросы. Я перебрал все причины, которые заставили бы меня это сделать, – причины основательные, солидные, и затем обдумал причины, которые мне не позволяли бы это сделать. Эти причины – прямо ничтожные. Просто – боязнь прослыть доносчиком. Я представлял себе, как я приду, как на меня посмотрят, как меня станут расспрашивать, делать очные ставки, пожалуй, предложат награду, а то заподозрят в сообщничестве. Напечатают: Достоевский указал на преступников. Разве это моё дело? Это дело полиции. Она на это назначена, она за это деньги получает. Мне бы либералы не простили. Они измучили бы меня, довели бы до отчаяния. Разве это нормально? У нас всё ненормально, оттого всё это происходит, и никто не знает, как ему поступить не только в самых трудных обстоятельствах, но и в самых простых. Я бы написал об этом. Я бы мог сказать много хорошего и скверного и для общества, и для правительства, а это нельзя. У нас о самом важном нельзя говорить.
Он долго говорил на эту тему, и говорил одушевлённо. Тут же он сказал, что пишет роман, где героем будет Алёша Карамазов. Он хотел его провести через монастырь и сделать революционером. Он совершил бы политическое преступление. Его бы казнили. Он искал бы правду и в этих поисках, естественно, стал бы революционером…»[61]61
Достоевский в воспоминаниях современников: в 2 т. Т. 2. М.: Художественная литература, 1990. С. 390–391. См. также: Наседкин Н. Достоевский. Энциклопедия. М.: Алгоритм, 2003. С. 736–737.
[Закрыть]
Луначарский, приводя эту цитату, сразу же оговаривается: «Эта цитата не нуждается в комментариях и ярко подтверждает наши положения о внутреннем и тайном отношении Достоевского к революции – отношении, которое он часто сам в себе ненавидел и старался искоренить»[62]62
Луначарский А. Достоевский как мыслитель и художник // Собрание сочинений: Русская литература. Статьи, доклады, речи. 1903–1933. М.: Художественная литература, 1963. С. 188.
[Закрыть]. При этом Луначарский, несколько восторженный и суетливый, как всегда, перепутал год (он пишет 1887-й вместо 1880-го).
Но это только показывает, что всяк это место из Суворина толкует себе на пользу.
А ведь слова «Я бы мог сказать много хорошего и скверного и для общества, и для правительства, а это нельзя» – очень непростые.
Потому как неизвестно, что делать, куда податься, как улучшить мир – соединиться ли с властью? Соединиться ли с её ниспровергателями? Потому что власть всегда нехороша, такова она во все времена. Виктор Шкловский писал, что власть всегда говорит со своим народом на нечеловеческом языке. Это свойство власти, так ей назначено общественным сознанием. Что не расстраивает власть, принявшую на себя эти знаки нечеловеческого, то расстраивает улучшателя жизни, противника власти и оппозиционера.
У знаменитого цензора Никитенко в дневнике за 16 сентября 1858 года есть такая запись: «Нынешние крайние либералы со своим повальным отрицанием и деспотизмом просто страшны. Они, в сущности, те же деспоты. Только навыворот: в них тот же эгоизм и та же нетерпимость, как и в ультраконсерваторах. На самом деле, какой свободы являются они поборниками? Поверьте им на слово и возымейте в вашу очередь желание быть свободными. Начните со свободы самой великой, самой законной, самой вожделенной для человека, без которой всякая другая не имеет смысла, – со свободы мнений. Посмотрите, какой ужас из этого произойдёт, как они на вас накинутся за малейшее разногласие, какой анафеме предадут, доказывая, что вся свобода – в безусловном и слепом повиновении им и их доктрине. Благодарю за такую свободу!
Я могу ещё стерпеть, если квартальный станет следить за мной на улице, надоедать мне напоминанием, что тут нельзя ступить или надо ступить так, а не так, но решительно не могу допустить, чтобы кто-либо вторгался в мою внутреннюю жизнь и распоряжался там по-своему. Насильно навязываемое благо не есть благо. Самая ужасная и несносная тирания та, которая посягает на нашу сокровенную мысль, на святыню ваших верований. По либеральному кодексу нынешних крайних либералов, надо быть с ними заодно до того, что у вас, наконец, не останется своего – ни мысли, ни чувства за душой»[63]63
Никитенко А. 16 сентября 1858 // Дневник: в 2 т. Т. 1. СПб., 1904. С. 526.
[Закрыть].
Итак, легко смириться с упырской сущностью власти (мы всегда бессознательно дистанцируемся от неё и, даже став её частью, думаем, что мы – не она), но куда сложнее принять какие-то ужасные вещи, что произносятся людьми оппозиционными, или перерождение последних. Это перерождение случается меж тем стремительно, и вчерашние диссиденты то и дело призывали кого-то посадить.
Было такое знаменитое обращение советских интеллигентов с призывами запретить и наказать коммунистическую партию и расквитаться с советской властью по Нюрнбергскому образцу. Оно, конечно, каждый имеет право высказать своё мнение коллективно, даже если есть боязнь прослыть доносчиком, даже если это не твоё дело, а дело полиции… Да только выходит, что стоит либеральному человеку получить возможность, как начинает он тиранить не хуже охранителя-консерватора. Вот в чём беда. И если от власти ты этого ожидаешь, то от революционера-демократа ждёшь не очень.
К кому прибиться, в каком человеческом стаде согреться боками, как овце среди прочих овец, ответа нет.
Нельзя молчать, но как говорить – непонятно. Рвётся крик из горла, несправедлива жизнь, нет понятного места в мире. Не кончаются эти нечеловеческие дела, не уничтожается ничья связь с этими делами, и в тюрьме от этого не спасёшься.
Свет становился всё ярче, и утреннее тепло убивало туман.
Он прятался в овраги на нашем пути, сползал с дороги как живой и копошился в долине речки Плавы, Упа же плыла у нас по правую руку.
И вот явилась нам церковь в Жемчужникове – круглая и пустая.
Дом Волконских здесь был зачищен временем безжалостно и начисто.
А в церкви много лет была столовая, и предметы общественной еды ещё лежали в высокой траве.
Серебряная трава лезла сквозь алюминиевые столовые приборы. Вилки тоже будто росли из земли, топорща гнутые зубья. Было уже совсем светло, и на ржавой нержавеющей стали краснело загадочное слово «мармит», что так тревожило меня всё моё советское детство. «Мармит, – повторял я, – мармит-мармит-мармит». Это было похоже на фамилию.
Что-то ещё белело в высокой траве, но, кажется, это было расколотое надгробие, совершенно не пищевое.
Удивительно, что происходит с могилами в моём отечестве. Всякий русский человек заметно напрягается, когда в чужой стране обнаруживает, что родители хозяина похоронены под порогом или вблизи крыльца. Однако наши могильные истории вполне причудливы.
Меня всегда удивляло, как в краеведческих музеях выставляют надгробия. Место могилы утеряно, а каменный брусок с полустёршимися буквами сначала снесли к стене монастыря, чтобы не мешал, а потом свезли в музей. Где-то эти камни лежат рядком у музейного входа: с одной стороны несколько стрелецких пушек, а с другой – так же аккуратно – надгробия.
– Вот в Белёв доедем, – поддержал мои мысли Директор, – так погляди в музее, там надгробная плита деда Пришвина должна лежать. У них кладбище оказалось на территории квашпункта, и его зачистили. А деду Пришвина вышло послабление.
– Ничего себе послабление, – не согласился я. – Ишь ты, оказалось на территории. Это квасильня оказалась на кладбище, а не наоборот. Да и то – лежишь себе, а у тебя спёрли памятник с могилы и куда-то унесли.
– Ну, по-разному можно понимать, – философски сказал Архитектор. – Я вот язычник: лежишь себе, ничего не давит. Ходят рядом живые люди, квасят капусту, в ней пузыри, брожение, жизнь. А значит, ничего не кончилось и всё продолжается. Слово-то какое шипучее – «квашпункт».
Слово было действительно странное, не хуже слова «мармит», впрочем.
И ещё я подумал о том, что, когда умирает в военной суматохе во время французского наступления старый князь Болконский, челядь обмывает его ссохшееся тело, а потом обряжает в старинный мундир с орденами. А княжна представляет, как чужие солдаты разорят свежую могилу отца, чтобы снять с него кресты и звёзды. Однако французы не разоряют этой могилы, и старый князь лежит многие годы, пока не слышит удары лопаты. Это пришёл несчастливый год, и председатель комбеда со своими помощниками явился реквизировать его кресты.
Или это просто два голодных мужика пришли ночью на графские развалины, чтобы поживиться за счёт старого барина. И вот они долго шарят в поисках крестов и звёзд, провалившихся через ребра. Причём какая-нибудь екатерининская медаль, след давнего разжалования в солдаты, медаль, которой награждали всех и вся, вовсе завалилась за лопатку и осталась лежать вместе с прежним владельцем.
Растет крапива на графских развалинах, и всё это правильно, это неумолимо, как поступь времени, как голоса гайдаровских тимуровцев, что пришли посмотреть, не осталось ли в брошенной столовой цветного металла для нужд мирового промышленного производства.
Директор тут же заговорил об археологии Волконских.
– Да что там Волконские, – вещал он. – Нет и внятной археологии Ясной, и знаем мы её тоже лишь с конца семнадцатого века. В отличие от большинства русских усадеб, она лишена медиевистской подосновы.
(Я знал значение слова «медиевистика» и был оттого горд.)
Директор продолжал:
– Занявшись, примечательно, что безрезультатно и безуспешно, «Романом эпохи Петра», где Поляна, как и в прежних романах, была призвана стать модулем, Толстой с трудом докопался до конца бунташного столетия, не ведая ни черни черниговских княжеств, ни резни эрзи рязанских, не чуя даже близости Волконы в устье соименной речушки, где «родина Волконских, а значит, и Толстых».
Я в очередной раз подивился его мудрости.
Через час пути мы осознали себя на высоком холме в виду прекрасной долины.
Перед нами лежал город Одоев.
В старые времена в городе стояла пивоварня и солодовенный завод.
Более ничего не коптило воздух города Одоева, лишь плыли по Упе из Калуги маленькие баржи с пилёным лесом, а обратно везли пеньку. Ох, пенька – как я любил это слово: пенька-пенка-енька.
Никакой пеньки я в своей жизни не видал, путал с пенковыми трубками из морских романов, но само слово меня завораживало. Пе́ньку, пеньку́ должны везти куда-то, за лес и сало, к англичанам, в обмен на красоту ногтей.
И вот уже и возы с пенькой, и баржи с пенькой отсюда двигались по всему миру. А тут они плыли по полноводной Упе, где плескалась стерлядь, таращились судаки, бултыхались лещи и подлещики, ходили кругами голавли, не считая мелкой сволочи, коей считали щуку и плотву.
И на горизонте стояло, запутавшееся в одоевской географии, войско князя Ягайло, не поспевшее к Куликовской битве.
Я сам стоял на холме перед Одоевом, будто Наполеон, воображая обилие прошлых времён и молочные реки с кисельными берегами.
Спутники мои опять обсуждали что-то своё – я слышал слова «узорочье» и «маятник Дона».
Дон в нашем путешествии был особым экспедиционным наблюдением. Пересечение этой реки особенно важным казалось Архитектору: кто бы и как бы ни достигал этой великой реки, кто бы ни двигался вдоль или поперёк, каждый раз для него это было знаком… нет, знамением.
Мы понемногу просыпались к путевой жизни, приноравливались к дороге. Мимоходом я обнаружил продолжение сумеречной крапивенской темы – Одоевский районный суд находился на улице Толстого. Однако не он, слава богу, заинтересовал меня.
Филимоновская игрушка стадами паслась в местном музее. Коровы и лошади, козы и медведи, отчего-то черепахи жили на столах и подоконниках. Бабы в красных платьях и мужики с топорами пестрели повсюду и увеличивали население города вдвое.
Свистнуло время в глиняный свисток, да и всё провалилось куда-то.
Не поймёшь, что нужно сохранять.
Рядом, чуть дальше по дороге, был поворот к селу Николо-Жупань. В этой Жупани стояла заброшенная усадьба, прошедшая весь скорбный путь русских усадеб: от Дома отдыха к детскому дому, а потом и вовсе к разорению. Встреченный селянин, впрочем, говорил, что скоро дом отдадут наследнице генерала Мирковича, какой-то героической женщине. Я мысленно помолился за успех отчаянного мероприятия и остался наедине с думой о том, что ничего нельзя вернуть. Как и в начале нашего путешествия, я шуршал листвой вокруг заброшенного дома на берегу реки и не верил в благополучный исход для своего отечества.
Дом отдыха здешний был не просто домом отдыха. Это был Дом творчества писателей, которых там перебывало немало. Некоторые писатели даже переругались, и Пастернаку, к примеру, пеняли за то, что он «и 5 членов его семьи провели 222 дня в Доме отдыха в Одоеве»[64]64
Антипина В. Повседневная жизнь советских писателей. 1930–1950-е гг. М.: Молодая гвардия, 2005. С. 123.
[Закрыть], меж тем как многие члены Союза стоят в очереди и никуда не едут. Пастернак жил тут накануне и во время Съезда писателей, жизнь была сложна, судьба преломлялась, и это видно по старым групповым снимкам. Там, на старой бумаге, в помарках и чертах серебряной эмульсии возникают между фигурами вихри и разряды.
И об этом времени понятно мало, меньше, пожалуй, чем понимал тот ревизор Литфонда, что старательно выводил красивое число 222 в тексте своей ревизской сказки.
Но кроме Пастернака жили там вполне потускневшие Серафимович и Тренёв. Павленко, наверняка там бывал Павленко… Пока мы бродили вокруг заколоченной усадьбы и примеривались, как бы нам спуститься по крутому берегу к Упе, Архитектор спросил меня, как я борюсь с расплодившимися в доме книгами.
Это действительно был хороший вопрос: что имеет смысл сохранять, а что вынести в подъезд, к почтовым ящикам. А потом перетащить на улицу, к ящикам мусорным.
И вот оказывается, что хорошие (многие хорошие) книги сохранять не надо: они есть в сети, и проще скачать, перечитать нужный или приятный фрагмент и закрыть файл. А нужны те книги, что очевидно в сети не будут. Странные политические раритеты, книги с пометками. Или неочевидный графоман (очевидного графомана всё равно выложат). А вот кто выложит Павленко, кто будет час за часом сканировать и проверять ошибки сканирования какого-нибудь романа Павленко?
Никто не будет.
Или советские поэты, что никогда не будут оцифрованы, потому что они умерли и умерли их родственники, а их писательские организации, состоящие из бодрых и крепких стариков, вдруг снялись с насиженных мест и растворились в утреннем тумане, как жители загадочных городов, покинутых американскими индейцами.
Все вымерли, и всё поросло травой и мочалой. Но вдруг те самые поэты написали воспоминания о путешествии в Дом творчества, об электрических разрядах, что трещали между людьми, и добавили к ним наблюдений за путешествием в Крапивну или Одоев.
И ты, отправляясь в Одоев и Крапивну, обнаруживаешь, что эти стихи и пара случайных заметок о Крапивне и Одоеве, да не важно, хоть о Тотьме и Солигаличе, приходятся удивительно ко двору, и чужой город играет новыми красками, и что-то щёлкает в мироздании, будто до конца собирается пазл.
Нет, всё-таки литературу двадцатых – тридцатых отличала какая-то удивительная лёгкость метафор и сравнений: что-то там сошлось, революция и свобода, выпущенный на волю язык, предчувствие конца этой вольницы, сшибка артистократии с аристократией и обеих с народом – непонятно. Время, меняя значения, делало речь более поэтической.
Вот наугад: «Нетопленый осклизлый камин имел вид развратника поутру»[65]65
Тынянов Ю. Смерть Вазир-Мухтара // Собрание сочинений: в 3 т. Т. 2. М.: Терра, 1994. С. 33.
[Закрыть]. Или: «Часы перекликались из комнаты в комнату, как петухи, через деревянные стены»[66]66
Там же. С. 14.
[Закрыть].
Но это сочинил настоящий писатель, а в ту пору беллетризировал всякий. «Дивизия имеет вид белья куртизанки после бурно проведённой ночи», – значилось в каком-то приказе Котовского. Однако фраза о несвежем белье вполне в стилистике офицеров всех времен. Не удивлюсь, что в приказ её вписал какой-то военспец. Да и в нынешние времена такое обыкновенно – беда в том, что красоты в этой фразе нет.
Мне кажется, дело именно в том, что писатели тех лет жили в новом мире. Жёсткая конструкция сломалась. Перед писателями стояли столы с грудами разных смыслов и приёмов из разных эпох и впервые – сразу изо всех сословий. Единый читатель не сформировался, да и единый редактор – тоже. Говорить можно было сразу со всеми.
И вот тебе хочется сохранить следы этого языка, зная, что в иной, электронной реальности им места нет. Ты хранишь все эти пылящиеся – не только сверху, но и сбоку – книги.
Но иногда ничего не происходит, и ты в Тотьму или Крапивну не едешь. А когда тебя выносят из дома, через месяц родственники складывают на первом этаже, у почтовых ящиков, стопку поэтов из Тулы и Одоева.
Тут мокрые листья с чавканьем разъехались у нас под ногами, и мы, балансируя растопыренными пятернями, поехали к реке на каблуках.
Наконец мы вступили в Белёв, будто бодрые, но потрёпанные солдаты неизвестной армии…
Герб Белёва был создан Франциском Санти в начале XVIII века. В бумагах, ему присланных, единственно интересно рассказывалось о страшном большом пожаре в этом городе, каковой пожар истребил «посацких людей многие дворы», да и «замок рубленый весь сгорел».
На самом деле Белёв был знатным городом, ровесником Москвы, упоминался в летописях с 1147 года. Сначала Белёв был под Литвой, а в 1494 году присоединён к Москве и входил в засечную черту. После долгих блужданий между скользкими боками губерний он оказался уездным в Тульской, причём вторым в губернии после самой Тулы.
Директор Музея первым делом стал тыкать пальцем в то место, где стоял татарский ледяной замок, снежная крепость, комендант которой изрядно навалял нашим предкам.
Я слушал его внимательно, но потом отвлёкся и стал разглядывать жестяные поржавевшие плакаты на улице. На них были перечислены достижения горожан.
«Столица яблочной пастилы» – такие сведения почему-то особенно поражают. Или, скажем, то, что здесь «развито плетение кружев на коклюшках».
Но первой строкой в списке нужных человечеству вещей, что производятся в Белёве, значились огнетушители порошковые. Очевидно, что это было волшебное предвидение Санти, сила городского герба. Уж потом, после огнетушителей, шли цилиндры тормозные, плодоовощные консервы да соки того же извода и снова коклюшки с пастилой.
Плыл поблизости старинным кораблём, обветшавшим летучим голландцем, мужской монастырь Святого Макария Жабынского, белёвского чудотворца.
Краевед тут же сказал, что город назван по реке Белёве, что впадает в Оку, и говорят, что это от мутного течения белей – воды вместе со светло-серыми супесями подзолистых почв.
И то верно, плыло всё.
Красный кирпич монастырей, изъеденных временем, с выкусанным и утерянным мясом стен, плыл над этой мутной водой. Неспешно плыла в реку грязь недавних дождей. Внутри монастыри были наполнены человечьим жильем да грядками. Курились трубы, спали блохастые собаки, а все люди ушли-уплыли производить порошковые огнетушители, плодоовощные соки или отправились вязать на коклюшках.
Без них плыли сквозь скелеты куполов белёсые облака.
Мы пошли в столовую на рыночной площади.
Настоящий путешественник сливается с дорогой медленно: он прикасается к ней через тысячу мелочей и важных событий, но часто упускает главное. Главное – это дорожный корм. Путевая еда изменяет путешественника, она замещает в нём домашнюю плоть. И чем дальше ты удаляешься от дома, тем больше это превращение. Вот ты уже научился резать барана, а вот ты хлебаешь ложкой из оловянной миски, и гортанно кричат твои попутчики, споря о чём-то. Ты делаешь ещё несколько глотков и вытираешь руки о халат. Да, вот ты уже и в халате, и в этот момент чужая речь становится для тебя родной.
Вот что такое дорожная еда: каменеющий хлеб и банка тушёнки-американки в вещмешке, мытый пластиковый стаканчик и неизвестное существо, погибшее смертью Жанны д’Арк, – всё превращает тебя из сидельца в человека дороги, если не сгинешь от несварения желудка.
И мы притормозили у белёной белёвской белой известковой стены и шагнули внутрь.
В этот момент странные вещи начали твориться со временем. В дороге время течёт особенно, оно прыгает и скачет, его взбалтывает на ухабах. Никто не знает, что случится с близнецами, и никакая относительность ничего не объяснит.
Толстой, как пишет про это Шкловский, вспоминал, что встречался с Герценом каждый день целых полтора месяца. Но Толстой был в Лондоне шестнадцать дней, а через полвека, в воспоминаниях, срок утроился – время путешествия растянулось[67]67
Шкловский В. Лев Толстой // Собрание сочинений: в 3 т. Т. 2. М.: Художественная литература, 1974. С. 240.
[Закрыть].
Дорога произвольно меняет все четыре вектора координат, и время – в первую голову.
Итак, мы ступили в сырой мир столовой. На иконном месте висел плакат:
Хлеба к обеду
В меру бери.
Хлеб – драгоценность.
Им – не сори.
Архитектор уткнулся безумными глазами в стойку – и было чему удивляться. Там на тарелочке лежала живая еда мёртвой советской власти. Там стояли совнархозовские весы с тонкой талией, там пахло чем-то прелым и скучала старуха в белом халате.
Мы взяли крохотные чеки, похожие на троллейбусные билеты нашего детства, и пошли к раздаточному окошку.
Тарелки с битым краем и реликтовой надписью «общепит» держали капустный суп в себе, будто в натруженных ладонях прежнего времени. Погибшая армия серых макарон лежала в соусной жиже. Водку нам продали, посмотрев на часы, – мы проследили взгляд кассирши, и всё стало ясно.
Внутри столовой стоял вечный ноябрь восемьдесят второго, Ленин на металлическом рубле давал отмашку на одиннадцать часов – время прыгнуло и остановилось.
Всё пошло вспять.
Хрипел громкоговоритель рабочим полднем, превратившимся для нас, бездельников, в завтрак.
Кажется, наш «фольксваген», стоявший у крыльца, медленно трансформировался в зелёную буханку УАЗа (водитель побледнел).
Теперь жидкое время лилось в стеклянные мухинские многогранники. О, об их происхождении я ещё только собираюсь рассказать!
Водка звалась «Гаубица» – от неё у Архитектора тут же выскочили глазные яблоки, точь-в-точь как у диснеевского персонажа. Впрочем, какие диснеевские персонажи в восемьдесят втором году.
В одной повести у Виктора Некрасова есть эпизод, когда он, уже старый и заслуженный писатель, приплыв на теплоходе в Волгоград, идёт в лёгком подпитии по улице. Видит сдвинутую крышку люка и через эту дыру зачем-то спускается в какой-то канализационный люк.
Вот он проходит по коридору… и внезапно попадает в сорок второй год, в тот же самый подвал.
– Ну что, капитан, мины-то поставил? – спрашивают его.
Там сидят его друзья – некоторые уже убитые, те, кто выживут, и те, кого убьют после. Они наливают трофейного, сажают за стол. И у него начинается жизнь наново, жизнь, из которой не выбраться обратно через люк, а надо лезть наверх по лестнице и проверять боевое охранение.
Но нам-то, суетливым путешественникам, судьба надавала плюх, встряхнула за шиворот и выпихнула вон.
Сработали белёвские тормозные цилиндры гранёного стекла, и время остановило свой бег. Началось перемещение в пространстве.
Мир прошлого, где вдалеке нарастал бой пионерского барабана, выпустил нас, и мы упали в свою немецкую железку, будто в утлый чёлн.
Мотор фыркнул, и русская дорога начала бить нас по задницам.

Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































