Текст книги "Первая русская царица"
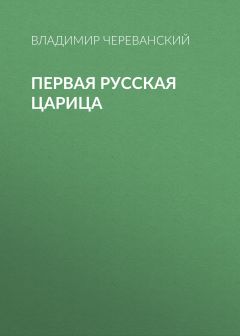
Автор книги: Владимир Череванский
Жанр: Русская классика, Классика
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 7 (всего у книги 12 страниц)
– Видели? Адашев, вели гнать их в пыточную избу.
Стражники соединили в одну линию алебарды и быстро вытеснили незадачливых смутьянов, кое-кому из них пришлось испытать силу кулаков охраны. Напрасно они лепетали, что они «пришли только проведать, жив ли государь. Видим, жив, и пусть Господь пошлет много лет царствовать…»
Алебардщики гнали толпу немилостиво. Алебарды их были отточены, и кого ими укололи или рубанули, у того на всю жизнь оставалась памятка.
Спустя несколько дней царь был уже на коне и показался москвичам с паперти Благовещения. Здесь в храме иерей Сильвестр служил благодарственный молебен по поводу выздоровления царя. В первых рядах молящихся выстроились все Шуйские и Годуновы. Искреннее других молились посадские купцы, прославившиеся впоследствии под фамилией Строгановых, мелюзга золотошвейной палаты, двор князя Сицкого, рынды и охотничья команда. Вечером того же дня был призван во дворец Малюта, который получил личные указания Иоанна Васильевича, кого допросить на дыбе, а кого и на жаровне, но непременно допытаться: сколь виновны в недавних волнениях Шуйские и Годуновы?
Глава X
В первые годы супружеской жизни Иоанн Васильевич считал лучшими часами те, которые он проводил в покоях царицы. С ней было о чем побеседовать. Она вращалась среди таких умных людей как мама, Алексей Адашев и иерей Сильвестр. Кое-что она черпала и в своей любимой золотошвейной палате, где и мелюзге, и мастерицам дозволялось говорить обо всем, что видели и слышали.
Мама доставляла ей верные сведения не только о Москве и москвичах, но и о делах псковитян и новгородцев – этих строптивых русичей московской земли. Там много было недовольных уничтожением их вольных грамот, данных предками молодого царя.
Адашев не раз говорил царице о том, что государь не обращает внимания на жалобы, в большинстве своем справедливые, по поводу безнаказанности и произвола наместников. Много накопилось примеров, когда вместо объявления опалы наместнику или казни чиновника Иоанн Васильевич отсылал жалобщиков в пыточную избу, а там на углях или на дыбе обиженные обвиняли себя в клевете и в других преступлениях. После допроса псковичей на углях и Турунтай, и Глинские, и Оболенский, прослывший в наместничестве рыкающим львом, оказывались чище и светлее ангелоподобных ликов. Порой Иоанн Васильевич обходился и без пыточной избы, просто посохом, а то и горящей свечой, которой он лично поджигал бороду челобитчика.
Сильвестр жаловался царице на общий упадок нравов в Московском государстве, на разврат среди монашествующей братии и вообще духовенства.
Ни один рассказ о народных тяготах не проходил мимо участливого внимания Анастасии Романовны. Ум и сердце ее подсказывали, в какое время передать супругу известия о бедствиях псковичей или о брожении новгородцев, грозивших Москве, хотя и издали, многими тысячами кистеней. Властелин больше узнавал в царицыной половине о действиях своих наместников, нежели от льстивых придворных бояр.
Выслушивая от супруги нередко осуждение своих поступков, он проникся мало-помалу сознанием, что страна без правосудия не живуча, и что так или иначе, а нужно судить по закону и выслушивать челобитчиков. Ведь среди последних встречались и такие упорные, которые, даже побывав на углях, твердили свое: «А Глинские все-таки злодеи» или «А Шуйские все-таки грабители». Напрасно Семиткин тащил на дыбу таких закоренелых жалобщиков; они и на дыбе твердили свое: «Нет более корыстного наместника как Оболенский».
– Про боярскую партию я и не спрашиваю, – заметил однажды Иоанн Васильевич супруге. – Она охотно погубила бы нас обоих. Мне любо смотреть, как грызутся Шуйские с Глинскими, а того они и не понимают, что я ожидаю только удобной минуты, чтобы зажать их в кулак. У меня три опоры: око Всевидящего, ты, моя зазноба, да простолюдины, а этого достаточно, чтобы осилить моих недругов. С тобой мне и яды не страшны. Но ты вот что объясни мне: бояр я прижал, унял их хищничество, хотя еще и не в полной мере; разумеется, им любить меня не за что. Почему же, однако, и простолюдины, по твоим словам, шпыняют меня между собой? От кабалы я освободил их, от экзекуции избавил, за пленников плачу выкуп из казны, попов приструнил, теперь они венчают и хоронят, не требуя вперед платы. Благодарить бы меня за все сделанное, да ноги мои целовать, а они твердят: «Не милостив-де царь, лют, чуть ли не зверь…»
– Правду сказать, мой любый, по временам и я тебя боюсь. Народ истину ищет. Даже от татар слышно, что у них первой царской добродетелью считается правосудие. Будь зол, казни, а только будь правосуден. Твои же воеводы всесильны, пожалуй, сильнее тебя. Их приговор зависит от звания подсудимого, а не от тяжести вины, и к тому же они к батогам охочи. Вот теперь у тебя новенький орудует – Малюта Скуратов. Глядя на тебя, и Шуйские, и Глинские заводят у себя Скуратовых.
– Законы-то у меня есть, да устарели; предок мой обновил Русскую Правду, но жизнь Московской Руси шагает так спешно вперед, что и эта Правда служит только на прокорм подьячих.
– Обнови.
– И кто тебя учит таким умным советам, или уж тебе так от Бога дадено? А все же ты, видно, не знаешь, что новый Судебник у меня готов, и вот теперь раздумываю: не созвать ли мне собор слуг Божиих, чтобы они обсудили мой Судебник, пригоден ли он для жизни. Но собор сам по себе, а я хочу расшевелить московские мозги. Такую картину я придумал, какая не приходила в голову ни кесарям, ни василевсам: я взойду на Лобное место, куда соберется весь московский народ, и скажу ему покаянное слово. Плакать будут от сердечного движения. Вот уже две недели, как я обдумываю красоту своего слова, по ночам не сплю, а все вижу, как многие тысячи простолюдинов будут от радости плакать и целоваться как в Светлый праздник. Одобряешь ли?
Анастасии Романовне трудно было ответить на этот вопрос. Ее чистой душе видно было, что Иоанн Васильевич заботился больше о том, как поразить московский народ красивым небывалым зрелищем, нежели искренностью затеянного им покаяния.
В назначенный воскресный день, после обедни, вся Москва уже была на Лобном месте. При звоне колоколов царь, предшествуемый духовенством, хоругвями, крестами, иконами и зажженными фонарями, окруженный рындами и дворцовой дружиной, вышел на середину площади и, как бы по вдохновению, поцеловал руку митрополита. Казалось, Москва перестала дышать, так было напряжено ее внимание.
Картина была поистине трогательная и красивая. Ожидали, что покаянное слово царя докажет Москве, как несправедливо то, что его нарекли Лютым.
Царь обратился к митрополиту, но во всенародное услышание. Боярской партии пришлось публично услышать, что она притесняла народ, неправедными путями наживала богатства и, прикрываясь его, царя, именем, роняла честь всего царства и похищала достояние истинных тружеников. Он призвал всю боярщину к ответу перед престолом Всевышнего за невнимание к тяготам бедняков, за пролитую кровь невинных. Но вместе с тем он призывал ко всеобщему примирению и к забвению минувшего зла.
Объявляя себя судьей и защитником притесняемых, он призвал к себе находившегося неподалеку Алексея Адашева и поручил ему вновь, во всеуслышание, принимать челобитные от всех бедных, сирот и обиженных и тем служить его душе. Слово свое Иоанн Васильевич окончил обращением к Адашеву: «Не бойся ни сильных, ни славных, когда они, поправ честь, творят беззаконие. Все старательно взвешивай и докладывай мне сущую истину, страшася одного лишь суда Божьего».
Счастливее всей присутствовавшей Москвы был сам виновник покаянного слова. Речь свою он завершил поклонами на все стороны, после чего ликование толпы слилось с колокольным звоном, и действительно, ни кесари, ни василевсы не оставили в истории такой величественной сцены отеческого обхождения с простыми людьми. Одна лишь боярская партия возвратилась домой, не проронив между собой ни одного слова. Новопоставленный палач Малюта мог подслушать где угодно. К тому же предстояло открытие в скором времени заседаний созванных в Москву слуг Божиих, что представляло возможность властелину сказать новое грозное обличительное слово по поводу своеволия наместников и хищничества назначаемых ими чиновников. Впрочем, выискивались и такие вольнодумцы среди бояр, которые довольно громко признавали, что Московское царство требует обновления во всем. При этом указывалось не без ехидства на наместников, наживавших целые слободы на одном только выражении обветшалой Русской Правды – «Живота не дати». Одни видели в нем повеление «Казнити подсудимого смертною казнию», а другие довольствовались тем, что обдирали подсудимого до последней нитки. Чиновники охотнее склонялись ко второму решению.
«Собор слуг Божиих» оправдал свое название тем, что на него были призваны по преимуществу лица духовного сословия, во главе которого явился митрополит Макарий с девятью архиепископами и епископами и целыми рядами архимандритов, игумнов, духовных старцев и иереев. От мирян были собраны по преимуществу законники того времени, «сведущие в искусстве гражданском». Собору предстояло прежде всего рассмотреть, изменить и дополнить Уложение Иоанна III и в соответствии с новыми нуждами царства обновить и утвердить своим приговором новый Судебник с именем Иоанна IV. Кроме Судебника собору предстояло обсудить и дать царю ответ на предложенные им 69 вопросов, затрагивавших устройство церкви. При отсутствии просветительных духовных учреждений многие священные обычаи «поизмоталися», многие божественные заповеди преданы были забвению, в церковном строе царило, как и в строе гражданском, местное самовластие, а монашество на обильные монастырские доходы вело разгульную жизнь.
Открывая 23 февраля первое заседание созванного собора, Иоанн Васильевич не упустил эффектного случая порисоваться своим смирением перед Московской землей. Вообще не было случая и речи, когда он не заявлял о своем народолюбии, ибо ему очень хотелось, чтобы его называли народным царем.
Прежде всего он упомянул, что в дни его молодости на Руси не было надлежащего управления благодаря своеволию и беззаконию, творимому боярами. Беспорядки эти завершились пожаром, испепелившим Москву, и народным мятежом. При виде пылавшей Москвы душа властелина ужаснулась, тело затрепетало, но дух смирился и сердце умилилось. С той поры он возненавидел зло и возлюбил добродетель. Обратившись к святителям церкви, он просил не щадить его слабости и громить его словами Божиими, лишь бы душа его была жива.
В дальнейшем обращении к собору он требовал установить гласный суд с тем, чтобы сотские и пятидесятники, облеченные народным доверием, занимались бы земской неправой и наблюдали бы за царскими чиновниками.
Над гражданским устроением главенствовало в соборе церковное устроение, требовавшее переработки всей унаследованной порчи и в иконописи, и в пении, и в чинности церковных служб, особенно же в поборах с мирян. Впрочем, собору пришлось рассуждать и о брадобритии в связи с содомским грехом, и о мерах против волшебства и колдовства и против игры в зернь…
Никогда еще ни один собор не трудился над решением стольких предложенных ему дел и вопросов. Летописи говорят, что собравшиеся мужи вели свое дело так, чтобы решить эти вопросы наиболее справедливо, и плодом их усердного труда стало зеркало современных нравов и понятий века. Не прибегая к неведомым теориям, но зная хорошо народ своего царства, собор сосредоточил все внимание на мерах против злоупотреблений, которыми как паутиной было покрыто все царство, недостаточно еще укрепившееся.
Итогом собора стал Судебник из ста глав, вошедший поэтому в историю под названием «Стоглавника». В нем пришлось повторить немало заповедей прежних судебников, а главное повторить, чтобы судьи не судили в пользу своих друзей и не мстили с помощью суда, не брали ни в каком виде взяток, не слушали посулов; тяжущимся тоже запрещалось предлагать взятки. Все это было повторено чуть не в десятый раз, но москвичи оставляли эти веления втуне.
Даже мама, узнав от царицы о великой заповеди в новом Судебнике «творить каждому свое дело прямо и бережно и беспосульно», скептически покачала головой и выговорила: «Нет такого дьяка во всем Московском царстве, чтобы он утруждался беспосульно».
Немало выслушали укоров и пастыри, от которых царь требовал, чтобы они «почистили христианство» и уничтожили сохранившиеся остатки старого язычества. Духовному сословию пришлось не по сердцу и запрещение покупать новые вотчины без царского разрешения. Царь справедливо опасался перехода всей земельной частной собственности в обладание монастырей, переманивавших к себе бродячих хлеборобов. Келейники, заселявшие леса и пустыни и заводившие под предлогом спасения душ всякие притоны, были признаны собором тунеядцами-бродягами. Кроме того, служители «олтаря» обвинялись в нарушении правил благочестия, а черному духовенству было указано на нетерпимый разврат в монастырях. От всего духовенства собор требовал примерной жизни, которой следовали бы и миряне.
Духовное сословие смиренно подчинилось осуждению собора, зато бояре затаили к Стоглавнику крайнее нерасположение. С уменьшением их власти сокращались и доходы. Простые люди ликовали, но они ждали обещанного уже закрытия пыточной избы и уничтожения Разбойного приказа. Кое-где послышался даже призыв взять пыточную избу силой, разнести ее по бревнышку, без чего Семиткины да Скуратовы извратят-де царскую волю.
Такое настроение умов не укрылось от мамы, которой почудилось, что виновник нарождавшейся смуты не кто иной, как Лукьяш. Он никогда не стеснялся проявлять и ненависть и презрение к деятельности пыточной избы. Мама призвала его к себе на суд и после участливого допроса потеребила довольно старательно остатки его кудрей.
Заодно она тут вспомнила о своем открытии: в комнате царицы она увидела две восковые, очевидно, заговоренные на любовь свечи. Заговорены они были тем, что в их фитилях виднелись вплетенные волосинки. Опытный глаз мамы определил, что волосинки эти были взяты из оческов царицыных кос и что этот заговор устроен непременно Лукьяшем. Он не оправдывался и только просил у мамы прощения.
Обнаружив заговорные свечи, мама удалила из опочивальни всех постельных боярынь за их небрежность в хранении оческов из царицыных кос. Она сама занялась уборкой головы своей любимицы. Оправляя теперь на ночь косы царицы – по ночам заговоры считались более действенными, чем дневные, – мама сообщала в опочивальне все собранные за день московские новости.
– Молебны Москва служит о твоем, царица, здравии, – рассказывала она доверительно своей Насте. – Но только перед Творцом стоят на коленях одни простолюдины, а в боярских усадьбах хотя бы колокольчик звякнул…
– Почто молебны, ведь я здорова?
– А это в благодарность за Стоглавник. Не будь тебя в царицах, не быть бы и Стоглавнику – так говорят во всех торговых рядах. Всем ведомо, что ты привела царя к правосудию.
– И кто это распространяет такие небылицы?! Где же мне было научиться государственному управлению?
– А в Писании что сказано? Там сказано, что Господь умудряет и младенцев. Когда родился мой прадедушка в самый Христов день, так он не успел еще попользоваться и каплей молока, как вымолвил: «Христос Воскресе!» Теперь то Лукьяш втолковал…
– Так это Лукьяша причуды? Несчастный! Он сам себе роет яму. Христом Богом прошу тебя, мама, просвети его, надоумь, скажи, что Иоанн Васильевич во гневе жесток и не посмотрит на наше молочное родство. Ты, мама, знаешь, что у меня нет таких коварных улыбок, которые так пленяют мужской пол. Лукьяша я не вызволю, и хотела бы, да не смогу, а пребывание его в пыточной избе… сведет и меня в могилу.
– Ох, вышел он из моей воли. Ты сама сказала бы ему.
– Пусть зайдет как-нибудь в золотошвейную; там есть его сродницы, да чтобы, увидев меня, не падал на колени и не целовал бы мой подол. Царица я ему или нет?
– Скажу, скажу. А ты будь здорова и невредима. Думается, что вскоре придет Иоанн Васильевич порассказать, как ему собор слуг Божиих. Да хранит тебя…
Иоанн Васильевич явился в опочивальню супруги с чувством полного душевного удовлетворения, сквозившим на его лице и в величаво-снисходительном взгляде на все происходящее.
– Ликуй и радуйся, чаровница моя! – приветствовал он супругу, почтительно склонившуюся перед ним. – Все выполнено, что ты много раз напевала мне своим медоточивым голоском.
– Дозволь прежде попотчевать тебя, мой любый, свежим медком, – заторопилась Анастасия Романовна подать супругу ковш уважаемого им напитка, но ковш так задрожал в его руке, что ничего и в рот не попало, все выплеснулось на пол. Дело в том, что в эту минуту послышался колокольный набат, а в окна стали видны клубы черного дыма со стороны пыточной избы.
Оставив половину царицы, Иоанн Васильевич приказал собрать дежурные отряды стрельцов и во главе их направился спасать от народной ярости пыточную избу и ее хозяев. Если бы ринувшиеся стрельцы опоздали на минутку, то Семиткину, попавшему уже в цепкие руки, не миновать бы народного самосуда.
– Какая ошибка! – шептала про себя Анастасия Романовна, наблюдая из Кремля за полыхавшим пожаром. – Господи, надоумь его, просвети, иначе не избежать ему прозвания Лютого. Не участвовал бы в поджоге Лукьяш, от него станется!..
Глава XI
Мама изучила до тонкости характер своей любимицы. Не ускользнуло от ее внимания мечтательное настроение, которое в последнее время стало нередко овладевать молодой женщиной.
В таком настроении царица отыскивала в огромном дворцовом саду уголок, излюбленный певчими птицами, с зеленым лужком и тихо журчавшим ручейком, но для контраста с просветом на шумную городскую суету. Итальянские зодчие трудились в ту пору над сооружением стрельниц по Москве-реке и высокой стены.
В день именин в середине апреля, когда кремлевский сад покрылся уже богатой листвой, а дорожки достаточно уплотнились, мама настояла, чтобы царица вместе с нянями и детьми прогулялась. (У Анастасии Романовны родились к тому времени две дочери: Анна и Мария, так что опасения Иоанна Васильевича насчет бесплодия царицы оказались напрасными. Правда, царя не радовало появление на свет девочек.) Было видно, что мама скрывает какой-то секрет. Когда гуляющие зашли на утес, то увидели неизвестно когда и кем построенную беседку, названную впоследствии царицыным шалашом. Отсюда открывался восхитительный на реку вид. Анастасия Романовна, взойдя на возвышение, была зачарована волшебной картиной. В восхищеньи она порывисто схватила и поцеловала руки мамы, которая, впрочем, воспротивилась этому. Здесь же нашлись поставец с крынками свежего молока, сухарики, полочки для книг и подзорная труба, впервые полученная в Москве с кораблем, пришедшим в Архангельск; все по очереди поглядели из этой трубы на дальний зеленый бор, на стройку церквей, которых воздвигалось одновременно немалое число.
– Мимо этого шалаша никто не должен ходить, – пояснила мама, вводя царицу в ее новое владение. – Я на свои средства выстроила эту беседку и дарю ее тебе, царица, чтобы никто не смел сказать, казна-де построила. Разреши сюда ходить к тебе только супругу, мне да няням с детьми, а остальным поворот от ворот. Велю и рогатки поставить, а если явятся назойливые, хотя бы сам Семиткин, своей клюкой отважу. Отец Сильвестр окропил уже это место святой водой. Захочешь, сама приведешь сюда царя… а мне, старухе, только и радости в жизни, что поглядеть на твое счастье; только бы детки твои веселились.
Оставив царицын шалаш, мама осмотрела еще раз все ведущие к нему дорожки и тропинки. Одна из них ей не понравилась, она извивалась с берега вверх, между кустами сирени; по ней нетрудно было пробраться незамеченным человеку с дурным умыслом. Но кому бы пришла блажь пугать царицу? Далеко ли стража? На столбушке висели било и молоток; достаточно было одного-двух ударов, чтобы появился невесть откуда Касьян Перебиркин, перешедший служить во дворец. А за ним и няни и детки поднимут шум, на который прибегут толпы служилых людей. К тому же и во всей Москве не найти дерзкого, который осмелился бы нарушить запрет. Впрочем, все-таки мама решила перегородить и перекопать эту тропку, чтобы царица не испытывала напрасного страха.
Царица быстро привыкла проводить многие часы в уютной беседке, иногда рассматривая московскую панораму, но чаще уйдя в свои мысли. Здесь, в этом шалаше, с особой силой занимал ее вопрос: «Когда она чувствовала себя более счастливой – до замужества, в положении боярышни, или теперь, когда она на виду всего Московского царства? Тогда ее величали только сенные девушки, и то в торжественные дни, а теперь готовы величать ее – не все искренно – целые группы боярынь с боярышнями и толпы накормленных приживал. Ни о какой свободе и речи не могло быть. Тогда чистая, без пятнышка дружба с Лукьяшем доставляла глубокую радость. Правда, он вел себя довольно нескромно и в каких-то глупых припадках веселости поднимал ее на руки, как тростинку, и даже в присутствии старой княгини или мамы носил ее по всему саду. Он и теперь, если ему позволить, повторил бы дружескую забаву, ничего не ожидая от нее; это видно было по его лучистым взглядам, тщетно прикрытым опущенными веками. О, он смелый, он не посмотрел бы на разницу положений; теперь она царица, а главное мать нескольких детей, а он только молодой силач красавец в белоснежном костюме рынды и, пожалуй, предмет потаенных вздохов придворных невест.
Как только Анастасия Романовна вступала сюда, в этот тихий приют, ей представлялись в розовом свете картины прошлого и иногда до того явственно, что, казалось, сейчас выглянет из-за кустарника этот дерзкий Лукьяшка, опустится на колени и начнет шептать безумные речи. Как поступить в таком случае? Призвать людей? Сохрани господи! Это означало, что она сама отправила бы своего любимого друга в пыточную избу, на верную смерть. От одной такой мысли Анастасию Романовну начинала бить лихорадочная дрожь.
Есть же, однако, средства от сатанинских наваждений?! Проще всего забросить беседку и не вступать в нее ногой. Но разве мысли можно забросить? Можно, конечно, приходить сюда только с детьми. Но их няни по молодости болтливы и непременно разнесут по всему дворцу, что-де царица здесь задумывается и заслушивается птичек певчих до того, что не замечает своих слез. Остается только читать прилежно, чтобы и дети, и няни слышали кое-что подходящее из Домостроя Сильвестра.
Обычно царицын шалаш оглашался звонким детским смехом и шумливой возней детей в послеполуденные часы, когда в саду провевало теплыми и душистыми струйками. На этот раз царица пригрозила детям, чтобы они не шумели, а няням велено быть внимательными и приглядывать за детьми. Правда, им было еще рано вникать в заповеди Домостроя, но в их распоряжении здесь находились и целые короба с игрушками.
Вдруг деревья и кусты зашумели, точно желали обратить внимание на надвинувшуюся грозовую тучу. Няням было тотчас же приказано увести детей, а маме сказать, чтобы она не беспокоилась, гроза сейчас минует, да она и вовсе не страшна.
Оставшись одна, царица вновь принялась решать загадку, когда же она была счастливее – прежде или теперь? Вспомнилась ей такая же гроза, застигшая ее в конце сада князя Сицкого! Тогда, откуда ни возьмись, появился Лукьяш и, несмотря на ее сопротивление, поднял ее на руки, понес и уже бережно опустил на крылечке под навесом. Кажется, он осмотрелся вокруг и поцеловал ее. Ну, да ведь он озорник.
Порывистый ветер бог знает что выделывал теперь; даже толстые липы трещали и ломились, а кустарники прилегали плашмя к земле. Царица пожалела, что она не ушла вместе с детьми. Сердце ее то билось часто-часто, то замирало точно в ожидании близкой опасности. Оно чуяло, что за этим кустом сирени скрывается человек. И действительно, порыв ветра раздвинул густую листву, и царица увидела Лукьяша. Ему оставалось только повиниться перед ней.
– Прости, царица, – произнес он, вступив в шалаш, – не совладал я со своим сердцем. Хотелось хоть уголком глаза взглянуть на тебя, прости.
И он опустился на колени.
– Оставь, уйди, увидят! – настойчиво просила Анастасия Романовна, отстраняя свои колени от его безумных поцелуев. – Тебе – дыба, а мне монастырь! Христом Богом прошу тебя вспомнить, что я царица, а не Настя Захарьина. Что мне сделать, чтобы я была ненавистна тебе, научи! Господи, вразуми его и… уйди, а то маму позову.
– Зови кого хочешь, пусть меня ведут на дыбу, на угли; пусть выпустят из меня всю кровь по капле, переломают руки, ноги…
Анастасии Романовне удалось, однако, освободиться от безумца; она поспешно вышла из убежища и, несмотря на ливень, побежала к дому. Навстречу ей с плащом в руках уже торопилась мама. Нужно было торопиться, молнии срывались и падали и вблизи, и вдали. Разумеется, мама понимала, что ее дитя взволнована жестокой погодой. В шалаше остались накидка царицы и, главное, ее рукоделие. За ним-то и побежала мама.
И – о ужас!
Она заметила, что от шалаша пробирался сторонкой Семиткин. В беседке было пусто. Он, очевидно, захватил и накидку царицы, и ее рукоделие. Для чего? Мама погналась за ним и строго потребовала отдать ей царицыны вещи. Он вздумал было отнекиваться, но костлявые руки старушки были неподатливы. Семиткину пришлось уступить, иначе он познакомился бы с занесенным уже костылем царицыной благодетельницы.
Мама подробно рассказала дитятке-царице о своей встрече с Семиткиным, который пробрался к шалашу, несомненно, с намерением что-то подстроить. Какой глупый! Что он мог там видеть – как играли деточки в ладошки! Увы, Анастасия Романовна, жалея Лукьяша, предпочла скрыть от мамы его дерзкое появление и преступные поцелуи, хотя бы и коленей. Но то, что высмотрел Семиткин, должно было повести к большому несчастью.
– Все, что ты рассказала, передай Лукьяшу, – попросила царица. – Ему необходимо это знать, может быть, и сама жизнь его на волоске висит. Христом Богом молю тебя, позови его сегодня же и скажи от моего имени, чтобы он забыл дорогу к моему убежищу. Семиткин не простит ему стародавнюю обиду, ведь половина вырванной бороды не зарастает. Пойди сейчас позови Лукьяша и скажи: жди, дескать, беды от Семиткина. Ах, несчастный, мне его жалко!
– Да кого жалко-то?
– Лукьяша! Послали бы его хотя на войну, все же лучше.
Мама чувствовала, что царица что-то недоговаривает, но расспрашивать не посмела. Дитя-то она дитя малое, а все же царица. Пусть скажет, когда сама захочет.
Шалаш царицы очень понравился Иоанну Васильевичу. Он велел даже поставить вышку, чтобы прямым ходом сообщалась с шалашом. На вышке он чувствовал себя как бы обладателем вселенной, по крайней мере все Московское царство было у его ног. Нередко он жаловал сюда с молитвенником и четками, которые не мешали ему предаваться приятным мыслям. Мама поставила сюда стеклянный бочонок – подарок голландцев – с крепким медом, изготовленным Касьяном Перебиркиным.
– Вот уже сколько лет мы живем с тобой в мире и согласии, а ты ни разу ничего не попросила для себя, – сказал однажды царице Иоанн Васильевич в ее беседке. – Для царя Московского нет ничего недоступного. Глупые ливонцы, быть им на веревочке, да жаль, мои воины плохо орудуют да Ганза мешает торговле Руси с западными царствами, а все же я пошевельну пальцем, и целые корабли навезут тебе жемчугов, узорья, парчи, ожерелок. По одному твоему слову я разорю Ливонский орден, заключу мир со Швецией, пощажу крымского хана, предоставлю тебе в услужение целые толпы кабардинок черноволосых. Ну, сказывай, чем тебя потешить. Ты ведь супруга царя Иоанна Васильевича, а не новгородская посадница, не ганзейская купчиха…
– Просьбы у меня превеликие. Перво-наперво запрети заглядывать в этот уголок Малюте, Семиткину и их шпионам. Жене московского царя оскорбительна их слежка. Если за мной, за твоей любой, подсматривать, так правильнее сослать меня в монастырь…
– А они подсматривают?
– Да вот гляди сам. Вот за тем кустом сирени я вижу подлую рожу Семиткина. Всегда, когда он появляется, в воздухе пахнет кровью. Ведь это может отразиться на наших детках. Прогони его, прогони!
Иоанн Васильевич схватил свой посох и торопливо направился к тому месту, где, как казалось Анастасии Романовне, прятался Семиткин. И он действительно там прятался и только вовремя упал на колени, иначе железный наконечник посоха дал бы ему понять, как велик царский гнев. В страхе и трепете Семиткин бормотал:
– Мы, государь, заботимся о твоей и царицы безопасности. Сад велик, а злющего народа не перечесть. Намедни гляжу, а твой рында Лукьяш идет сюда смелой поступью, как повелишь?
– Чтобы и духа вашего здесь не было, не то сами узнаете, как приятно висеть на дыбе.
– Слово, государь, твое – великий для нас закон. Прикажешь на дыбу, сам завяжу себе руки, а только запрети и злодеям, что умышляют против твоей чести…
– Сгинь, пропади! – вскричал Иоанн Васильевич и взмахнул своим жезлом, но Семиткин вовремя уклонился от удара и сгинул, пропал, только полукафтанье его мелькало между кустарниками.
Иоанн Васильевич был очень доволен, что проявил свою волю во всем ее объеме. В царицыну беседку он возвратился сияющим, точно совершил подвиг.
– Не покажется больше сюда его песья морда; наговаривал он что-то про рынду Лукьяша, да я и сам побоялся хватить в висок этого палача. Что делать! Без палачей мне не обойтись. На боярских сходках только и твердят – лютый да лютый. Бояр подслушивают холопы, а от них и вся Москва твердит: лютый да грозный!
– А чтобы никакая тень не легла между нами, повели рынду Лукьяша отправить к войскам, что пошли воевать с Ливонским орденом.
– Вот это ты дело говоришь.
– А мне на всякий случай, может, со временем и разлюбишь, вели построить малого вида монастырь – на пяток монахинь и на пяток послушниц, там соорудить большую трапезную с амбарами для припасов. Пока пусть мама правит прибежищем вдов и сирот, кормильцы которых пали в Ливонии.
– Да ты что это задумала? Бежать от меня?
– Нет, мой любый. Только мне ведомо, что твои предки сегодня любили, а завтра и конями топтали и в болотную тину загоняли своих жен. Любовь – это первая в мире изменница.
– Того со мной не будет.
– Про то Господь ведает. Никогда я не наврежу тебе и положу жизнь за твоих деток, за царевичей, а ты, когда разлюбишь…
Растроганный Иоанн Васильевич прервал поцелуями скорбную речь Анастасии Романовны. В это время небо просветлело, а в кустах послышалось птичье щебетанье.
Одолевший Семиткина страх преследовал его вплоть до пыточной избы. На этот раз в ней не слышалось ни воплей пытаемых, ни свиста тройчаток. Скуратов отдыхал. Рассказ его верного помощника о неожиданном недовольстве и гневе царя навел его на глубокие размышления. Беда, если слух об этой немилости проникнет в народную массу – тогда заплечных дел мастерам грозил уже разгром и без царского негодования.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































