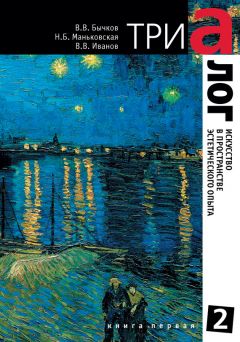
Автор книги: Владимир Иванов
Жанр: Культурология, Наука и Образование
сообщить о неприемлемом содержимом
Еще Флэвин открыл для меня совершенно новые эстетические перспективы светоискусства (Lichtkunst), создающего новые – дематериализованные – миры. В театре мы, сидя в зале, наслаждаемся извне красотами освещения на сцене. В инсталляциях Флэвина зритель, напротив, переживает себя внутри светопространства и превращается в актера пьесы, содержанием которой является игра цветных лучей. В еще большей степени такая – метафизически обоснованная – превращаемость внешнего во внутреннее присуща инсталляциям Тэррелла, судя по статье и описаниям своих переживаний теми, кому эту выставку посчастливилось посетить. Директор художественного музея в Вольфсбурге Маркус Брюдерлин (Bruderlin) приписывает инсталляциям «insideout»[2]2
Эффект «вывернутости внутреннего во внешнее».
[Закрыть] эффект: «Стоя в континууме из света, в следующий момент переживают его в своей собственной душе. Внешнее превращается во внутреннее и внутреннее может быть пережито как внешнее».
Все это отчасти напоминает мне мистериальный проект Скрябина. Только у него музыка порождала цвет, у Тэррелла, наоборот, дематериализованное (в ощущении зрителя) пространство, насыщенное потоками цветовых лучей, пробуждает музыкальные ассоциации. В обоих случаях достигается цель метафизического искусства: способствовать эстетическому трансцендированию за пределы, очерченные кругозором эмпирического сознания. Это я и называю эстетической эзотерикой, свободной от идеологизированной иллюстративности, неизбежно ведущей к кичу и профанации в религиозно-мистической сфере. Как мне кажется, использование новейших технологий у Тэррелла носит вполне правомерный характер и в каком-то смысле (не знаю, в какой степени сознательно) уготовляет путь возникновению новых эстетических мистерий. Изначально целью мистерий было реальное общение с духовным миром. Оно же, в свою очередь, достигалось путем инициации (посвящения), для проведения которой в Античности (вспомним, например, элевсинские мистерии) широко использовались художественные элементы. Возможны теперь и антимистерии, погружающие человека гораздо ниже уровня повседневного сознания в мир, пронизанный демоническими силами. Судя по Вашему письму, антимистериальный характер носят инсталляции Худякова. Такая оппозиция хорошо вписывается в ныне переживаемый Апокалипсис, который в полном согласии со Священным Писанием обнаруживает себя в – эволюционном по своему смыслу и значению – метафизическом разделении человечества (Мф. 25,32; Ап. 20,14–15).
Апокалиптические предчувствия ведут теперь сравнительно небольшое число людей к поискам средств, ведущих к восстановлению реальной связи с духовным миром (о чем свидетельствует ряд мною вышеперечисленных выставок). Зачастую поиск ведется вслепую, без достаточно четких ориентиров, что приводит к опасной всеядности или, говоря попросту, в одну кучу валится все: и духовно доброкачественное, и духовно опасное. Выбор предоставляется самим зрителям. Так было во Франкфурте и Мюнхене. В Вольфсбурге тему существенно сузили. В данном случае я имею в виду не Тэррелла, а одновременно развернутую там выставку, разделенную в свою очередь на две самостоятельные, но взаимозависимые части. Одна из них посвящена эстетическим инициативам Рудольфа Штейнера: начиная от строительства Гетеанума и вплоть до основания нового вида искусства движения: эвритмии. Выставка носит название «Рудольф Штейнер – алхимия будней» («Rudolf Steiner – Alchemie des Alltags»). Вторая часть переносит нас в современность: «Рудольф Штейнер и современное искусство» («Rudolf Steiner und die Kunst der Gegenwart»). На ней представлены произведения современных художников – в большинстве случае не антропософов, но в той или иной степени – нередко очень косвенной – испытавших влияние трудов Штейнера.
…Теперь возникает соблазн: пуститься во все тяжкие, т. е. попытаться подробно описать свои впечатления от посещения этих двух выставок, но внутренний голос предупреждает: не упускай из виду, что все же ты поставил себе целью охарактеризовать три аспекта (измерения) эстетического опыта; о музейной сфере было сказано кратко, а вот о выставочной как-то расплывчато и многословно…
…Принимаю упрек внутреннего голоса: действительно, увлекся; с одной стороны, тема «Левитан – Худяков», с другой – «Вольфсбург»: ну, как тут удержаться от многословия… к тому же теперь ведь сразу не перескочишь к третьей сфере (тем более, что и надлежащего понятия для нее мной не найдено); завершу тему хотя бы краткой справкой об устроителе вольфсбургских выставок, о которых более подробно напишу позднее (либо в этом письме, либо в следующем)…
Сказать же о директоре художественного музея в Вольфсбурге Маркусе Брюдерлине надо, поскольку это показывает значение индивидуальных инициатив в современной художественной жизни. Иногда мы только пассивно ждем перемен или считаем их в данной ситуации невозможными, и вот неожиданно появляется человек со «своей идеей» (в смысле, который вкладывал в это слово Достоевский) и начинает ее – к нашему удивлению – успешно реализовывать.
Брюдерлин (род. 1958) закончил венский университет по специальности «История искусств». Защитил докторскую диссертацию на тему «Абстрактное искусство и орнамент в XX в.». Не имеет смысла перечислять подробно его дальнейшую кураторскую и научную деятельность. Достаточно лишь отметить его назначение в 2006 г. директором Вольфсбургского музея. В этом качестве Брюдерлин поставил себе целью изменить ставший привычным порядок организации выставочной жизни: «Мы, вероятно, первый художественный музей в немецкоязычном пространстве, который помещает свою программу под тематическую крышу, а не просто организует выставку за выставкой». Смысл этой программы заключается в осознанном противодействии эстетике постмодерна: «Выставкой "Поиск Модерна в 21 веке" ("Der Suche nach der Moderne im 21. Jahrhundert") мы, собственно говоря, выдвигаем тезис, что "проект модерна" еще не пришел к концу (таково и мое глубокое убеждение, что значение целого ряда эстетических открытий начала XX в. еще остается во многом непонятым, и данный тогда импульс духовного обновления далеко не исчерпан[3]3
В 1999 г. я написал статью, в которой высказал сходные с Брюдерлином мысли. Она называется «Век неиспользованных возможностей» и опубликована в сборнике «Mehr Himmel wagen. Spurensuche in Gesellschaft, Kultur, Kirche», в котором были собраны мнения и прогнозы немецких политиков, теологов и т. д. о грядущем тысячелетии. С тех пор мой взгляд на «неиспользованные возможности», скрытые в ряде духовных инициатив начала XX в., не только не поколебался, но укрепился с новой силой.
[Закрыть]. – В. И.), как это хотелось бы доказать постмодерну… Как раньше, так и теперь модерн дает нам ориентиры. Поэтому в наших тематических проектах мы все время возвращаемся обратно в XX в., чтобы в корнях, как бы в генетике модерна, отыскать очевидные потенциалы и подобно красной нити протянуть их в XXI столетие». Неудивительно, что в рамках такой программы Брюдерлин натолкнулся на проблему существования альтернативных течений, частично табуированных, но существенно повлиявших на ряд крупных художников «классического модерна» и не потерявших своего значения для современного искусства. Так, по мнению Брюдерлина, «Штейнер долгое время был табуизированной темой, и его искусство, его пластика и, в особенности, живопись не принимались достаточно серьезно вне антропософского контекста. Раздавались скептические голоса, сомневавшиеся в возможности заинтересовать современных художников этим именем. Тем больше было удивление, что все приглашенные спонтанно согласились участвовать и были отчасти обрадованы тем, что, наконец, пользующийся хорошей репутацией музей решился и разработал проект, посвященный этой взаимосвязи». Здесь ставлю точку, поскольку, если не исчерпал полностью, то по крайней мере отметил основные варианты выставок, структурирующие мой эстетический опыт. О содержательной стороне вольфсбургских выставок напишу позже.
Теперь о третьей сфере. Условно обозначу ее как экзистенциально-коммуникативную. Она включает в себя опыт общения реципиента с художниками-современниками, сопровождающегося в ряде случаев творческим соучастием в каком-нибудь направлении (группе, школе etc.). Хочу подчеркнуть, что речь идет об экзистенциальной вовлеченности, а не просто о знакомстве или даже дружеских отношениях. Важно само интуитивное ощущение вектора развития современного искусства: пусть только в рамках локального и не выходящего на мировой уровень явления, но все же позволяющего почувствовать «кухню» мирового Духа, на которой вывариваются новые блюда, необходимые для поддержания жизнеспособности европейской культуры. Это переживание не могут заменить ни музеи, ни выставки. Другое дело, что могут наступить периоды полного застоя, когда, несмотря на коммерческое оживление и растущие цены на произведения современного искусства, ощущается полная утрата осмысленного вектора. Воцаряется хаос симулякров, лишь мертвенно имитирующих видимость плодотворного развития искусства.
В 1960-е г. я такой вектор ощущал в среде питерского и московского авангарда. Тут, замечу походя, не без удивления прочел в Вашем письме, что Вы характеризуете все русское (я бы написал, лучше, московско-питерское) искусство второй половины XX столетия как «пустоту». Не хочу начинать теперь спора. Надо прочитать отмеченные Вами страницы в Вашем «Апокалипсисе художественной культуры», но – в любом случае – я не стал бы говорить о целом пятидесятилетии как «пустоте»[4]4
Кажется, ложная тревога. Просмотрел указанные Вами страницы, но, слава Богу, там речь идет вовсе не о всей второй половине XX в. как времени «пустоты» в русском искусстве, а только об определенных явлениях пост-культуры. Тогда как понять Ваше утверждение в письме?
[Закрыть]. Но нельзя отрицать, что, говоря словами Ницше, «пустыня растет» и аннигилирует, где только возможно, остатки подлинной культуры, хотя то здесь, то там обнаруживаешь одиноких рыцарей, имеющих мужество идти своим путем. Некоторые из них, как Тэррелл, используют новейшие технологии, делая их инструментом для выражения метафизических смыслов, другие, как ряд мастеров дюссельдорфской школы (о них уже писал в связи с выставкой в PdM), продолжают традиции классического модерна, так сказать, в новой редакции. Совсем особое место в этом отношении занимает для меня М. Шемякин. Ощутимый в его творчестве вектор идет в касталийском направлении, т. е. в направлении создания некоего универсального языка шифров, позволяющих в игровом элементе сочетать несочетаемое.

Михаил Шемякин и о. Владимир Иванов
Теперь Шемякин занят подготовкой большой выставки в Русском музее, запланированной на осень следующего года[5]5
Выставка «Тротуары Парижа» была открыта в мае 2013 г. Для каталога я написал статью «In stercore invenitur – Найдено в грязи». Это название является старинным изречением, относящимся к поиску философского камня (lapis philosophorum), главной цели алхимическихэкспериментов (прим. 25.08.2015).
[Закрыть]. На ней должны быть представлены результаты его изучения очень своеобразной области творческой фантазии. Слово исследования я употребляю здесь в несколько расширенном смысле. Уже в 1960-е гг. Шемякин – для собственного употребления – разработал метод, позволяющий из определенного подбора художественных образов различных эпох подойти к созерцательному признанию существования их духовных архетипов, иными словами, принципов стиле-и формообразования. К настоящему времени Шемякиным накоплен огромный материал, еще ждущий своего вербального осмысления.

Михаил Шемякин.
Вознесшаяся праведница
2012.
Собрание художника
В последние годы наметилось еще одно направление шемякинских исследований. Предшественников ему можно усмотреть в ряде художников прошлого, любивших – на удивление своих учеников – погружаться в созерцание трещин, подтеков, плевков, плесени, не говоря уже об облаках, вычитывая в этих «шифрах» откровение космической фантазии, не брезгующей ничем для своего самовыражения. Для мастеров Ренессанса такие созерцания, возможно, были периодом отдохновения от диктата законов линейной перспективы и анатомии: уходом в мир свободных и ничем внешним не связанных форм. Думается, что каждый большой художник отдает дань таким занятиям. Шемякин же впервые занялся этим систематически. Работа идет следующим образом: Шемякин фотографирует упавшие листья, обрывки бумаги на тротуаре, паутинки и т. д. и т. п. (список можно умножить вплоть до разводов собачей мочи) и, всматриваясь в эти неожиданные формы, открывает латентно заключенный в них художественный образ, который становится основой для очередного рисунка. Он в свою очередь входит в состав одной из графических серий, вариаций и метаморфоз опознанных архетипов. Возникает синтез плодов фантазий: фантазии природы и фантазии человека. Поскольку Шемякин отличается воображением, родственным по типу Гофману и Гойе, то неудивительно, что он «вычитывает» в природе тексты и шифры гротескного характера.
Возможны и другие подходы к проблеме общих корней природной и человеческой фантазии. Например, для Гёте была очевидна родственность закономерностей, обнаруживаемых в растительном мире, с принципами, которые он открывал в деятельности собственного воображения. В своем «Учении о цвете» он писал: «Я имел дар: закрывать глаза и с опущенной головой воображать себе в середине органа зрения цветок; ни на мгновение не застывал он тогда – в первоначальном подобии, но красочно… из его глубины новые все выявлялись цветы… это не были цветы из природы: это были цветы фантастичные, но симметричные, как розетки у зодчего». В данном случае мы имеем дело с сознательно проводимым упражнением, близким к эзотерической медитативной практике (вообще-то Гёте совсем не чуждой). На таком пути ему открылось, что искусство завершает природу, действуя в согласии с ее «тайными законами»: «Красота есть проявление тайных законов природы, которые без её явления остались бы для нас навсегда скрытыми». Сама поэзия в этом свете есть не что иное, как «зрелая природа». «Фантазия много ближе природе», чем то, что доступно лишь для органов чувственного восприятия. «Фантазия выросла из природы, чувственность (т. е. то, что дано органам внешних чувств. – В. И.) – в ее власти». Еще один подход к проблеме фантазии имеется у Карла Густава Юнга.
Не буду сейчас входить в подробности. Хочу только отметить наличие некоего вектора в развитии современного искусства, альтернативного по отношению к господствующим арт-практикам. Если сделать еще один шаг в направлении эзотерики (в подлинном смысле этого слова), то мы подойдем к открытию духовных истоков творчества. Потребность в этом ныне отчетливо ощущается, о чем, например, свидетельствуют выставки во Франкфурте, Мюнхене и Вольфсбурге. Такие истоки обладают вечной природой. Их нельзя упразднить коммерческими спекуляциями, заказными статейками и рецензиями. Следуя за Юнгом, можно сказать, что законы творческой фантазии коренятся в мире архетипов. Нарушение этих законов приводит к тяжелым повреждениям человеческой психики, последствия чего мы и наблюдаем в современном мире, подозрительно начинающем напоминать грандиозный сумасшедший дом.
Самым тяжелым по своим последствиям может быть полный разрыв нитей, связующих человека с духовным миром. Тогда возникает та пустота, о которой Вы пишете…
Я полностью согласен с Вами, что теперь для нас гораздо важнее обратиться к «мажорным» проблемам. По-моему, для наших дальнейших бесед нельзя найти ничего лучшего, чем предложенная Вами тема: «символизация как сущностный принцип искусства». Над ней я размышляю с юных лет. Мог бы немедля приступить к делу, но чувство меры повелевает закончить это письмо. Мне хотелось, чтобы оно дало Вам некоторое представление о занимающем меня теперь – на экзистенциальном уровне – вопросе о структуре эстетического опыта, влекущего к постижению «сокровенных законов», явленных нам в искусстве. Следующее письмо будет уже посвящено непосредственно символизму.
Сердечный привет всем собеседникам.
Ваш В. И.
P.S. Как поживает в издательских недрах наш Мамонт?
172. В. Бычков
(Москва, 25.01.11)
Дорогие друзья,
Ваш покорный слуга благополучно вернулся 23 января в родное гнездо через аэропорт Домодедово, а вчера, видите, какой кошмар там произошел[6]6
Речь идет о террористическом акте в Домодедово, унесшем много жизней.
[Закрыть]. И все мы под этим дамокловым мечом ходим. Увы!
Между тем поездка была очень интересной и полезной во многих отношениях. Главное – полностью отрешился на какое-то время (а там оно сильно растягивается) от московской суеты, отдохнул физически и психически, подогрел стареющий органон, размял ржавеющие мышцы, подолгу плавая в теплейшем Индийском океане и гоняя по волнам на гидроцикле, ну, и окунулся, естественно, с головой в памятники совершенно далекого вроде бы от нас искусства, которое, тем не менее, прекрасно усваивается на эстетическом уровне.
На этот раз самое сильное впечатление произвел огромный пещерный буддийский монастырский комплекс в Аджанте и подобный пещерный священный город, но уже имеющий и буддийские, и индуистские, и джайнские храмы в Эллоре. Собственно эти два комплекса и были главной целью поездки.
Конечно, всем нам они достаточно известны с юности по книгам – хрестоматийные памятники древнеиндийского искусства и одни из самых выдающихся в художественном отношении, – но, оказывается (как и всегда), что никакого представления о них книжные описания и иллюстрации не дают. В реальности это совсем иное – более масштабное, грандиозное и удивительно богатое в художественно-духовном отношении явление высокой Культуры. Особенно поражает Аджанта. И не только знаменитой древнейшей живописью, которая действительно хороша (однако плохо подсвечена, многое приходится смотреть при свете карманных фонариков – сами понимаете, что за эффект), но самими пещерными храмами в комплексе. Удивительным единством архитектуры (а это вырубленная в базальте архитектура!), скульптуры, живописи, тонкой, изощренной декоративно-орнаментальной резьбы. Само художественное пространство в ряде храмов (а их там под 30, а в Эллоре и более 30) поражает целостностью, необычностью, каким-то особым художественно-мистическим, я бы сказал, духом. И это буддийские храмы. Поверхностно зная с юности некоторые основы буддийской доктрины, к которой я всегда оставался и остаюсь достаточно равнодушен (чужды они нашей духовности), я и представить не мог, что в этом духовном пространстве, направленном на отрешение от всего земного и человеческого, на достижение абсолютного нуля нирваны (не буду здесь вдаваться в многомудрые и отнюдь не непротиворечивые размышления о нирване самих буддистов), может возникнуть столь богатое и сильное в художественно-эстетическом плане (фактически чуждом генеральной доктрине буддизма) искусство, которое мощно воздействует своей художественной формой на нас, европейцев, обладающих эстетическим вкусом, но далеких от духовной практики буддизма.

Эллора. Монолитный храм Кайласанатха. VIII в.
Возвращаясь все-таки непосредственно к живописи Аджанты, я хотел бы сказать еще следующее. Она настолько поразила меня на самом памятнике, что я по выходе из пещерных храмов стал пытать моего сопровождающего, нельзя ли здесь где-то купить что-то хотя бы с хорошими фотографиями росписей, так как снимать там было очень трудно, как и смотреть. Он привел меня в какую-то сувенирную лавку, где было несколько индийских книжечек с очень плохими картинками. Я купил их, но выразил свое полное разочарование их качеством. Видя и понимая (что удивительно) это, продавец, пожилой бородатый индус, полез под прилавок, долго там копался и вытащил потрясающее издание, сказав при этом: «Единственный экземпляр, хранил лично для вас». Я, не раздумывая и даже на распечатывая целлофан, понял, что именно это я и искал. Сразу же заплатил, а когда здесь же сорвал целлофан, замер от восторга. Это был прекрасно изданный монографический альбом Веnoy К. Behl. «The Ajanta Caves. Ancient Paintings of Buddist India, Thames & Hudson» (2005) с прекрасными цветными иллюстрациями (200 штук!). Всем, и видевшим, и не видевшим Аджанту в оригинале, настоятельно рекомендую его изучить, чем я и занялся уже по приезде в Москву, хотя и перед поездкой почитал кое-что из имеющегося в библиотеке.
Удивительно высокое эстетическое качество росписей, хотя их сохранность и условия хранения (вообще никаких – пещеры открыты всем погодным катаклизмам) оставляют желать лучшего, объясняется во многом давней многовековой традицией повсеместного развития живописи в буддийской культуре. Даже в Аджанте сохранились остатки качественной живописи от I в. до н. э. Из древнеиндийских источников известно, что живопись еще с добуддийских времен была широко распространена в Индии. Росписи украшали дворцы и дома состоятельной знати, живописи с детства учили детей. Считалось, что заниматься живописью необходимо каждому образованному человеку. В одном из древнейших текстов Вишнудхармоттарам утверждается: «Занятия живописью помогают каждому выполнить свой долг стать хорошим гражданином, так как человек при этом освобождается от порабощающих его низменных потребностей и культивирует в себе качества высшего порядка». Кажется, мысль, до сих пор остающаяся крайне актуальной. Я бы только отнес ее в силу нашей поголовной неспособности к живописанию исключительно к эстетическому опыту в целом. Он-то еще пока доступен вымирающим представителям Культуры.

Аджанта.
Пещерный храмовый комплекс. Пещера № 1.
Фрагмент росписи. VI в.
В некоторых древнеиндийских дворцах существовали картинные галереи, а в источниках описываются даже и специальные выставки живописи. До нас дошли от III в. и более позднего времени трактаты о живописи, основывающиеся на более древних текстах и живописной практике, в которых подробно обсуждаются требования к живописцам. Среди них на первых местах стоят умение правильно воспринимать форму видимых предметов и адекватно изображать ее, соблюдение пропорции и масштаба в изображении, необходимость выразительно передавать психологические переживания и эмоции изображаемых персонажей, видеть красоту и грацию в окружающей природе и человеке и воспроизводить их в живописи, стремиться к сходству с натурой. А для всего этого необходимо виртуозно владеть техническим арсеналом живописи. Понятно, что при таком внимании к изобразительному искусству на протяжении многих столетий буддийская живопись достигла высокого уровня художественности, что мы и имеем счастье еще видеть в Аджанте. Исследователи утверждают даже, что здесь она достигла своих высот (а это в основном росписи V–VII вв.) и оказала сильнейшее влияние на буддийскую живопись того времени и последующих столетий во всей Восточной Азии вплоть до Японии. Наиболее известные и качественные росписи находятся в пещерах № 1, 2,16 и 17. Собственно пещерами эти пространства можно назвать только условно, именно потому, что они действительно вырублены в скале. По существу же это интерьерные комплексы, состоящие из храма (чайтья) и большого общего зала, в котором жили монахи (вихара). Именно в вихарах и находятся росписи, ими расписаны потолки и стены. В основном они посвящены историческим или легендарным событиям, описанным в Джатаках, сборниках сказаний о подвигах самого Будды в разных инкарнациях (царя, слона и т. п.) или назидательных рассказов Будды о прошлых существованиях тех или иных людей. Эти сюжеты дали возможность художникам Аджанты проявить необычайную творческую фантазию в изображении жизни древних индусов (в основном знати). Нам открывается череда многофигурных композиций с изображением людей, животных, множества предметов, растений, цветов и бесчисленных орнаментов. Особенно хороши в художественном плане изображения первой пещеры. Здесь множество прекрасных женских образов (небесных апсар, царевен, танцовщиц), образы Бодхисаттв (особенно хорош Бодхисаттва Падмапани, созерцающий цветок лотоса). Выразительны и информативны некоторые сцены из придворной жизни.

Аджанта.
Пещерный храмовый комплекс. Пещера № 1.
Фрагмент росписи. VI в.

Бодхисаттва с лотосом.
Пещерный храмовый комплекс. Пещера № 1. Фрагмент росписи. VI в.
Предаваясь эстетическому созерцанию росписей Аджанты, большая часть сюжетов которых мне неизвестна, а менталитет и религиозная ориентация буддистов далеки от моего внутреннего мира, я с удовлетворением замечаю, что это ни в коей мере не мешает моему восприятию их искусства. Я наслаждаюсь красотой именно живописи, хотя она и плоховато сохранилась. Тем не менее опытное эстетическое сознание, видимо, активно достраивает (на уровне эстетического предмета) частично утраченные прекрасные цвета и формы, донося до моего духовного мира эти росписи практически в их первозданном виде. И это при том, что сам тип людей, в частности женщин, изображенных в аджантских росписях, далек от нашего европейского идеала человеческой красоты, сформировавшегося на образцах античного и ренессансного искусства прежде всего. Да и просто европейской генетической памяти, заложенной в нас.

Аджанта.
Пещерный храмовый комплекс. Пещера № 1.
Фрагмент росписи. VI в.
Между тем многие из женских образов в Аджанте доставляют подлинное эстетическое удовольствие. Кажется, уже в раннем буддизме сложился тот тип женской красоты, который прошел затем через все буддийское (Аджанта здесь один из главный примеров) и индуистское (в нем прежде всего в скульптуре) искусство. И он восходит, как можно понять из дошедшей до нас мифологии, к легенде о возникновении самой живописи. Оказывается, именно с созданием прекрасного женского образа древнеиндийская традиция связывает само происхождение живописи. В раннем индийском трактате о живописи говорится о том, что этим искусством сначала овладел бог Нарайян, передал его небесному зодчему Вишмакарме, а тот одарил этим людей.

Аджанта.
Пещерный храмовый комплекс. Пещера № 2. Фрагмент росписи. VII в.
Самого же Нарайяна побудили изобрести живопись небесные красотки апсары, пытавшиеся соблазнить его своими прелестями во время строгих молитв и духовных подвигов. Нарайян противостоял их чарам тем, что соком дерева манго написал образ обаятельной большеглазой нимфы с обворожительными формами, с которой не могла сравниться по красоте ни одна земная женщина или богиня. Посрамленные апсары оставили Нарайяна в покое, а созданное им изображение было названо Урваши и стало, согласно легенде, идеалом красоты в индийской живописи. И в росписях Аджанты мы воочию видим этот идеал молодой женщины с хорошо развитой большой грудью, крутыми бедрами и тонкой талией в расцвете ее эрогенной энергетики. Развитие этой иконографии уже в скульптуре мы находим во многих джайнских и индуистских пещерных храмах Эллоры и Аджанты. Ничего подобного мы не найдем, конечно, в христианских монастырях.

Аджанта.
Скульптурная группа. Пещерный храмовый комплекс
Наслаждаясь созерцанием этой яркой жизнеутверждающей, радостной живописи, изображающей фактически обычную жизнь древних индусов, хотя и наделенную для буддистов религиозной, в основном назидательной, символикой, я размышлял вот о чем. Сами буддийские храмы (чайтья), в том числе в Аджанте и Эллоре, предельно аскетичны внутри. Пустое строго организованное в архитектурном плане пространство, в котором господствует ступа или статуя Будды в позе лотоса. Здесь царит дух подлинной духовной аскезы, отрешенности от всего земного и мирского, дух медитации и созерцательного покоя. А в соседнем зале, в вихаре, на стенах и потолке бьет ключом роскошная мирская жизнь со многими ее соблазнами и прелестями, включая и многочисленные чувственно-эротические образы. Как это совмещается в буддизме? Понятно, что на внешнемуровне здесь вроде бы все логично. На стенах размещена «книга для неграмотных» (в основном иллюстрации к Джатаки), которую монахи изучают перед чисто духовной практикой. Однако реально, по-моему, все значительно глубже и серьезнее.
Главное ведь заключается в том, как представить эту «книгу для неграмотных». Древние египтяне, ассирийцы или те же византийские иконописцы научились ее представлять в живописных образах достаточно условных, лишенных какой-либо чувственности. Совсем иное мы видим в Индии, в частности в тех же росписях Аджанты. Мудрость индийских художников заключается, по-моему, в том, что их искусство способствует сохранению глубинной гармонии человеческого бытия между духовным и чувственным началами. Сугубо абстрактная духовность буддийского храма, в принципе-то чуждая человеческой природе, как и любая строгая аскеза, уравновешивается здесь на эстетическом уровне выразительной живописью, являющей монаху полнокровную жизнь, к которой он когда-то, возможно, принадлежал и которая кипит за пределами храма, а главное – генетически присуща человеку как существу прежде всего чувственному. Подобную сугубо эстетическую гармонию между духовным и чувственным я усматриваю и в индуистских храмах со строго организованным огромным внутренним архитектурным пространством и чувственной скульптурой (храмы Тамилнаду); или, напротив, с очень ограниченным, каким-то хтоническим, темным внутренним пространством и чувственным пластическим пиршеством внешнего архитектурного облика и органично вплавленной в него скульптуры (храмы в Кхаджурахо). Более того, нечто близкое я усматриваю и в европейской готике, где подобная гармония достигается также между строгим геометрически-математическим взлетом к небу архитектуры, удерживаемой на земле прекрасной, хотя, понятно, и не столь чувственной, как в Индии, скульптурой. Однако все это требует серьезных размышлений и обсуждения.
Здесь я дал лишь первые беглые импрессионы от раннесредневекового индийского искусства. Об этом надо еще думать и попробовать упорядочить свои сильные, но во многом и противоречивые впечатления. Может быть, когда-то и удастся написать что-то связное исключительно для нашего домашнего обмена впечатлениями. Важно, что при восприятии этих памятников осуществлялся яркий, глубоко духовный эстетический опыт, наполненный новыми сильными переживаниями, чего я, честно говоря, не ожидал. Тянуло просто чисто профессиональное желание увидеть то из сферы шедевров мировой культуры, чего еще не видел. А неожиданно получил и мощный духовно-эстетический заряд.
Сейчас мне опять пришли на ум мысли о необычайном многообразии и универсальности эстетического опыта, которыми мы обменивались в конце прошлого года. Вспомнилось и развернутое письмо о. Владимира о его личных сферах эстетического опыта. Действительно, у каждого из нас они свои, но есть и некоторые универсальные пространства, где каждая личность, обладающая высоким вкусом и не лишенная основ духовного опыта, испытает эстетическое наслаждение, приобщится к полноте бытия. Таковым для меня стало путешествие ко многим индийским памятникам. Об индуистских я уже писал в прошлые наши беседы[7]7
См.: Бычков В. В., Маньковская Н. Б., Иванов В. В. Триалог: Живая эстетика и современная философия искусства. М.: Прогресс-Традиция, 2012. С. 760–783.
[Закрыть]. Если продолжать разговор о сферах эстетического опыта, начатый Вл. Вл., то очень близкий мне опыт знакомства с произведениями прошлых эпох я бы назвал, условно говоря, синтетическим. Посещая сохранившиеся до наших дней памятники древних цивилизаций или даже близкой к нам средневековой культуры, которые представляют собой, как правило, некие сооружения, мы воспринимаем их целостно в единстве архитектуры, живописи, скульптуры и того ландшафта, в который они вписаны. Для эстетического восприятия современного человека древнеегипетские пирамиды и гробницы, древнеиндийские храмы и пещерные комплексы, средневековые европейские соборы – это многомерные целостные эстетические объекты, неразрывно связанные эстетической аурой с окружающей их средой. Однако об этом надо как-то поговорить специально.









































