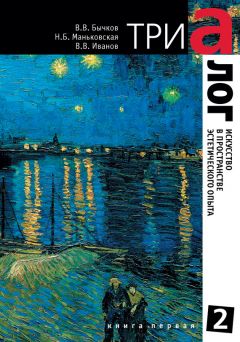
Автор книги: Владимир Иванов
Жанр: Культурология, Наука и Образование
сообщить о неприемлемом содержимом
Думаю, ни фигуративное, «миметическое», ни нефигуративное, «абстрактное» искусство не обладают монополией на продуцирование символов, и «сочетание несочетаемого», о котором пишет Вл. Вл., здесь никак не может служить своего рода «лакмусовой бумажкой». Создается впечатление, что в центре его интересов не столько символизация, сколько синтезирование.
Кстати, разговор о миметическом и абстрактном принимает порой неожиданные обороты. Не так давно мне пришлось участвовать в обсуждении книги искусствоведа В. А. Крючковой «Мимесис в мире абстракции. Образы реальности в искусстве второй парижской школы» (М.: Прогресс-Традиция, 2010). Автор весьма компетентно анализирует особенности первой и второй парижской школ, работа в целом интересна, написана увлекательно. А вот теоретический пафос автора – расширить понятие мимесиса, распространить его на абстрактное искусство – вызывает возражения. Не будем вдаваться в вопрос о том, что такое реальность – в философском плане это завело бы нас слишком далеко (автор же имеет в виду под реальностью окружающий нас зримый мир). И без того постановка проблемы, как мы видим, достаточно парадоксальна: ведь абстрактное искусство как раз и характеризуется отходом от мимесиса. Каковы же аргументы В. А. Крючковой? В основном их три.
1. В абстрактной живописи происходит возгонка реальности, однако при ее восприятии реципиент обязательно возвращается к ней, усматривает в картине фигуративные формы.
Это утверждение кажется более чем странным. Оно напоминает мне многочисленные газетные и журнальные статьи, рекламирующие недавнюю выставку Марка Ротко: только ленивый не писал о том, что да, это, конечно, абстракция, но ведь если присмотреться, на линии горизонта можно обнаружить лошадок, какие-то строения и т. п. При большом желании и определенной настроенности зрения (и психики) это, конечно, возможно. Однако такая нацеленность восприятия носит, конечно же, сугубо субъективный характер и не может претендовать на критериальность. Между прочим, развивая свою мысль, автор утверждает, что поп-арт – не что иное, как преломление абстракции. Заявление, мягко говоря, парадоксальное. Ведь американское искусство новой реальности (поп-арт, оп-арт, кинетическое искусство, боди-арт, лэнд-арт, саморазрушающееся искусство и др.) – как раз реакция на абстрактный экспрессионизм. И если уж говорить о поп-арте, то это, на мой взгляд, одна из разновидностей неонатурализма.
В. А. Крючкова справедливо замечает, что содержание имманентно произведению. Но ведь и форма тоже! (Как тут не вспомнить введенный В. В. термин «форма-содержание», свидетельствующий о неразрывности двух этих компонентов). Мне кажется вполне очевидным, что благодаря гармоничным цветоформным отношениям, композиционной выстроенности высокохудожественная абстрактная картина самодостаточна, не предполагает «выпадения в осадок» каких-то узнаваемых фигур. Это, как полагал А. Ф. Лосев, такой образ, который содержит в себе собственный прообраз. Кстати, в 50-е гг., когда и заявила о себе Вторая парижская школа, Этьен Жильсон в книге «Живопись и реальность», рассуждая об онтогенезе картины и ее «эмбрионогении», настаивал на том, что произведение живописи, будь то реалистическое или абстрактное, – это «личность», «индивидуальность», «единичность», живущая собственной жизнью, оно самодостаточно, ничего не изображает, и на этом основании предлагал отказаться от термина «изобразительные искусства» в пользу «пластических искусств». (Кстати, Жильсон не скупился на саркастические оценки «религиозных картинок», изображающих, скажем, Святое Сердце в виде «длинноволосого, бородатого блондина, который мог бы при случае выступить в качестве вагнеровского тенора; однако он обнажает свое сердце и тем самым сразу узнается как "Святое Сердце Иисусово"». Живопись и производство картинок, по Жильсону, – два совершенно разных искусства, преследующих разные цели, создающие разные классы произведений.
Суть символа в понимании Жильсона – обозначать, не изображая. У В. А. Крючковой же подобная самодостаточность ассоциируется исключительно с декоративностью. Конечно, есть немало людей, воспринимающих нефигуративную живопись именно как декоративную, путающих эстетство с декоративностью, но мы ведь ведем речь не о таком наивном восприятии искусства. Другое дело, что мотивы знаменитых абстрактных картин нередко используются в дизайнерских целях, в моде (стоит выйти летним днем на улицу, как в глазах зарябит от соответствующих штамповок на футболках). Однако в тех же прагматически-прикладных целях и с не меньшим коммерческим успехом эксплуатируется и фигуративная живопись (знаменитые шишкинские «мишки» на конфетных фантиках, фотообоях и т. п.).
Так что первый из выдвинутых в книге аргументов, по-моему, несостоятелен. Абстрактная картина становится фактом искусства именно благодаря своим художественным качествам, а в исключительных случаях, как у Кандинского или Малевича, может подняться до уровня символа. И, разумеется, при ее создании важен не прием (тот же дриппинг, о котором идет речь в книге), а талант автора, его художественный вкус (одно дело дриппинг в поражающих своим художественностью и новизной произведениях Михаила Кулакова, талантливо развивающего на современном уровне абстрактную линию классического русского авангарда, и совсем другое – видео-дрип-шоу Георгия Пузенкова, тиражирующего на отечественной почве приемы американских «разбрызгивателей»).
2. Абстрактная живопись – закономерный результат конвергенции искусства и науки.
Проблема взаимосвязей и взаимовлияний искусства и науки достаточно традиционна. Обращение к ней В. А. Крючковой вполне уместно: 50–70 гг. прошлого века, время расцвета Второй парижской школы, – это и период бурного развития структурализма, семиотики, информационной эстетики, оказавших определенное воздействие не только на живопись (концептуализм), но и на литературу (новый роман, леттризм), театр (хэппенинг), кинематограф (новая волна), музыку (Авангард II). Так что в художественном контексте неоавангарда тех лет, во многом отмеченного акцентом на интеллектуально-концептуальной стороне эстетического восприятия, такой поворот темы заслуживает внимания. Еще со времен первого авангарда начала XX в. тема влияния новейших достижений науки (теории атомно-молекулярного строения вещества, атомной энергии как основы материи и т. п.) на новейшие поиски в искусстве была крайне актуальной. И ее не обошли вниманием главные теоретики и практики абстракционизма того времени (знаменитый лозунг: Материя исчезла!) – Кандинский, Малевич, лучисты. Однако сегодня мы хорошо видим, что художественную ценность произведения названных художников, как и других, увлекавшихся в то время новациями научно-технического прогресса, приобрели не благодаря этим увлечениям, а скорее – вопреки: исключительно на основе традиционного для живописи понимания цветовых отношений, гармонизации форм, организации композиции цветоформ и т. п. И напротив, там, где это увлечение выходило на первый план (у позднего Кандинского, например), оно существенно засушивало и рационализировало его картины, снижало их художественное качество. То же самое можно сказать и о живописцах Второй парижской школы.
Между тем разные ракурсы взаимосвязей искусства и науки обсуждались и в последующие периоды – достаточно вспомнить повальное увлечение теорией информации в искусствознании, синергетикой и попытки применить ее положения о диссипативных структурах, возникновении порядка из хаоса, точках бифуркации и т. д. к развитию художественной культуры, не говоря уже о более близких к нам по времени идеях алгоритмической, компьютерной, а сегодня и цифровой эстетики – последняя стремится осмыслить характер арт-практик, возникших благодаря новым цифровым технологиям.
Действительно, рассмотрение философско-эстетических и искусствоведческих аспектов внедрения в искусство современной электроники, мультимедийных технологий, возникновения эстетической виртуальности, а также трансформаций художественного мышления, обусловленных использованием новейших технологических достижений в творческом процессе и т. п., – одна из насущных задач современных эстетики и искусствознания. Специального внимания в контексте нашего обсуждения заслуживают особенности цифровой компьютерной графики, живописи, скульптуры; вопросы видовой структуры цифрового компьютерного изобразительного искусства; рассмотрение моделей компьютерной имитации материалов, приемов и техник различных видов традиционного изобразительного искусства; классификация дигитального искусства, определение его места в системе изобразительных искусств, выявление его специфики.
Пафос книги В. А. Крючковой состоит в том, чтобы предложить новое, расширенное понятие мимесиса. Но, на мой взгляд, оно получилось не расширенным, а расширительным. Если все в искусстве живописи – мимесис, то тем самым просто-напросто утрачивается смысл этого термина, в духе дерридианской деконструкции размывается его устоявшееся значение, в конечном итоге происходит его подмена (что наблюдается и в двухтомнике «Мимесис» В. А. Подороги). Может быть, стоит оставить «мимесис» в покое и предложить какой-то совершенно новый термин, адекватный современным арт-практикам? Ведь не случайно же возник и сам концепт «арт-практики», свидетельствующий об их несовпадении с «искусством»? О том, что такая потребность существует, а попытки в этом направлении предпринимаются, свидетельствуют хотя бы исследования A. M. Бурова, считающего мимесис принципом классической изобразительности, а ядром современной визуальности – поллакис (от греч. – «повторение»). Идея дискуссионная, возможно, мы еще поговорим о ней с участием автора, но сама постановка вопроса свидетельствует о том, что современные арт-проекты еще ждут своего осмысления и, соответственно, нового, адекватного анализа. Однако сейчас речь не об этом, а о самом принципе конвергенции художественно-эстетической сферы и науки. Думаю, он не работает. Ни полвека назад, ни сегодня заигрывание гуманитарных наук с математикой, техническими и естественными науками на путях поиска новых подходов к гуманитарной проблематике не принесли ощутимых результатов. Ничего существенного не дали они ни эстетике, ни искусствознанию. Измерить, вычислить, точно просчитать субъективную сторону эстетического отношения, как и ментальные и социальные параметры эстетического субъекта невозможно. Вспомним известную эстетическую аксиому о том, что «поверить алгеброй гармонию» пока никому не удавалось и вряд ли это в принципе осуществимо, т. е. необходимо учитывать некоторые границы и пределы любой научной методологии в сфере художественно-эстетического опыта, что не всегда делает автор книги. В. А. Крючкова не акцентирует должного внимания на многих объективных художественно-эстетических (и не только) рисках, к которым ведет излишнее увлечение точными методами в сфере анализа искусства. Не рассматривает она по существу и крайне актуальный вопрос о границах искусства, ставший сегодня предметом острой полемики. Что же касается авторской аналогии между философским и художественным абстрагированием, философским методом индукции как двигателем фигуративной живописи, а дедукции – живописи абстрактной, то она представляется мне лишь красивой метафорой. Главного в искусстве, его специфики – художественности, доставляющей реципиенту эстетическое наслаждение, – ни наука, ни философия уловить не в силах.
3. Все формы художественного восприятия – зрительные, поэтому мимесис вездесущ.
В. А. Крючкова пишет о том, что сны, видения, галлюцинации, мир воображения носят зрительный характер, а посему миметический принцип распространяется и на них. Это напоминает общеизвестные умозаключения Леонардо из его «Книги о живописи»: самое большое несчастье для человека – потерять зрение: живопись – это «окно в мир», «зеркало природы», и потому она – первое из искусств. Концепция, впоследствии оспоренная Лессингом в «Лаокооне», позднее Шеллингом с его идеями художественного синтеза, отказом от проведения твердых границ между видами и жанрами искусства, и многими другими эстетиками и теоретиками искусства. То, что мимесис не сводится к подражанию формам окружающего нас мира, но подразумевает и подражание эйдосам, было известно еще в классической Античности (вспомним спор о подражании между Аристотелем и его учителем Платоном и знаменитое аристотелевское: «мой учитель – вещи, которые не умеют лгать»). Современное, объемное и многогранное понимание мимесиса содержится в соответствующей статье В. В. из «Лексикона нонклассики»[14]14
См.: Бычков В. В. Мимесис // Лексикон нонклассики. Художественно-эстетическая культура XX века. М.: РОССПЭН, 2003. С. 299–300.
[Закрыть].
Жду Ваших реакций. Н. М.
189. В. Иванов
(29.03–01.04.11)
Дорогие собеседники,
прежде всего хочу кратко откликнуться на реплику Н. Б. Она дает повод для дальнейшего уточнения нашей терминологии. Внутренне размахнулся было на большое письмо, но вот послышалась уже не реплика, а целая речь В. В., радостно взволновавшая своим вниманием к моему любимому детищу – метафизическому синтетизму. Она побуждает меня без промедления приступить к ответу на поднятые в ней вопросы. Но все же начну с реплики.
Я совершенно согласен с Н. Б., что «речь у нас идет о символизации именно в художественно-эстетической сфере». В то же время мне представляется невозможным оградить эту сферу непроницаемой стеной от других сфер, с известным правом также претендующих на обладание тайнами символизации. Но, разумеется, тем строже и тщательней надо защитить понятие символа от интерпретаций, существенно искажающих его подлинный смысл. Основная работа в этом отношении уже проделана. Остается только присоединиться к традиции и в дальнейшем соблюдать предложенные правила игры. Например, «представители точных наук называют употребляемые ими при вычислениях буквы тоже символами. Но мы спутаем весь наш анализ, если будем называть символами буквы, употребляемые математиками в своих математических операциях» (Лосев). Связь между научными понятиями и их знаковыми обозначениями совершенно случайна и носит, согласно Лосеву, отвлеченно-диспаратный характер. Впрочем, если представителям точных наук нравится, то пусть они и впредь говорят о математической и химической символике. «Это, – как выразился Лосев, – нам не помешает». Однако при серьезном разговоре о проблемах символизма не стоит тратить время на опровержение такого использования эстетического термина.
Так же обстоит дело и с тем, что Н. Б. относит к сфере государственной «символики». В этой сфере мы имеем дело (скажу, следуя опять-таки за Лосевым) с точно фиксированными, конвенциональными и общепризнанными в своем значениями знаками, тогда как «символ не имеет точно зафиксированного и конвенционального значения». В этом пункте, однако, в отличие от научной «символики» я допускаю возможность плодотворного разномыслия, принимая во внимание истолкование понятия эмблемы Андреем Белым.
Поэтому не представляется необходимым резко разграничивать сферу художественной символики от эмблематики. «Эмблему можно выполнить художественно, и тогда это будет художественная эмблема» (Лосев).
Еще сложней обстоит дело с тем, что Н. Б. называет «религиозной, ритуально-обрядовой» сферой символизации (ритуал от лат. ritus и означает обряд; лучше было бы писать о сфере культовой – или литургической – символики, поскольку наряду с обрядами (ритуалами) еще большее значение для нее имеют таинства; различие между таинством и обрядом в данном отношении более чем существенно). Я также не отождествлял бы – без уточнений и оговорок – религиозную сферу с культовой (Н. Б. пишет через запятую, что предполагает отнесенность обоих прилагательных к одному существительному: сфере). Религия может обходиться без культа. Культ может репрезентировать более глубокие духовные реальности, чем то, что предлагает религия. Культ и религия находятся в самых многообразных и запутанных соотношениях друг с другом в различных духовно-исторических контекстах. В Православии, например, идет речь о почти полной тождественности культа и религии. Сама религия имманентна культовым формам. В протестантизме религия обходится без культа (в православном и католическом понимании). Ранние формы буддизма никак с культом не связаны. Толстовство принадлежит к сфере религии, но носит принципиально антикультовый характер.
Далее надо учесть наличие мистериальных культов, а также оккультно-эзотерических церемоний, имеющих собственный архетип. Вспомните, как Фауст созерцал магические знаки и к чему это привело. Фауст, медитируя над знаком макрокосма, «faßt das Buch und spricht das Zeichen des Geistes geheimnisvoll aus. Es zuckt eine rötliche Flamme, der Geist erscheint in der Flamme»[15]15
Даю перевод Пастернака: Фауст «берет книгу и произносит таинственное заклинание. Вспыхивает красноватое пламя, в котором является дух».
[Закрыть]. Существуют символы, созерцание которых вызывает реальные переживания духовного мира. Здесь приоткрывается возможность более глубокого понимания природы магически действующих знаков.
Словом, можно предположить, что истоки символизации уходят в культово-мистериальную сферу и уже оттуда начинают инспиративно действовать в мире эстетических ценностей. Скажем с Флоренским, что культура есть производное от культа. Культ – в мистериальном смысле – первичен. Культура – вторична. Автономная культура – проект, ведущий в бездну антикультуры. Залог плодотворности культуры – мистерии, как место связи нашего мира с миром духовным. Хорошо представляю себе, насколько современное сознание далеко отстоит от признания реальности мистериального принципа в сфере культуры, но не менее отчетливо вижу плодотворные результаты его применения в древности (Египет, Вавилон и т. д.).
Не буду углубляться в эту тему… хочу только подчеркнуть динамический характер соотношений архетипов. Все находится в состоянии постоянных и не всегда ясно уловимых метаморфоз. Многое зависит оттого, что можно было бы уподобить астрологическим констелляциям. Каждая эпоха стоит под тем или иным знаком. Это относится к сфере эстетической. Иногда она приближается к культовой сфере, иногда удаляется, иногда входит в энергетическое соотношение с другими «планетами» (архетипами). Астрологическая символика может быть дополнена алхимической (в смысле глубинной психологии Юнга). Тогда надо говорить не о констелляциях и коньюнкциях (также в юнгианском смысле), а о синтезах.
Впрочем, мы уже не раз обращались к этой теме, но меня не оставляет чувство некоторой непроясненности: с одной стороны, вроде бы все ясно, тогда как с другой – всегда готово вспыхнуть пламя взаимных «обвинений». Меня можно упрекнуть в ретроградном умалении автономности эстетической сферы, желании подчинить ее культу, завладеть музейными сокровищами и даже пнуть сапожищем… не помню только: что или кого… был такой пассаж в прошлой переписке. Я – в свою очередь – начинаю по-медвежьему ворчать и коситься на эстетиков, урывающих кровный кусок из литургической сферы… словом, пошло-поехало…
Предлагаю во избежание таких схваток разумный компромисс. Любой архетип предстает для нашего земного сознания в облике антиномическом. Тезис: эстетическая сфера – автономна и независима от других сфер (архетипов). Антитезис: эстетическая сфера – не автономна и входит в общую систему планет-архетипов. Синтез: предоставляется вашему разумению и воображению…
Возвращаясь к реплике Н. Б., еще раз выражаю согласие с ее предложением рассматривать символизацию «именно в художественно-эстетической сфере», но с учетом того, что она «вращается» не в пустом пространстве, а входит в сложно структурированную «солнечную» систему архетипов, взаимно влияющих друг на друга.
Перехожу к следующему пункту.
Н. Б. в своей «реплике» приводит примеры символизации «из разных художественных областей». Я рад примерам и вместе с В. В. признаю необходимость выработки «исторической типологии символизации», но одновременно еще раз хочу отметить, что символизация и выражение не тождественны друг другу и, соответственно, некоторые из примеров Н. Б. не подпадают для меня под категорию символизации. Говоря словами Лосева: «если всякий символ есть выражение, то далеко не всякое выражение есть символ». В этом свете мне было бы трудно усмотреть в творчестве Пикассо («Герника») результат символизации. Думаю, и сам Пикассо не помышлял о символизациях в своей живописи.
Потом мне не ясна логика конструкции «от… до». Допустим, «от Москвы до Петербурга столько-то километров», или «история русской поэзии от Пушкина до Блока», или была в Берлине интереснейшая выставка под заглавием «От Кандинского до Вайбеля», но смысловая связь между мессами Баха и «Герникой» ускользает от моего разума. В еще большей степени теряюсь в догадках: что произошло в истории, начиная от средневековых храмов до кинопроекта Марклея «Часы»? Напрашивается ответ, что произошла катастрофа и полное разложение культуры, но опять-таки прямой (морфологической) связи между готикой и «Часами» как-то не видно.
Ради Бога, не сочтите мои вопрошания за пустые и мелочные придирки. Если мы начали серьезный и экзистенциально важный разговор о символе и символизации, то во избежание последующих недоразумений нужно постараться достичь максимальной ясности и уже потом пуститься в касталийские игры. Меня же смутило в реплике Н. Б. перечисление различных эпох и произведений в качестве примеров символизации в искусстве. В данном отношении подход В. В. представляется мне более дифференцированным. Хочу воздать ему хвалу, но перед этим не могу удержаться от одной цитаты из письма В. В., которая снова возбуждает вопрос: всегда ли понимаем мы друг друга адекватно? В. В. пишет: «Может быть, в портрете Репина (я сейчас не стал бы огульно это утверждать – у него есть и сильные в художественном отношении портреты) и нет художественного символизма, но в «Джоконде» или некоторых портретах Рембрандта (предельно миметических в понимании Вл. Вл.) он несомненно есть». Тут для меня возникает целая серия вопросительных знаков.
Я вовсе не ставил под сомнение художественную ценность живописи Репина, а всего лишь отметил, что она не имеет ничего общего с принципом символизации. Это отнюдь не умаляет ее достоинства при историческом к ней подходе. Другое дело, что реализм XIX в. мне как творческий метод чужд. Не усматриваю я художественного символизма и в «Джоконде», и в портретах Рембрандта. Я никогда не считал их «предельно миметическими», но и символизма в них не нахожу. В отличие от Репина они доставляют мне огромное эстетическое наслаждение (в смысле В. В.).
Как мне представляется, эта цитата показывает всю разницу в нашем словоупотреблении. В. В. подходит к делу, так сказать, монистически, а ваш покорный слуга плюралистически (хотя не отрицает трансцендентного Единства). Но тут-то и приоткрывается возможность полного взаимопонимания в признании плюро-дуо-монизма вершиной символизма в эстетике (сам термин заимствую у Андрея Белого). Я полностью согласен с В. В., что существуют идеальные законы, по которым должно строиться искусство в принципе. Если В. В. называет верховный принцип всех принципов искусства – принципом символизации, то и слава Богу. Прекрасно. Остается только радостно присоединиться при оговорке: конфигурационный закон, по которому «строится искусство в принципе», абсолютно запределен (трансцендентен) и постижим только в своих плюральных и антиномических проекциях, в число которых входит и символизация в понимании традиционных символистов (в том числе и моем). В этом свете мне становятся более понятными «от… и до…» в письме Н. Б. Тогда и у Марклея можно обнаружить символизации… Кстати, горю желанием услышать ваше мнение о его выставке в «Гараже». К сожалению, ничем достойным отплатить вам не сумею: выставочная жизнь в Берлине почти полностью замерла. Музеи предпочитают – коварным образом – делать выставки из своих фондов, экономя тем самым время и, главное, средства. Радует только музыка. Главный дирижер берлинского симфонического оркестра Rattle в последнее время творит настоящие чудеса. Был на его двух концертах («Песнь о Земле» Малера и «Саломея» Рихарда Штрауса в концертном исполнении) и пережил настоящее потрясение.
На этом заканчиваю свою собственную реплику и буду – более основательно и без спешки – трудиться над письмом о принципах метафизического синтетизма (ответ на последнее послание В. В.), но это потребует времени. Поскольку наша переписка снова набирает хороший темп, то не хочется его замедлять. Жанр «реплик» мне очень нравится, и быстрый обмен мнений согревает душу!
С братской любовью и наилучшими пожеланиями всем собеседникам В. И.
190. Н. Маньковская
(04.04.11)
Не лучше ли оставить символизацию символистам? – риторически вопрошает Вл. Вл., подчеркивая, что символизация составляет основу только для вполне определенного вида творчества, имеющего сознательной целью (курсив мой. – Н. М.) создание символов. Такая постановка вопроса провоцирует на обращение к эстетическим взглядам самих символистов (так как о русских говорилось уже немало, хочу сослаться на французских и бельгийских родоначальников этого течения). Думаю, это послужит вполне уместной пропедевтикой к нашей дальнейшей полемике.
«Вселенная – лишь галерея символов». Этот афоризм Теодора-Симона Жуффруа оказался весьма созвучен эстетическим исканиям французских символистов, сосредоточенных вокруг понятий символа, образа, аллегории. Они мыслили создаваемое ими течение как новое Возрождение искусства и художественного творчества, не случайно сравнивая символизм с наконец-то распустившимся бутоном, раскрывшимся цветком. Символизм не задается целью называть и описывать этот цветок; он стремится явить его образ, пронизанный чувством, которое он вызывает. Образ же, по словам Мориса Метерлинка, – коралловое ложе, на котором вырастает остров-символ. Развивая идеи Шеллинга о том, что без прекрасного нет искусства, он утверждает, что нет его и без символа.
В чем же видится эстетическая специфика созданной ими художественной школы самим символистам? Его наиболее существенное отличие от символизма древних они находят в художественном восхождении от конкретного к абстрактному, а не наоборот, как это было в античной Греции. Суть искусства, его высшая эстетическая задача заключается для них в том, чтобы претворить сверхчувственную суть мира, его вселенский символ, идею во внятный человеку символ и развить ее с помощью бесконечных гармонических вариаций. При этом французские символисты делают особый акцент на бессознательном, а не умозрительном характере символизма, подчеркивая, что компас поэта – интуиция. Они исходят из того, что искусство не должно идти в ногу с человеком, оно опережает его, и именно поэтому обращено не к рассудку, а к интуиции.
Преднамеренный, нарочитый символизм, возникающий из сознательного желания облечь в плоть и кровь некую мыслительную абстракцию, уподобляется Метерлинком аллегории: произведение, изначально задуманное как символ, может быть только аллегорией. Бессознательный же символизм, присущий всем гениальным творениям человеческого духа, возникает помимо воли художника, а порой и вопреки ей, превосходя первоначальный замысел: поэт должен ввериться символу, ведь символ – одна из сил природы, и не человеческому разуму сопротивляться его законам.
«Аллегория, как и символ, выражают абстрактное через конкретное, – писал Альбер Мокель. – И символ, и аллегория основаны на аналогии и содержат в себе развернутый образ. Но аллегорией я назвал бы создание человеческого рассудка, аналогия здесь есть нечто искусственное и привнесенное, а не естественное, внутренне присущее, как в символе. Аллегория – это внешнее или аналитическое изображение с помощью образа ЗАРАНЕЕ ОПРЕДЕЛЕННОЙ ИДЕИ, – изображение к тому же условное – потому и внешнее: всякие герои, боги, богини – атрибутика этой условности. Символ же, напротив, предполагает ИНТУИТИВНЫЙ ПОИСК частиц идеального мира, рассеянных в мире форм». Благодаря этому символ являет собой самое совершенное, самое законченное воплощение идеи: «Ни одно слово, ни одна фраза не должны подавлять Идею, которую они призваны воплотить; я чуть было не сказал: вот и вся эстетика» – манифестарно провозглашал Андре Жид в своем «Трактате о Нарциссе (Теория символа)».
Как видим, приоритет интуитивного, а не сознательного характера творчества во французском символизме достаточно очевиден. А как обстоит дело с его глобальной синтезирующей ролью, по сути, с тем «метафизическим синтетизмом», о котором пишет Вл. Вл.? Здесь «в товарищах согласья нет», во всяком случае, полного. Символизм конца XIX в. – ни в коем случае не аллегория и тем более не синтез, энергично утверждает Эмиль Верхарн. Однако большинство символистов во Франции склоняются к мысли о том, что, питая одновременно чувства, душу и ум, символ превосходит аллегорию и сравнение благодаря своей синтезирующей роли; художественное творчество воссоединяет с помощью синтеза то, что было разъято анализом, а такой синтез символизирует конечный этап всей эволюции эстетической идеи, т. е. вселенский эстетический синтез, к которому и устремлены творческие усилия символистов.
В высказываниях французских символистов содержится и своеобразный превентивный комментарий к «искушающей» Вл. Вл. мысли о том, что понятия символа и символизации реально применимы только в сфере действенного культа и его «пробной гипотезе» о неправомерности перенесения культового понятия символа в эстетическую сферу. Так, Жорж Ванор задолго до о. Павла Флоренского еще в 1889 г. писал, по сути, о храмовом синтезе искусств и их символической основе применительно к католицизму. Позвольте мне, друзья, в порядке исключения привести обширную цитату из его работы «Символистское искусство»: «…смысл евангельского учения, его таинств, просто и ясно переданный пластическими средствами, исполненными божественной символики, предстает перед верующими в убранстве храмов и в ритуале богослужений. Соборы, с дверями, распахнутыми на Восток, колокольнями, указующими острыми шпилями в небо, крестообразными нефами с уродливыми бесами на внешней стороне стен и хороводом святых и ангелов внутри; пышные обряды – когда благоухает ладан, звучит орган, возносятся к небу молитвы; проповедь, каждое слово которой настраивает верующего на возвышенный лад; само облачение священника, где каждый предмет имеет особое значение (так пояс одновременно напоминает о веревках, которыми был связан Иисус, и об обуздании чувств); наконец, Распятие – эти распростертые руки, призывающие всех несчастных, и крест, на котором воссияла телесная красота Богочеловека, приумноженная красотой духовной…» И далее Ванор без тени сомнения утверждает, что религия служит неиссякаемым источником поэтического вдохновения благодаря возвышенной красоте своих исполненных символизма обрядов. Тем самым культовое понятие символа вполне органично переносится в художественно-эстетическую сферу.









































