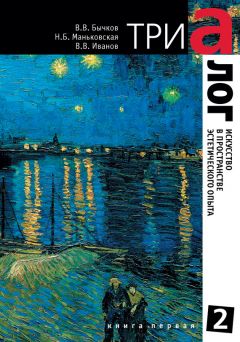
Автор книги: Владимир Иванов
Жанр: Культурология, Наука и Образование
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 14 (всего у книги 43 страниц) [доступный отрывок для чтения: 14 страниц]
199. В. Бычков
(10.09.11)
Дорогая Надежда Борисовна,
Вы даже представить себе не можете, как меня порадовало Ваше прекрасное письмо об эстетике Метерлинка. Этот писатель (так, прежде всего, я его для себя позиционирую, ибо на сцене видел в свое время только его «Синюю птицу», да и то в адаптированном варианте) с юности приятно поразил мою душу. Еще в студенческую пору мне удалось купить в букинисте на Горького (Вы помните, конечно, этот замечательный магазин, где можно было купить очень редкие издания, и одного из старейших его сотрудников, знавшего всю старую и новую литературу) полное дореволюционное собрание сочинений Метерлинка. И я сразу же с упоением прочитал его от корки до корки. Все пьесы, философские сочинения и даже уникальный трактат «Жизнь пчел». Утонченный дух эстетского символизма уязвил тогда мою душу и очень обогатил мое видение искусства в целом.

Обложка книги: Р. Мутер. История живописи в XIX веке. Том III. СПб., 1901

Обложка книги: Сергей Маковский. Страницы художественной критики. Книга первая. Художественное творчество современного Запада.
СПб.: Пантеон, 1909
Именно с тех пор я начал разыскивать всех и всяческих символистов в искусстве. Конечно, я читал уже в это время наших поэтов-символистов. Собственно, они и открыли мне имя Метерлинка. Однако после Метерлинка мне по-новому раскрылись многие тонкие аспекты поэзии Блока, Белого, Соловьева, раннего Пастернака. Я начал читать теоретические статьи символистов и искать книги и статьи по французским художникам-символистам в том же букинисте. И удалось кое-что купить. Тому времени я обязан небольшими, но значимыми для меня книгами по Пюви де Шаванну, Россетти, Сегантини, Борисову-Мусатову, монографиями прекрасных дореволюционных искусствоведов о символистах Я. Тугенхольда и С. Маковского, существенно обогатившими мою библиотеку и мой духовный мир прежде всего. Тугенхольд ввел меня в удивительный мир Пюви де Шаванна. Из замечательной книги Сергея Маковского «Страницы художественной критики. Книга первая. Художественное творчество современного Запада» я впервые узнал о таких художниках, как Бёклин, Клингер, Штук, Карьер, и начал активно разыскивать иллюстрации с их картин (в книге Маковского их не было, но сам его текст привлек мое внимание к ним, и я не ошибся, когда значительно позже познакомился с творчеством этих художников-символистов в оригинале). Тоска по Синей птице какой-то далекой, невидимой, но изысканно прекрасной реальности с юности поселилась в моей душе во многом именно благодаря Метерлинку.

Обложка книги: Яков Тугенхольд. Пювис де Шаванн.
СПб.: Огни, 1911

Обложка книги: Эдуард Берн-Джонс. Серия «Художественная библиотека» (без автора).
М., 1910

Обложка книги: Poccemmu. Серия «Художественная библиотека» (без автора).
М., 1909
Очень рад, что Вы всерьез взялись теперь за его эстетику, по которой, по-моему, до сих пор ничего не написано, и прекрасно изложили ее в концентрированном виде в Вашем письме, которое уже можно публиковать как законченную статью и разворачивать ее в дальнейшем в очень нужную сейчас монографию. Искренне рад. Большое Вам спасибо за доставленную нам духовную радость.
Дружески Ваш В. Б.
Символизм Арнольда Бёклина. Образ Пана в искусстве
200. В. Иванов
(30.06–07.07.11, получено 10.08.11)
Дорогой Виктор Васильевич!
Хотел было без преамбулы – и в простоте сердечной – продолжить свое письмо, прерванное по совестливым соображениям (надо же знать меру!), но вот прошел день-другой… перечитал нацарапанное… и снова задумался: достаточно ли ясно я отвечаю на Ваши вопросы? В одном пункте, вероятно, желательной ясности я все же не достиг. Имею в виду свои попытки дать определение символа в духе метафизического синтетизма. Поэтому мне понятно, почему Вы пишете: «И, честно говоря, никакого "сочетания несочетаемого" у большинства символистов даже из перечисленного выше ряда я не усматриваю»[28]28
Для памяти снова привожу этот перечень: «Бёрн-Джонс, Россетти, Моро, Шаванн, Карьер, Бёклин». С точки зрения метафизического синтетизма перечисленные Вами художники второй половины XIX в. могут именоваться символистами только с большими оговорками и терминологическими уточнениями. В то же время их творчество представляет благодарный материал для метасинтетического анализа, благодаря которому можно выявить элементы более чистых форм символизации. В ходе работы над последними письмами и в связи с желанием более подробно ответить на Ваши вопросы мне стало казаться, что, отталкиваясь от Моро, Бёклина и Редона, можно лучше прояснить сущность метода метафизического синтетизма, т. е. от более нам близкого и понятного перейти к более чистым формам символизации.
[Закрыть]. Совершенно справедливо: у перечисленных Вами художников второй половины XIX в. «сочетания несочетаемого» встречаются редко. В любом случае понятие символа – имплицитно содержащееся в их творениях и гораздо реже эксплицитно-вербально этими мастерами выраженное – и шире, и уже (т. е. более узкое) данного мной в МС.
«Шире» – потому что «сочетания несочетаемого» брались ими из уже готового репертуара образов Античности и Средневековья в качестве лишь одного (и не самого главного) элемента их творческого метода.
«Уже» – постольку, поскольку художники того времени были довольно далеки от онтологически-энергийного понимания символа, которое нашло свое совершенное вербальное выражение у Флоренского: «Символ есть такая сущность, энергия которой, сращенная или, точнее, срастворенная с энергией некоторой другой, более ценной в данном отношении сущности, несет в себе эту последнюю». Это исчерпывающее суть дела определение символа во время написания МС было мне неизвестно[29]29
Да и, к сожалению, не могло быть известно, поскольку эти тексты были опубликованы только в 1990-е гг.
[Закрыть], но приблизительно в таком духе я мыслил символ как сочетание двух «энергий» (двух типов реальностей и т. п.), для внешнего восприятия «несочетаемых» и принципиально раздельных. Надо оговориться, что определение, данное Флоренским, – в конечном счете – приложимо только к сферам литургическо-культовой или магически-оккультной символики. В эстетической сфере оно употребимо только с большими коррективами, уточнениями, а то и вовсе неупотребимо в своей радикальной форме, ибо может привести к опасным двусмысленностям. Мне очень близка мысль Блока о том, что «миражи сверхискусства» лишь мешают подлинному искусству. Думается, что множество логомахических ситуаций и утопических проектов возникло именно в связи с произвольным перенесением мистериального понятия теургии в эстетическую сферу.
Не избежал некоторой двусмысленности и я в своем МС. Чтобы более не плодить терминологических недоразумений, хочу дать более дифференцированное определение символа как сочетания несочетаемого в моем нынешнем понимании.
1. Символ теургически сочетает элементы (энергии), несочетаемые в мире чувственных восприятий. Видимое соединяется с невидимым и становится его носителем. Такой символ – «бытие, которое больше самого себя» (Флоренский).
2. Символ как сочетание несочетаемого в собственно эстетической сфере возникает на основе вышеупомянутого Символа и находится с ним в различного рода соотношениях, но не имеет онтологического характера.
3. Существуют иные виды символизаций кроме тех, которые сочетают (синтезируют) несочетаемое, но также имеющих свою основу в Символе.
В творчестве художников второй половины XIX века мы имеем дело со смешанным типом символизации. В силу эклектического характера многих произведений того времени не всегда легко разобраться в их собственно эстетических достоинствах.
Возьму для примера Бёклина.
Вначале несколько замечаний контекстуально-экзистенциального порядка (разумеется, уместных только в рамках эпистолярного жанра).
С работами Моро я познакомился – по репродукциям – в 1960-е гг. В оригинале увидел его картину «Эдип и Сфинкс» только в 2007 г. Давно собираюсь посетить музей Моро в Париже, но все как-то не получается. А вот Бёклин знаком мне с раннего детства. Рос я в коммунальной квартире на Загородном проспекте, неподалеку от Фонтанки. Одним из таинственных – как мне тогда казалось, – обитателей этой лабиринтно устроенной коммуналки была странноватая на вид женщина, которую все называли в разговорном обиходе артисткой. Кем она была на самом деле – не знаю. Но вероятно, она, действительно, имела отношение к театру. Родители мои с ней близко не общались, но как-то мама взяла меня с собой к этой артистке… повода не помню. И я был – до глубины детской души – поражен необычной обстановкой. Почти всю узкую комнату занимал рояль, над которым висела большая репродукция, изображавшая бородатого человека с палитрой в руке. Он с напряженным вниманием прислушивался к игре на скрипке. Музыкантом же было скелетоообразное существо, прислонившееся к голове слушателя своим зеленоватым черепом. Разумеется, Вы сразу догадались, что речь идет о знаменитой картине Бёклина «Selbstbildnis mit fiedelndem Tod» («Автопортрет с пиликающей на скрипке Смертью») (1872)[30]30
Репродукция этой картины уже дана в «Триалоге plus» (ил. 38).
[Закрыть]. Обратите внимание на глагол «пиликать» (fiedeln). Смерть именно не играет, а пиликает на одной струне, грозящей оборваться в любую минуту: что-то вроде «ити-пити» из предсмертного бреда Андрея Болконского.
Я был поражен и затаил свое переживание, не спросив ни об имени художника, ни о названии картины, и даже не подав виду, что потрясен увиденным…
С мрачноватой символикой смерти к тому времени – рановато, конечно, для шести-семилетнего возраста – я был хорошо знаком. Мама вместе со мной часто посещала могилу своего отца, похороненного на Волковом кладбище в Петербурге. Одна часть его называется Литераторскими мостками (там погребено немало знаменитостей), другая – Немецким кладбищем (там и был похоронен мой дедушка). Большинство захоронений относится к XIX в. Есть там огромные пирамидальные склепы, поросшие мхом, мраморные ангелы с крестами и немало изображений черепов, скрещенных костей и даже скелетов, покоящихся на гранитных постаментах. Поскольку могила дедушки находилась в самом конце кладбища, то мне приходилось довольно долго – крепко держась за мамину руку – идти между старинными надгробиями, бросая искоса – не лишенные смутного страха – взгляды на каменные черепа и пытаясь уловить смысл загадочных надписей. В то же время было понятно, что могильные плиты ясно очерчивали границы между живыми и умершими. Но на картине Бёклина, висевшей в комнате артистки, Смерть явилась как реальное и способное к музицированию существо, в одном пространстве с еще живым человеком, напряженно вслушивающимся в тревожное пиликанье. Это было мое первое знакомство с «сочетанием несочетаемого» в искусстве. Реалистический характер живописи еще только усиливал впечатление жуткой странности от чувства вторжения в жизнь существа иного мира. Именно эта картина зародила в душе наряду с «Одиссеей» и мифом о Гильгамеше – вопреки всему духу тогдашнего воспитания – смутное ощущение того, что реальность не исчерпывается только тем, что видимо глазами и слышимо ушами. Есть еще нечто другое…
Перенесемся теперь в 60-е гг.
Душа была охвачена пафосом обновления в искусстве. Письма Ван Гога и Сезанна читались как Послания апостольские, а книги Ревалда[31]31
«История импрессионизма» и «История постимпрессионизма».
[Закрыть] – по силе своего воздействия – можно было бы уподобить Деяниям апостолов. На Западе героические бои за новые эстетические идеалы к тому времени давно отгремели, тогдашнее искусство решительно встало под знак всесильной коммерциализации, но для меня, отделенного от двусмысленных откровений поп-арта железным занавесом, время постимпрессионистов было – в некотором метафизически окрашенном смысле – еще моим экзистенциальным временем. В такой атмосфере живопись Бёклина казалась безвкусной литературщиной, соединенной с реалистическими приемами письма, против которых бунтовала моя душа. Помню, с какой снисходительной улыбкой я читал о юношеском увлечении Андрея Белого (и это при моем тогдашнем культе этого писателя!) картинами Бёклина: его кентаврами и наядами. Да и сам образ знаменитого швейцарского живописца – в отличие от изысканного чудака Гюстава Моро, безумного гения Ван Гога, таитянского жителя Гогена – воспринимался как воплощение буржуазного довольства и сытого преуспевания на ниве общедоступного искусства. Итак, полное и презрительное отрицание… Кажется, Вы и теперь близки к такому же негативному суждению. Кроме «Острова мертвых» Вы оцениваете бёклиновские произведения как «жалкие потуги к символизации». «Особенно там, где он берется за какие-то аллегорические и мифологические сюжеты». Не буду сейчас это мнение ни оспаривать, ни соглашаться. Просто хочу отметить близость наших вкусовых пристрастий и эстетических позиций, в моем случае подвергшихся сильной коррекции в последнее время благодаря возможности неспешно созерцать картины Бёклина в Берлине (Die Alte Nationalgalerie) и Мюнхене (Neue Pinakothek). Особо следует помянуть грандиозную выставку «Arnold Böcklin. Giorgio de Chirico. Max Ernst. Eine Reise ins Ungewisse» (Nationalgalerie Berlin. 20 Mai – 9 August 1998 – «Арнольд Бёклин. Джорджо де Кирико. Макс Эрнст. Путешествие в неизвестное» (Национальная галерея Берлина. 20 мая – 9 августа 1998). Она принадлежит к тому числу музейных выставок, которые способны существенно изменить рельефы эстетического сознания, перенастроить оптику и открыть новые перспективы для гермневтических процедур. Из самого названия выставки Вы сразу, вероятно, догадались, в чем тут суть дела и где, как говорится, «собака зарыта». Более подробно напишу о ней несколько ниже, чтобы не нарушить логику повествования.
Я бы обозначил мюнхенско-берлинские годы как время созерцательной рецепции Бёклина без малейшего желания объективировать свои переживания в какой-либо вербализованной форме. И вот теперь возник новый контекст: мы принялись рассуждать с Вами о типах символизации и наткнулись при этом на символизм второй половины XIX в. Возник вопрос: как вписывается это течение в классификацию, данную в МС, и там в свое время даже и не упомянутое. Тут уже просто вкусовым суждением «нравится – не нравится», очевидно, не отделаешься: из сферы созерцательной надо войти в сферу, в которой материал уединенных созерцаний подвергается понятийному эстетическому анализу.
При таком подходе творчество Бёклина предстает как многослойное и многосмысленное явление, не поддающееся однозначной оценке. Корни его уходят в добротный немецкий романтизм, а побеги обнаруживаются у Де Кирико и Макса Эрнста. Иными словами, Бёклин – «крепчайшее звено» в той линии развития западноевропейской живописи, которое – в той или иной форме – предпочитало активную имагинацию плосконатуралистическому подражанию природе, воспринимаемой внешними чувствами.
Немного биографических данных, необходимых для прояснения эстетической «генеалогии» швейцарского мастера.
Бёклин родился в Базеле в 1827 г., годом позже, чем Гюстав Моро. Генетика Моро прослеживается легко в силу большей известности французской живописи. С Бёклином дело выглядит несколько сложней, поскольку приходится апеллировать к именам немецких живописцев, к сожалению, менее известных, и оценить которых я смог только после частых хождений в Новую Пинакотеку и берлинскую Национальную галерею (и все равно осталось еще немало «белых пятен»).
Бёклин возрос в атмосфере перекрещивающихся художественных влияний: с одной стороны, его овевал ветер уходящего со сцены романтизма, с другой – дул ветерок набирающего силу реализма. Ко всему прочему, отчетливо ощущались последние веяния героически суховатого классицизма. Все эти элементы в трансформированном виде обнаруживаются в творчестве Бёклина. Поэтому при самом поверхностном знакомстве с его работами – в историческом контексте – становится очевидно, что символизм Бёклина синтетически включает в себя многие противоречивые стилистические элементы. Иногда синтез выглядит гармонично, иногда равновесие утрачено. Стремление к синтезу было заложено в самой трансцендентальной структуре личности швейцарского художника и предопределяло поиски собственного стиля, отражающего противоречивую природу его души.
Основное противоречие заключалось в столкновении идеалистически-романтических элементов душевной жизни Арнольда Бёклина с отчетливой склонностью к реализму, влекущему к окрашенному позитивизмом истолкованию природы. Художник питал слабость к учению Дарвина и с интересом изучал тогдашнее естествознание. Знакомство с – не лишенными своеобразной фантастики – природными формами нередко стимулировало его собственное художественное воображение.
Уже у его первого учителя Иоганна Вильгельма Ширмера (Schirmer) (1807–1863), – основателя дюссельдорфской школы пейзажной живописи – заметно скрещивание противоречивых тенденций. Ширмер был профессором знаменитой Дюссельдорфской академии, основанной в 1819 г. Ее первый директор Петер Корнелиус являл собой возвышенный образ носителя назарейских идеалов, чуждого малейших привкусов набиравших тогда силу реалистических тенденций, выражавшихся у молодых художников в интересе к жанру и пейзажу. В 30-е гг. подули новые ветры, и Шадов, возглавивший академию в 1833 г., уже гораздо терпимее относился к зарождавшемуся реализму. Учитель Бёклина Иоганн Вильгельм Ширмер склонялся к реализму в пейзажной живописи, хотя со временем – в 40-е гг. – в его работах снова появились элементы идеализирующей стилизации (в немалой степени в результате его итальянского путешествия в 1840 г.). От Ширмера Бёклин унаследовал твердое убеждение в том, что только Италия является подлинной родиной живописи и живописцев.
В 1850 г. Бёклин в первый раз отправился в Рим, и с тех пор Италия, действительно, стала его духовно-эстетической родиной. Там он и скончался в 1901 г. (во Фьезоле).
В Италии Бёклин познакомился с Генрихом Дребером (Heinrich Dreber, иногда пишут: Franz-Dreber. 1822–1875), оказавшим самое существенное влияние на сложение бёклиновского мифологизированного символизма.
Дребер был всего лишь пятью годами старше Бёклина, но казался гораздо органичней связанным с уходящим с художественной сцены немецким романтизмом. Будущий творец кентавров и наяд познакомился с Дребером в Италии и был поражен его картинами: на фоне реалистически поданного ландшафта (с элементами романтической идеализации) резвились мифические существа. Этот «синтетический» прием поразил Бёклина, поскольку глубоко соответствовал его собственным художественным интуициям. Дребер был учеником Людвига Рихтера, в 20-е гг. близкого к проживавшим в Риме назареям и затем разработавшим собственную концепцию романтического пейзажа. Рихтер рекомендовал своему талантливому ученику пожить в Италии. Путешествие оказалось возвращением на духовную родину. С короткими промежутками Дребер прожил всю свою жизнь в Италии. Благодаря его влиянию Бёклин приобщился к романтической традиции в ее немецком варианте.
Не вдаваясь более в рассмотрение «генеалогии» Бёклина, нужно отметить только тот факт, что в исходной точке своего собственного творчества он соприкасался с противоречивыми тенденциями, влекущими его от реализма к романтизму, от чистой пейзажной живописи к мифологизированным ландшафтам et vice versa. Было бы ошибочным думать, что Бёклин просто суммировал уже сформировавшиеся направления. В таком случае синтез оказался бы лишь эклектическим соположением. Однако у Бёклина несомненно имелась, говоря словами Достоевского, своя идея: некая изначальная интуиция, коренящаяся в трансцендентальных глубинах личности. Эта идея и побуждала его к синтезу: сочетанию несочетаемых стилистических элементов. Однако эпоха, в рамках которой ему было суждено жить и творить, пронизанная атмосферой, насыщенной ядами набиравшего силу материализма и натурализма, во многом оказала негативное влияние на синтетическое творчество Бёклина.
Поэтому неудивительно, что, входя в залы Новой Пинакотеки или берлинской Национальной галереи, где висят бёклиновские картины, созерцательно настроенного реципиента (т. е. Вашего покорного слугу) охватывает какое-то двойственное или даже, лучше сказать, тройственное чувство, суммирующее в итоге самые противоречивые впечатления. Если попытаться в них разобраться в контексте нашей переписки в этом году, посвященной проблемам символизма, то они дают достаточно материала для постановки вопроса о типе (типах?) символизации(ий), обнаруживаемом в творчестве Бёклина[32]32
В дальнейшем для указания местонахождения анализируемых картин буду пользоваться уже Вам известными аббревиатурами: NP и ANG.
[Закрыть].
Представим для начала, что мы, объединив виртуально NP и ANG, разместили бёклиновские картины в одном зале и имеем возможность перемещаться по нему как нам заблагорассудится. В середине зала лежат на скамейке музейные каталоги, в которые – буде в том необходимость – мы можем заглядывать для наведения биографических и прочих справок. Неплохо время от времени перелистывать и каталог прекрасной выставки, мной упомянутой в начале письма. Конкретные ссылки буду давать только в особых случаях, чтобы не загромождать эпистолярный текст академическими примечаниями.
Теперь подойдем к двум картинам. Пусть они – по нашей воле – будут висеть рядом. Одна называется «Пан в тростнике», другая – «Фавн, подсвистывающий дрозду» («Faun, einer Amsel zupfeifend»), написанная в 1863 г. Это было знаменательное время для художника, время выхода из угнетавшей бедности, принудившей его покинуть любимую Италию и, так сказать, со скрежетом зубовным, переехать в дождливый Базель, а потом в Мюнхен. Душевные потрясения привели Бёклина к тяжелой болезни, так что если припомнить «Автопортрет с пиликающей на скрипке смертью», то становится понятным, из какого рода экзистенциального опыта он возник. Недаром этот «Автопортрет» магически притягательно воздействует на людей, имевших собственный опыт близости Смерти. Таким был, например, отец Шемякина, суровый кавалерист, в течение своей жизни многократно ходивший в атаку с шашкой в руке. К изобразительному искусству он был довольно равнодушен, но никогда не расставался с репродукцией бёклиновского «Автопортрета». Очевидно, не столько из-за его художественных достоинств, сколько из-за родства опыта (хотя, разумеется, в другой форме), воплощенного на холсте с магически-суггестивной силой, заставляющей прислушаться к таинственному пиликанью, раздающемуся у самого уха…
Переезд в Мюнхен положил начало новому периоду в жизни художника. Людвиг I, вытащивший из нищеты Вагнера, помог стать на ноги и Бёклину. Он приобрел – имевшую сенсационный успех на выставке – бёклиновскую картину «Пан в тростнике» («Pan im Schilf». 1859), и с этого времени художник вкусил преимущества признания и славы. Это произведение – почти два метра в высоту и полтора метра в ширину (199,7×152,6) – показалось тогда некоего рода художественным откровением, предтечей которого – в малом формате – был Дребер. Бёклин достиг еще невиданного по своей убедительности сочетания несочетаемых элементов: реалистического и мифологического.
Если «Пан в тростнике» производит мрачновато-меланхолическое впечатление, то картинка с фавном – не что иное (на первый взгляд), как простая жанровая сценка, сдобренная легким юмором. Обе работы дают возможность подойти к рассмотрению проблемы, ради которой я и затеял это письмо: какой тип символизации находит свое выражение в творчестве Бёклина? Этим мне хотелось бы хотя бы частично и на конкретных примерах, которыми я уже, вероятно, утомил своих собеседников, ответить на вопрос В. В.: почему в МС не упомянуто о символистах второй половины XIX в. Теперь, когда я начал свой ответ, то оказалось, что рецептивный материал, накопленный за долгие годы и укрытый в глубинах души, при первом внешнем толчке грозит лавинообразно ринуться на поверхность сознания, требуя воплотить его в вербальные формы. Постараюсь, однако, держаться в границах, предписанных законами эпистолярного жанра.

Арнольд Бёклин.
Пан в тростнике.
1859.
Новая Пинакотека. Мюнхен
Бёклин в конце 1850-х гг. разработал свой способ сочетания несочетаемого, заимствуя при этом по преимуществу свои образы из античной мифологии. По классификации МС, кентавры, фавны и прочие подобного рода существа, созданные из сочетания несочетаемых элементов, относятся к первому типу: астрально-оккультному, отражая тео– и космогонические процессы. В ходе работы над этим письмом (имею в виду первую, – уже отосланную Вам часть, в которой дана генеалогия Сфинкса) мне пришло на ум другое обозначение первого типа символизации как мистериально-мифологического. В принципе оба варианта для меня вполне приемлемы и взаимно дополняют друг друга. Мифологические существа предстают эпопту как астральные имагинации.
Примечательно, что Моро и Бёклин почти одновременно, но как бы с разных концов подошли к проблеме синтезирования разнородных элементов, но и в том, и в другом случае эти художники использовали в своем творчестве античные образы сочетания несочетаемого без того, чтобы задуматься о тео– и космогонических корнях изображаемых ими мифических существ. О Сфинксе уже было сказано. Теперь пришло время Пана и фавнов. Здесь мне представляются неизбежными краткие экскурсы в область древнегреческой и римской мифологии. Предполагаю, что все это Вам прекрасно известно, однако для полноты анализа необходимо злоупотребить Вашим терпением. Как опытные читатели, мои собеседники, однако, всегда могут перескочить глазами через утомительные разжевывания знакомых истин.
Пан – достояние древнегреческой мифологии. Фавны – древнеримской. Можно говорить о них и в единственном числе, поскольку Фавн почитался римлянами как божество полей и лесов, покровитель пастбищ и животных. Он имел и свою женскую ипостась. Римлянам не представлялось противным разуму и житейскому опыту восприниматьфавническое начало воплощенным во множестве отдельных существ. Иногда Фавна в качестве покровителя пастухов отождествляют с Паном, плюс добавляется еще к этому синтезу лесной демон Сильван.
Пан – плод любовного сочетания Гермеса и лесной нимфы Дриопы. В сравнении с генеалогией Сфинкса здесь нет явных хтонических ужасов. Гермес – благостный вестник олимпийских богов, хранитель тайных знаний, психопомп, обладатель магического жезла. Нимфа – невинное существо астрального мира, изживающее себя в лесных чащах. Тем не менее, несмотря на гармонический облик своих родителей, новорожденный младенец привел их в некоторое изумление: он был покрыт шерстью и даже наделен бородой. Припоминается загадочный рисунок Дюрера, также изображающий младенца с бородой. Пан – козлоногий или, говоря более элегантно, он – миксантропичен. В античном мифологическом сознании Пан близок к Дионису и часто сопровождает его во время вакхических процессий. Он весел и влюбчив, как и подобает дионисийскому существу. Но одновременно Пан может быть грозным божеством, наводящим иррациональный страх: панический ужас. Особо опасна встреча с ним в знойный полдень. В любом случае речь идет о реальном существе сверхчувственного мира, открывающего себя людям в природных стихиях «по ту сторону добра и зла». Вполне вероятно, что культ Пана имел и эзотерический аспект. Недаром Пан был сыном Гермеса, и не случайно Сократ обращался к нему с молитвой: «Милый Пан и другие здешние боги, дайте мне стать внутренне прекрасным» (Федр, с. 279)[33]33
Молитву Пану Сократ совершил за стенами Афин у святилища нимф и Ахелоя, отца сирен и других мифических существ.
[Закрыть]. Эзотерический смысл имела и традиция изображения силенов, внутри которых прятали изваяния богов[34]34
Сократа Алкивиад находил похожим на силенов, «какие бывают в мастерских ваятелей и которые художники изображают с какой-нибудь дудкой или флейтой в руках. Если раскрыть такого силена, то внутри у него оказываются изваяния богов» (Пир 215 Ь).
[Закрыть].
Начиная с эпохи Возрождения Пан и родственные ему фавны, сатиры и силены снова – после долгой средневековой паузы – соблазнительно захватили воображение западноевропейских художников. Бёклин, обращаясь к образу Пана, имел за собой уже многовековую традицию и обогатил ее новыми акцентами. Если хтоническая символика Сфинкса казалась трудно постижимой, то смысл фавнических образов представлялся более доступным, символизируя силы, с природной мощью действующие в европейском сознании. Образ фавна сочетал несочетаемые элементы: нижняя часть туловища и ноги – козлиные с копытами, верхняя часть – человеческая, хотя на голове растут козлиные рожки. Однако такое эстетически переживаемое сочетание высокоразвитого интеллекта с не менее развитой чувственностью европеец Нового времени находил – кто с радостью, кто со страхом – в самом себе. Средневековая система моральных ценностей только обострила конфликт между природным (звериным) и духовным началами в человеке. Если античность ощущала «фавна» прежде всего как природную силу, то для европейца козлоногое существо казалось убедительной проекцией своего собственного внутреннего мира, раздираемого непримиримыми противоречиями.
Природа требовала свое, и художники отзывались на ее двусмысленный зов. Они не сумели, однако, создать никаких новых «синтезов», а просто воспользовались уже готовым материалом. Здесь затрагивается вопрос о смысле перенесения символических образов из одной культуры в другую. Вот, например, картина Пуссена «Триумф Пана» (Национальная галерея, Лондон). На ней изображен буйный вакхический хоровод. В бешеном танце мчатся менады, нимфы и сатиры. А где же Пан? Слегка сдвинутая от центра в глубине композиции стоит небольшая герма с бюстом Пана. Из головы его торчат маленькие козлиные рожки. Ни вида, ни величия. Но именно он вдохновляет участников оргии к диким выходкам. Если присмотреться внимательней, то замечаешь на переднем плане тамбурин и две маски: античную маску сатира и вопреки античному антуражу – маску Коломбины. Чуть поодаль еще одна маска: также персонажа итальянской комедии дель арте – Пульчинеллы. Все это лишает композицию однозначно «языческого» характера, превращая ее в изображение театральной сценки, своего рода веселой пародии на античную тему. Немаловажно учесть и исторический контекст, в котором создавалась картина Пуссена. Заказал ее не кто иной, как кардинал Ришелье для своего замка в Пуату. Художник был извещен, что его произведение будет помещено в пышно раззолоченном зале вместе с картинами Мантеньи, Перуджино, Лоренцо Коста и античными бюстами. Этим объясняется и яркий колорит «Триумфа Пана».
Другая картина Пуссена, «Вакхический хоровод», написанная несколько раньше (1633), также производит впечатление театрально-хореографической сценки. Образ Пана композиционно более выделен, чем в «Триумфе». Опять-таки это герма, увитая венками. У ее подножия разыгрывается эротическая игра: коричневый от загара фавн (сатир) пытается обнять нимфу, весело и лукаво сопротивляющуюся его ласкам. Этот мотив в самых различных вариациях является наиболее характерным в «пан-фавнической» иконографии Нового времени.
Нередко западноевропейские художники вдохновлялись мифом, почерпнутым из «Метаморфоз» Овидия: Пан влюбился в нимфу Сирингу. Преследуемая стихийным божеством, она предпочла превратиться в тростник. Опечаленный Пан сделал из тростника свирель (по-гречески это и было вначале имя прекрасной нимфы). На этом незамысловатом инструменте он изливал свои жалобы на отвергнутую любовь. Впоследствии свирель получила широкое распространение среди пастухов, которым Пан оказывал свое покровительство. Увлеченность свирелью у Пана была настолько велика, что он не побоялся вызвать на музыкальное состязание самого Аполлона.
Обращался к теме Сиринги и Пуссен. Картина была написана в 1637 г.; теперь она хранится в Дрезденской галерее. Изображен момент бегства нимфы от преследующего ее Пана. Сиринга пытается обрести защиту у речного бога Ладона, на берегах реки которого ей предназначено превратиться в тростник. Сцена преследования явно носит хореографический характер. Динамичные позы и жесты главных героев напоминают движения грациозных танцоров эпохи классицизма. Собственно мифологический момент как бы отодвинут на второй план. Смуглое – миксантропическое – тело Пана выгодно подчеркивает изящество пропорций преследуемой им нимфы, но не производит чрезмерно «панического» эффекта, даже несмотря на свою козлоногость. Эффект чудовищности мифического сочетания несочетаемостей явно не входил в рамки эстетики благородно сдержанного классицизма. Зато с тем большим чувством выписаны фигурки маленьких амуров, без которых вся сцена явно утратила бы свой мифический колорит. Один из амуров витает над головой Пана с крошечным факелом. Двое других, уютно усевшись на берегу, с интересом, но без страха, наблюдают за происходящим.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































