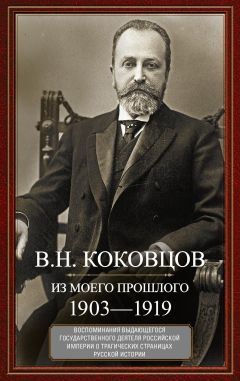
Автор книги: Владимир Коковцов
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: 16+
сообщить о неприемлемом содержимом
Глава IV
Возвращение в Петербург. – Отставка графа Витте и назначение И. Л. Горемыкина. – Моя беседа с Горемыкиным и прием меня государем. – Условия, при которых я был назначен министром финансов. – Открытие государем в Зимнем дворце Государственной думы и Государственного совета. – Прием меня императрицами Александрой Федоровной и Марией Федоровной. – Открытие Думы в ее помещении
Вернулся я из моей поездки в Париж 19 апреля утром.
Не успел я разобраться с вещами и повидать своих, как в то же утро я получил письмо от Ивана Логгиновича Горемыкина, жившего в двух шагах от меня на той же Сергиевской улице. До этого письма я не видал буквально никого, не успел просмотреть и газет за последние дни, не говоря уже о том, что за все время моего пребывания в Париже я только урывками следил за русскою прессою и был положительно вне всего, что делалось дома, и шел к Горемыкину в полной неизвестности того, зачем он меня зовет.
Без всяких предисловий он сказал мне, что государь с нетерпением ждет моего возвращения и просил его, как избранного им на место увольняемого от должности председателя Совета министров графа Витте, занять его место и составить новое министерство, в которое, по желанию государя, не должен войти никто из сотрудников Витте. Он предваряет меня, что государь остановил на мне свой выбор для должности министра финансов.
От себя Горемыкин прибавил, что он горячо поддерживает желание государя, которое только опередило его собственное желание, которое он непременно высказал бы, если бы государь не начал с того, что он именно желает видеть меня на этом посту.
Я немедленно же стал доказывать Горемыкину, что решительно не могу принять этого назначения, так как всего семь дней отделяет нас от открытия новой Государственной думы, а я более полугода нахожусь вне текущей государственной работы и не знаю решительно ничего о том, что подготовлено для Думы, знаю только, что выборы, по всем признакам, дадут определенно враждебное всякому правительству настроение в представителях народа, что при таком условии конфликт между правительством и новым законодательным аппаратом неизбежен, и какое бы министерство ни было составлено, оно не будет в состоянии работать и должно будет уйти, если только сразу же государь не встанет на путь роспуска Думы.
Я всячески доказывал, что лучше всего было бы оставить прежний состав министерства, приготовившего выборы, и сберечь новые силы для будущего, когда сколько-нибудь выяснится обстановка совместной работы с новыми законодательными учреждениями.
Не выходя из своего обычного безразличия, Горемыкин мало опровергал мои аргументы и сказал мне только, что государь не доверяет прежнему министерству, положительно не желает сохранить никого из его состава в новом Совете, хотя отдельные лица, как, например, Шипов, ему лично симпатичны, и просит меня все, что я ему сказал, лично доложить государю, так как мое назначение предрешено им, и он не в состоянии исполнить моего желания и лично положительно отказывается от передачи моей просьбы его величеству.
Все объяснение Горемыкина со мною оставило во мне самое тяжелое впечатление и только укрепило меня в необходимости так или иначе, но уклониться от участия в составе правительства под его председательством. Наиболее характерным показался мне его ответ на мое замечание, что проводить в Думе должно свои законопроекты то правительство, которое их подготовляло, так как трудно представить себе, чтобы новый состав мог защищать те предположения, которые могут совершенно не соответствовать его взглядам, начинать же законодательную работу с того, чтобы брать назад то, что внесено, просто неполитично и только в состоянии дискредитировать власть перед новым народным представительством.
С полной невозмутимостью Горемыкин заметил мне, что я просто заблуждаюсь, предполагая, что правительство графа Витте подготовило что-либо для новых палат и что Государственная дума станет заниматься рассмотрением внесенных ей проектов. «Вот у меня на столе лежит список дел, представленных в Думу, который доставил мне Н. И. Вуич (управляющий делами Совета министров), – полюбуйтесь им». Список оказался совершенно чистым, ни одного дела в нем, [которым] предполагалось заняться после открытия Думы, имея в виду, что немало времени уйдет на организационную работу Думы и нового Государственного совета.
Впоследствии оказалось, что в первые дни по открытии Думы только Министерство народного просвещения внесло за подписью П. М. фон Кауфмана-Туркестанского два представления об устройстве прачечной и о ремонте оранжереи при Дерптском университете, послужившие предметом немалых насмешек со стороны ораторов Первой Думы.
Но всего характернее было заявление Горемыкина о том, что я просто не в курсе наших внутренних дел, предполагая вообще, что Дума будет заниматься какою-либо работою, для которой нужно взаимодействие ее с правительством. «Она будет заниматься, – сказал он, – одной борьбой с правительством и захватом у него власти, и все дело сведется только к тому, хватит ли у правительства достаточно силы и умения, чтобы отстоять власть в тех невероятных условиях, которые созданы этою невероятною чепухою, – управлять страною во время революционного угара какою-то пародией на западноевропейский парламентаризм».
Его слова оказались пророческими. Провожая меня, он сказал совершенно спокойно: «Вот если вы убедите государя оставить вас в покое, – вы увидите скоро, во что обратится наша работа, а если государь, как я надеюсь, убедит вас не оставаться в положении завидного созерцателя наших мучений, – тогда нам придется нести вместе наш крест, и я уверен, что не нас одолеют, а мы одолеем, и все скоро поймут, что в таком сумбуре нам просто жить нельзя».
В тот же день я написал письмо государю о моем возвращении и просил разрешить мне представиться ему для доклада о результатах моей поездки. Это письмо ушло с утренним фельдъегерем на другой день, т. е. 20-го числа, а уже вечером я получил мое донесение обратно с надписью государя: «Радуюсь видеть Вас послезавтра, 22-го в два часа дня. До скорого свиданья».
В тот же день, то есть 19-го, я заехал к графу Витте, которого застал за разборкою бумаг перед выездом из Зимнего дворца, и первыми словами его были:
«Перед вами счастливейший из смертных. Государь не мог мне оказать большей милости, как увольнением меня от каторги, в которой я просто изнывал.
Я уезжаю немедленно за границу лечиться, ни о чем больше не хочу и слышать, и представляю себе, что будет разыгрываться здесь. Ведь вся Россия – сплошной сумасшедший дом, и вся пресловутая передовая интеллигенция не лучше всех». О моей поездке он меня не хотел и расспрашивать, сказал только: «В другое время я не знал бы, какую награду просить государя дать вам за то, что вы успели сделать. Ведь вы достигли совершенно невероятного успеха, а теперь все это пойдет прахом при том сумбуре, который водворится в России. Не Иван же Логгинович управится с этим разбушевавшимся морем?»
До моего свидания с государем я почти никого не видал. Шипов приехал только повидаться со мною на несколько минут и вовсе не говорил со мною ни о чем. Он показался мне особенно озабоченным своим личным положением, так как знал уже от графа Витте, что никто из прежних министров не войдет в состав нового кабинета, а на мое сообщение ему, что я предположен снова к занятию поста министра финансов, но буду просить государя освободить меня от этого и даже, зная, что государь о нем очень хорошего мнения, позволю себе высказать ему, что самое простое решение состояло бы в сохранении его на этом месте, на что он также просто сказал, что не думает, чтобы эта комбинация была принята Горемыкиным, но будет счастлив, если государь убедит меня вернуться в министерство, где меня все ждут и за шесть месяцев его управления только и говорили на каждом шагу: «Так было при Владимире Николаевиче».
Все свободные минуты за эти два дня я посвятил просмотру газет, чтобы составить себе хоть самое поверхностное представление о том, что делается в России и как определяется преобладающее настроение перед созывом Думы.
Впечатление получилось у меня самое печальное, «Русские ведомости», «Русское слово» и, в особенности «Речь» совершенно открыто вели ту самую «осаду власти», о которой мне говорил Горемыкин, и проповедовали, что настала пора взять власть в руки народного представительства и только после этого может начаться настоящая законодательная работа, для которой нужно и правительство, ответственное перед палатою и руководимое ею.
«Новое время» занималось больше полемикою с «Речью», но само, видимо, не знало, на какой ноге танцевать. Его передовицы были совершенно бесцветны и противоречили себе на каждом шагу; и даже оплот консерватизма Меньшиков все твердил о силе и власти народного представительства и сводил какие-то мелкие личные счеты, не раз упомянув и обо мне, не то в ироническом, не то просто в обычном для него, год перед тем, недоброжелательном тоне.
«Гражданин» изощрялся в полемике с графом Витте и зло и страстно критиковал его отношение к либеральным кругам и заигрывание с рабочими, но не говорил решительно ничего ни о новом кабинете, ни о том, как смотрит он на создавшееся положение.
В его последних дневниках проскальзывала, однако, в виде прозрачных намеков вера в то, что государь, конечно, остановит свой выбор на испытанных и верных ему слугах и не сделает больше той ошибки, которая была сделана в октябре, – искать каких-то новых людей в угоду каким-то общественным течениям.
Государь принял меня в Царском Селе с удивительною приветливостью, превосходившей по своим проявлениям все, к чему он так приучил меня. Даже дежурный камер-лакей не просил меня обождать в приемной, а сказал, что «его величество ожидает вас и приказал просто ввести в кабинет, когда вы придете. Они даже спрашивали уже, не приехали ли вы».
Первыми словами государя, после того, как он обнял и поцеловал меня, были: «Я не стану вас благодарить потому, что у меня не хватило бы для этого слов, но вы и без них знаете, какую услугу оказали вы России тем, что сделали, и в такую тяжелую пору и при таких неблагоприятных обстоятельствах. Я следил за каждым вашим донесением, и Витте, и Шипов присылали мне копии со всех ваших телеграмм.
Эти телеграммы были для меня, пожалуй, единственным отрадным явлением за все время вашего пребывания за границей, настолько все остальное печально и внушает мне самые большие опасения.
Вы, вероятно, также следили за всем, и я не стану говорить, как смутно все, что нас ожидает, и с какими трудностями придется еще бороться, прежде чем мы выйдем на дорогу. Я не хочу, впрочем, распространяться об этом сейчас, у нас будет опять время часто и подолгу говорить обо всем, но я хочу сказать вам только прежде всего, что, кажется, и ваш главный „друг“, граф Витте, окончательно растаял потому, что он не уставал повторять мне при каждом случае, что он не думал, что вам удастся достигнуть того результата, которого вы достигли, и все твердил мне, что я должен особенно отличить вас наградою.
Конечно, он всегда верен себе, и однажды даже сказал мне, что вы совершенно напрасно ушли из министерства в октябре и не послушались его просьбы остаться на месте, так что я даже должен был напомнить ему об обстоятельствах вашего ухода, вызванного исключительно его желанием.
Представьте себе, что он сделал вид, что никаких с вами недоразумений у него не было, и, видимо, совершенно забыл, что не кто другой, как только он, помешал мне назначить вас председателем Департамента экономии. Теперь об этом не стоит больше говорить, потому что я окончательно расстался с графом Витте, и мы с ним больше уже не встретимся».
Это были последние слова государя по поводу моего пребывания за границею, и он перешел к тому вопросу, которого я ждал с таким смущением.
«Поговоримте теперь о другом. Я сказал уже Ивану Логгиновичу, что хочу просить вас опять занять место министра финансов, чему он очень обрадовался, и я просил его даже предварить вас об этом, зная наперед, что я могу всегда рассчитывать на вас».
Я развил государю мои соображения, высказанные Горемыкину, и сделал это яснее и подробнее, чем говорил старику, начав с того, что в такую минуту, какую предстоит пережить, не мне ставить государя в какое-либо затруднение, если бы он признал мои соображения не отвечающими его мыслям, и что и на этот раз, как и всегда, я отдаю себя в его полное распоряжение, но думаю, что именно в его интересах не останавливать выбора именно на мне и сохранить меня для той поры, когда нужно будет думать о нормальной работе, а не о бесцельном отражении неизбежной атаки революционно настроенных учреждений и о неизбежном роспуске Думы в самом начале ее деятельности, который только даст новый толчок к революционным эксцессам и подведет под них новый фундамент.
Неоднократно во время нашей, почти часовой, беседы государь выражал мне его надежду на то, что Дума, встретившись с ответственною работою, может быть, окажется на самом деле менее революционною, нежели я ожидаю, и, в особенности, что земские круги, которым, по-видимому, будет принадлежать руководящее значение в Думе, не захотят взять на себя неблагодарную роль быть застрельщиками в новой вспышке борьбы между правительством и новым народным представительством.
Оговорившись, что, отсутствовав долго в России, я утратил мою осведомленность и могу ошибаться, я позволил себе сказать государю, что в таком случае мне кажется, что выбор нового председателя Совета министров едва ли соответствует потребностям минуты.
Государь просил меня высказаться яснее, почему считаю я Горемыкина мало подходящим для настоящей минуты, и предложил быть совершенно откровенным, нисколько не стесняясь тем, что его решение уже состоялось. Беседа наша на эту тему затянулась, и я не обинуясь высказал государю все мои опасения относительно того, что личность Ивана Логгиновича, его величайшее безразличие ко всему, отсутствие всякой гибкости и прямое нежелание сблизиться с представителями новых элементов в нашей государственной жизни – все это не только не поможет сближению с ними, но послужит скорее лозунгом для усиления оппозиционного настроения.
Государь слушал меня совершенно спокойно, мало возражал мне и сказал только под конец, что я, может быть, и прав, но изменить теперь уже нельзя, так как он сделал Горемыкину предложение и отменить его более не может, но совершенно уверен в том, что Горемыкин и сам уйдет, если только увидит, что его уход поможет наладить отношения с новой Думою. «Для меня главное, – сказал государь, – то, что Горемыкин не пойдет за моею спиною ни на какие соглашения и уступки во вред моей власти, и я могу ему вполне доверять, что не будет приготовлено каких-либо сюрпризов и я не буду поставлен перед совершившимся фактом, как было с избирательным законом, да и не с ним одним».
От государя же я узнал, что состав выбора кандидатов тоже совершенно предрешен, кроме выбора кандидата на должность министра финансов.
Он назвал мне Столыпина для Министерства внутренних дел, Стишинского для Министерства земледелия, князя Ширинского-Шихматова для должности обер-прокурора Святейшего синода, Шванебаха для Государственного контроля, Щегловитова для Министерства юстиции и Извольского – для Министерства иностранных дел; о других ведомствах государь не упомянул.
К моему личному вопросу он отнесся чрезвычайно просто и спокойно. «Вы знаете, – сказал он, – как отрадно мне снова видеть вас около себя, но я понимаю все ваши соображения и совсем не хочу заставлять вас идти против вашего желания, хотя совершенно уверен в том, что вы мне не откажете, если только я скажу вам, что я этого определенно желаю.
При том, как вы смотрите на предстоящую работу с Думою, конечно, лучше приберечь вас для будущего и не сводить вас лицом к лицу с новыми людьми, которые, пожалуй, даже не простят именно вам, что вы оказали такую услугу заключением нового займа, за который они открыто поносят именно вас, и я предоставлю вам пока отдохнуть, но знайте заранее, что мы будем теперь часто видеться с вами, и кто бы ни был назначен министром финансов, я всегда буду вызывать вас к себе при малейшем сомнении».
Государь просил меня сказать ему, кого следовало бы назначить министром финансов вместо меня. Я указал на Шипова, приведя те же доводы, какие я привел Горемыкину, прибавив, что для переходного времени он был бы самым подходящим кандидатом, скромным, чрезвычайно вежливым и даже угодливым перед Думою, и из-за него не вышло бы никаких осложнений ни с кем, так как он не может служить мишенью для чьего бы то ни было неудовольствия, а усугублять последнее просто неполитично, ибо и без того будет немало поводов ко всякого рода трениям.
Провожая меня до дверей, государь спросил меня как бы невзначай, не нуждаюсь ли я в деньгах, после продолжительного пребывания за границею, и сказал, что ему было бы очень приятно пойти мне навстречу. Меня очень удивило это предложение, так как я никому не говорил ни одного слова о моем материальном положении, да оно и не заботило меня; я мог хорошо жить на то, что было мне назначено при отставке. Я горячо поблагодарил государя за его милостивое отношение ко мне, попросил его не беспокоиться обо мне, так как мое материальное положение было вполне удовлетворительно, и на этом кончилась моя продолжительная аудиенция.
Прямо от государя я проехал к Горемыкину, передал ему все до мельчайшей подробности; он, видимо, подчинился решению государя освободить меня и, не уговаривая больше, совершенно спокойно расстался со мною, и мы не видались с ним более до самого момента открытия Думы в Зимнем дворце 26 апреля.
Все три дня до этого события я провел дома, среди семьи и близких, мало кого видел посторонних, а те, которые заходили ко мне, знали уже, что я свободен от участия в новом составе правительства, и все поздравляли меня, кто искренно, кто с известными оговорками.
В числе последних был и близкий друг графа Витте, князь Алексей Дмитриевич Оболенский, который совершенно откровенно сказал мне, что Витте просил его расспросить меня осторожно, удалось ли мне отбояриться, и не поверил, когда я сказал ему, что государь очень милостиво освободил меня от назначения.
Князь Оболенский немало удивился такому исходу и прибавил, что как граф Витте, так и он сам думали, что я только «поломаюсь, как Годунов, на самом же деле охотно полезу в петлю».
Зная близость Оболенского к графу Витте, я рассказал ему и о сделанном мне государем предложении относительно денег и просил его довести о моем отказе до сведения Витте. Я не сомневаюсь ни на одну минуту, что он выполнил мою просьбу, но это не помешало графу Витте впоследствии в его мемуарах написать, что, вернувшись из-за границы, я просил у него через Шипова о выдаче мне 80 000 рублей, но он мне в этом отказал, находя мою просьбу возмутительной. Впрочем, не одну эту неправду на мой счет можно прочитать в мемуарах графа Витте.
Поздно вечером 25 апреля мы сидели дома среди немногих близких людей и рассматривали план нашей новой квартиры на Моховой, которую спешно готовили для нас во время нашего пребывания за границей, а днем того же числа я получил согласие моего домовладельца на Сергиевской освободить меня от контракта, так как у него нашелся близкий человек, охотно взявший мою квартиру.
Знакомые наши собирались уже было уходить по домам, когда раздался звонок, и мне подали конверт от Танеева и в нем указ о моем назначении министром финансов, с приложением церемониала открытия государем в Зимнем дворце Государственной думы и Государственного совета.
Первым движением моим было позвонить по телефону Горемыкину и спросить его, что все это обозначает, но мне никто на повторные мои звонки не ответил, и я встретился с моим новым председателем Совета министров, как и с моими новыми коллегами, только в Зимнем дворце, куда мне пришлось, таким образом, явиться в неожиданном для меня положении министра финансов, против всякого моего желания и вопреки надежде моей на то, что эта чаша миновала меня.
Встретившись со мною при входе в тронную залу, Горемыкин, как ни в чем не бывало, просто сказал мне: «Вы, конечно, обвиняете меня в том, что я подвел вас, обещав вам не настаивать перед государем на вашем назначении, а на самом деле настоял на этом, пользуясь тем, что я хорошо знаю, насколько вы преданы царю и готовы исполнить его волю.
Государь мне сказал два дня тому назад, что он согласился освободить вас от удовольствия идти под расстрел и хочет приберечь вас для будущего, и спросил меня, почему бы не оставить пока Шипова на вашей прежней должности.
Я ничего не имею против Шипова лично, хотя убежден в том, что ему не справиться в этой новой роли, но нельзя отступать от принятого решения – не оставлять никого из прежнего состава, а другого кандидата у меня положительно нет, и я не вижу, почему нужно оставлять вас в привилегированном положении, когда я сам был бы только счастлив оставаться там, где я был. Государь сказал мне на это: „Пусть и Владимир Николаевич последует вашему примеру“ – и подписал привезенный мною к нему указ, прибавив, что если вам станет невмоготу, то вы всегда можете впоследствии исполнить ваше желание вернуться в Государственный совет».
Всякие дальнейшие разговоры между нами на эту тему были совершенно бесполезны, и мне пришлось занять мое место по правую сторону трона, среди моих новых коллег, которые встретили меня впервые после нашей длинной разлуки, так как никого из них я не видел после моего возвращения из-за границы.
А люди тут были все давно знакомые: Кауфман-Туркестанский, Щегловитов, Стишинский, Шауфус, назначенный министром путей сообщения косвенно по моему указанию, так как при первом моем свидании Горемыкин спросил меня, кого я считал бы более подходящим для этого места – инженера ли Шауфуса или князя Голицына, управляющего Экспедицией заготовления государственных бумаг, про которого ему говорят, что он весьма энергичный и дельный человек.
Первого я знал мало, а второго знал хорошо по его службе в Министерстве финансов и сказал только, что я просто не понимаю, как можно брать в такую пору на ответственную должность человека, хотя бы и архиэнергичного, но не имеющего никакого понятия о деле, которым он никогда не занимался. Этого было достаточно для того, чтобы тут же решить судьбу ведомства путей сообщения к моменту образования нового кабинета.
В числе моих новых коллег были и такие, которых я совсем не знал, и в частности – новый обер-прокурор Святейшего синода князь А. А. Ширинский-Шихматов.
Его политический облик был, однако, настолько хорошо известен, что новый государственный контролер Шванебах тут же подошел ко мне и, поздравив меня в привычной ему шутливой форме с тем, что мне «не удалось сбросить с себя хомута, который, вероятно, скоро намнет всем нам немалые мозоли, если даже не свернет кое-кому из нас шею», заметил, что ему кажется «как будто бы не совсем понятным состав нового правительства и присутствие в нем немалого количества элементов не слишком нежно расположенных к идее народного представительства и едва ли способных внушить особое к себе доверие со стороны последнего».
Я успел только ответить ему, что с этой точки зрения, пожалуй, что и все мы принадлежим к тому же разряду, начиная с нашего председателя, как стали постепенно подходить особы Императорского дома, и нам пришлось прекратить наш беглый разговор.
Странное впечатление производила в эту минуту тронная Георгиевская зала, и думалось мне, что не видели еще ее стены того зрелища, которое представляла собою толпа собравшихся.
Вся правая половина от трона была заполнена мундирною публикою, членами Государственного совета и – дальше – Сенатом и государевою свитою.
По левой стороне, в буквальном смысле слова, толпились члены Государственной думы, и среди них – ничтожное количество людей во фраках и сюртуках, подавляющее же количество их, как будто нарочно, демонстративно занявших первые места, ближайшие к трону, – было составлено из членов Думы в рабочих блузах, рубашках-косоворотках, а за ними толпа крестьян в самых разнообразных костюмах, некоторые в национальных уборах, и масса членов Думы от духовенства.
На первом месте среди этой категории народных представителей особенно выдвигалась фигура человека высокого роста, в рабочей блузе, в высоких смазных сапогах, с насмешливым и наглым видом рассматривавшего трон и всех, кто окружал его. Это был впоследствии снискавший себе громкую известность своими резкими выступлениями в Первой Думе – Онипко, сыгравший потом видную роль в Кронштадтском восстании. Я просто не мог отвести моих глаз от него во время чтения государем его речи, обращенной к вновь избранным членам Государственной думы, – таким презрением и злобою дышало это наглое лицо.
Мое впечатление было далеко не единичным. Около меня стоял новый министр внутренних дел П. А. Столыпин, который, обернувшись ко мне, сказал мне: «Мы с вами, видимо, поглощены одним и тем же впечатлением, меня не оставляет даже все время мысль о том, нет ли у этого человека бомбы и не произойдет ли тут несчастия. Впрочем, я думаю, что этого опасаться не следует, – это было бы слишком невыгодно для этих господ и слишком было бы ясно, что нам делать в создавшейся обстановке».
Но было и другое, глубоко запавшее мне в душу впечатление, оставившее во мне след, – это впечатление о том, что переживала императрица-мать во время чтения государем его тронной речи. Она с трудом сдерживала слезы, переводя глаза с государя на толпу, почти подступившую к трону, как будто она искала среди этой толпы знакомых лиц, которые успокоили бы ее и разгоняли ее тяжелые думы.
Императрица Александра Федоровна стояла рядом с нею, внешне спокойная, но глубоко сосредоточенная, и стоявший около меня министр двора барон Фредерикс после окончания тронной речи, когда все стали выходить, сказал мне по дороге по-французски: «Хотел бы я знать, что думала сегодня императрица Александра Федоровна, но никто из нас никогда этого не узнает, и только государю она доверит то, что произошло в ее душе».
Несколько дней спустя я представлялся обеим императрицам по случаю моего возвращения в Министерство финансов. Императрица Александра Федоровна сказала мне только, что она знает, что я просил государя не назначать меня, и вполне понимает, что у меня слишком много причин не желать этого, но «ведь теперь всем так тяжело, – сказала она, – что всякий должен принести свою жертву и сделать то, что он может».
Совсем иной прием оказала мне императрица-мать. Она начала с того, что видела меня во время этого «ужасного приема», как выразилась она, и не может до сих пор успокоиться от того впечатления, которое произвела на нее толпа новых людей, впервые заполнивших дворцовые залы. «Они смотрели на нас, как на своих врагов, и я не могла отвести глаз от некоторых типов, – настолько их лица дышали какою-то непонятною мне ненавистью против нас всех», и спросила меня затем, как я смотрю на возможность работы правительства, с таким составом Думы, и почему оказалась в нем такая масса духовенства и притом совершенно никогда не виданного ею типа «серых батюшек», как выразилась она.
Я сказал ей на этот раз очень немногое, потому, что и сам только что вернулся из-за границы, и могу судить только по беглым впечатлениям, заимствованным из чтения газет и из разговоров с немногими близкими мне людьми, которые следили за ходом выборов в Государственную думу.
По всему этому у меня сложилось убеждение, что при декабрьском избирательном законе иного состава членов Думы нельзя было и ожидать, что преобладающий характер выборных принадлежит к оппозиционным элементам в стране, настроенным совершенно враждебно и к правительству, и к новому строю законодательства, явно не отвечающему их стремлению ввести разом в России парламентский строй с решительным ограничением власти монарха и с насаждением у нас такого внутреннего порядка и таких свобод, с какими не совладает никакое правительство, и высказал мое опасение, что работать с такою Думою едва ли окажется возможным.
На такое мое заключение императрица сказала мне просто: «А что же в таком случае будет дальше?»
Я ей ответил, что прошу не принимать моих слов за безусловно правильный вывод из создавшихся условий, которые, быть может, кажутся мне хуже, чем следует ожидать, и выждать, как станут слагаться события, но по общему моему выводу следует ожидать, во всяком случае, немедленного проявления самых резких выступлений Думы в смысле оппозиционных требований к правительству, и тогда нужно будет решиться на одно из двух: либо на введение у нас полного парламентского строя и в этом случае на передачу власти не старым слугам государя, а совершенно новым людям, выполняющим не его волю, а волю общественного настроения, либо – на роспуск Думы, и в этом случае нельзя не предвидеть, что при нашем избирательном законе лучшего состава получить не удастся и, следовательно, придется, рано или поздно, думать о новом избирательном законе.
«Все это меня страшно пугает, и я спрашиваю себя даже, удастся ли нам избегнуть новых революционных вспышек, есть ли у нас достаточно сил, чтобы справиться с ними, как справились с Московским восстанием, и для этого тот ли человек Горемыкин, который может понадобиться в такую минуту?»
Не уклоняясь от ответа на этот вопрос, я сказал только, что я не думаю, чтобы Горемыкин и сам считал себя призванным к такой роли, и не понимаю даже, почему не уклонился он и от назначения в данную минуту, так как мне кажется, что он отлично понимает, что его роль крайне неблагодарная и едва ли даже способен он просто выполнить свой долг перед государем в такую минуту, для которой он не обладает ни одним из самых необходимых условий. На этом наша беседа кончилась, и, провожая меня, императрица сказала мне: «Я понимаю теперь, почему вы так настойчиво просили государя не назначать вас, хотя и понимаю также, что у моего бедного сына так мало людей, которым он верит, а вы всегда говорили ему то, что думаете».
В тот же день было назначено торжественное открытие Думы в ее помещении и всем министрам предложено было явиться в Таврический дворец к трем часам на молебствие. Предполагалось, что тут же произойдет и первая встреча народных представителей с правительством.
Ожидание это получило совершенно естественное, но мало обещающее пополнение. По окончании молебна все мы стояли обособленною кучкою, и к нам решительно никто не подошел, если не считать графа Гейдена, который знал меня за время службы его в канцелярии по принятию прошений.









































