Текст книги "Страна отношений. Записки неугомонного"
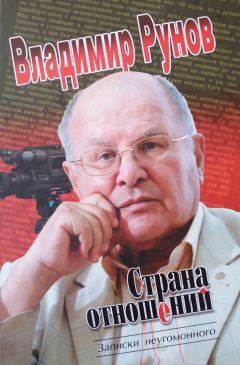
Автор книги: Владимир Рунов
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 13 (всего у книги 39 страниц) [доступный отрывок для чтения: 13 страниц]
Грабка
Второй из того героического экипажа погибла любимица народа Марина Раскова. Она была так хороша собой, что даже Константин Симонов не удержался от восторженных оценок. Дело, судя по всему, было ранней зимой сорок второго года:
«…В Камышине на аэродроме, когда мы садились в “Дуглас”, я увидел Марину Раскову, – вспоминает Симонов. – А с нею несколько девушек из ее полка, летавшего на пикирующих бомбардировщиках.
Они провожали летчика-истребителя Героя Советского Союза Клещова; он был из того полка, который сопровождал на бомбежки полк Марины Расковой. Раненого в воздушном бою, его отправляли в госпиталь прямо в Москву, и Марина Раскова и ее девушки трогательно заботились о нем. Смотрели, хорошо ли закреплена в самолёте его койка, клали ему под руку кулечки с яблоками на дорогу. Марина Раскова поразила меня своей спокойной и нежной русской красотой. Я не видел ее раньше вблизи и не думал, что она такая молодая и что у нее такое прекрасное лицо. Быть может, это врезалось мне в память ещё и потому, что очень скоро после этого я узнал о ее гибели. Погиб в бою, почти одновременно с нею, и тот истребитель, Иван Клещов, которого она провожала в госпиталь…»
С первых дней войны Марина формирует три женских авиаполка, много летает сама, осваивает пикирующий бомбардировщик «Пе-2», машину строгую, если не сказать капризную. На ней и разбивается… Ее первой за время войны похоронили на Красной площади. Случилось это морозным январским днем 1943 года. Урну с прахом несли члены политбюро во главе со Сталиным.
Дальше уже продолжал воевать образ прекрасной Марины, женские полки, сформированные ею, в том числе и самый прославленный, тот, что сражался на Кубани, Таманский легкобомбардировочный. Вот так московская девчушка, мечтавшая стать учительницей музыки, вошла в историю авиации пламенной воздушной Пасионарией…
А Гризодубова дожила до глубокой старости и стала свидетелем того, как развалилась страна, в лучезарный образ которой она так много вложила. Она единственная из того экипажа после смерти не попала в Кремлевскую стену. В ту пору за ней (за стеной) отсиживался Ельцин и скандалил с «подельниками» по поводу того, «как нам обустроить Россию». В итоге «дискуссии», случившейся в год смерти Гризодубовой, танки Бориса Николаевича как раз и учили уму-разуму «упрямцев», засевших в доме правительства, а те, в свою очередь, звали авиацию нанести по Кремлю бомбовый удар, и делал это не кто иной как Герой Советского Союза Александр Руцкой, ещё вчера вице-президент России, правая рука Ельцина. Вот уж, воистину, прости нас, Господи…
Много лет спустя, уже в Москве, я спросил у друга, почему же он все-таки Ходоркин, и не Иоганн.
– Ты знаешь, это была идея Иохима, как я думаю, в те времена вполне обоснованная. Отца так и не нашли, поэтому и пенсию я никогда не получал. Он был в отпуске и почти случайно оказался на аэродроме. Видимо, в такую минуту посчитал нужным быть в центре событий, он ведь радист самого высокого класса. Когда сообщили, что самолёт нашли, все возбудились, забегали, закричали от радости и решили тут же лететь. Без всякого списка попрыгали, кто в «Дуглас», кто в бомбардировщик, тот самый «ТБ»… Ну, а дальше ты знаешь! – и, помолчав минуту, добавил: – О погибших в той катастрофе вообще ни звука никто не произносил никогда, я узнал об этом практически перед поездкой в Борзю от бабушки. Она меня Господом Богом заклинала молчать, но боялась умереть, а я не узнаю. Иохим так всю жизнь и промолчал, хотя тогда, уже при Никите, языки немного развязались. А в предвоенную пору все эти Раппопорты, Роценцвейги, Розенблюмы, сионисты, немчура проклятая, сразу попадали под метлу. Да и после войны их не больно жаловали… Близнеца же тогда замели, а он кто? Портной в дамском ателье… Дед как-то умудрился всех нас «перелицевать» на бабкину фамилию, а чтобы «гусей не дразнить», в первый класс я уже шёл не Иоганном Максовичем Раппопортом, а Геннадием Максимовичем Ходоркиным… Вот так! – закончил, глубоко затянувшись американским «Кэмелом», самым крепким их всех существующих «Кэмэлов».
Генка не стал доучиваться в техникуме и, уйдя из него, почти сразу поступил в Тамбовское военно-воздушное училище имени Марины Расковой. Он летал вторым пилотом на здоровенном бомбардировщике «ТУ-4», который, говорят, мы лихо содрали с американского аналога «Б-29», называвшегося «летающей крепостью». Не знаю, какая это уж была крепость, но однажды где-то под Таллином, в самый разгар сенокоса, рано утром Генкина «крепость» взорвалась на глазах у всех, прямо на взлете (экспертиза показала, что перетерлись друг о друга трубки, одна масляная, а другая подававшая в двигатели кислород). Чуда не произошло, почти все погибли. «Почти» был старший лейтенант Ходоркин. Он единственный, кто не пристегнулся, и его выкинуло сквозь разорванную кабину. Как уж он там в одиночку летал, одному Богу известно, но пробив головой стог сена и потеряв скорость, закатился в высокую траву, по которой мчалась к горящим обломкам пожарная машина. Она и проехала по Генке, тоже, слава Богу, только по ноге…
– Ты знаешь, Володя! – рассказывал он впоследствии. – Очнулся, а надо мной какая-то рожа в огромных окулярах. Так мне казалось, все двоится, троится, ощущение такое, что тебя, как половик, выбивали об столб. Потом рожа говорит, как сквозь вату: «Летчик, если вы меня слышите, закройте глаза и откройте сразу». Я заморгал… «Он слышит! – говорят. – А теперь, дружок, посмотрите мне в глаза… Я думаю, коллеги, все страшное позади!» Я ж не знал ещё, что они мне ногу оттяпали. Вот это и было самое страшное… Не для них, а для меня. Все только начиналось: фантомные боли в культе, костыли, протезы, комиссии по инвалидности, пенсия в двадцать четыре года, поиски новой жизни…
Так завершилась Генкина летная карьера, зато началась другая жизнь, вначале по госпиталям, потом по московским редакциям. Мой друг стал журналистом, не Бог весть какой известности, но, я думаю, никакая другая профессия не смогла бы вместить со всей полнотой его кипучую натуру с невероятным чувством оптимизма. Потому и называл он всю оставшуюся жизнь свой замечательный протез с ироничной горечью – «грабкой». Его нередко приглашали на протезные предприятия, чтобы поддержать воинов, потерявших руки-ноги.
– Ты чё, братан, нос повесил! – он выхватывал из кармана перочинный нож и с размаху всаживал его в протез. – У меня одна сейчас проблема – ногу не перепутать! – Генка сиял рекламным оптимизмом, на радость докторам внушая любому калеке, что настоящая жизнь не просто продолжается, она только начинается. Правда, немногие знали, в том числе и я, как, подчас сдерживая слезы, он погружал багровую культю в таз с горячей, подкрашенной марганцовкой водой, чтобы унять нестерпимую боль…
Глава 3. Вечная игра
Не жди меня, мама, хорошего сына
Твой сын не такой, как был вчера.
Меня засосала опасная трясина,
И жизнь моя – вечная игра…
Из народной песни
– Нашему роду всякая авиация противопоказана! – говорил мой друг, освоивший, наконец, относительно спокойный образ жизни, вначале в Красногорске, где в Центральном военном госпитале ему в течение полугода залечивали ногу, точнее то, что от неё осталось. Там же, как когда-то герою-летчику Маресьеву, тщательно подбирали протез, говоря при этом теплые, обнадеживающие слова.
– Ничего, товарищ старший лейтенант, ещё козленком будете прыгать! – старый мастер, насмотревшийся на безногих-безруких воинов, давно превратился в махрового резонера, потому как он-то лучше знал, что отныне вся их жизнь будет тянуться с мучительным стремлением «породниться» с этим странным сооружением, состоящим из болтов, трубок, гаек, грубой свиной кожи и виниловой «плоти», осознанием, что отныне его ногой до самой смерти будет предмет, название которого переводится с греческого как «приложение», приложение, увы, к обрубку родной ноги…
Потом Геннадий перебрался в Москву, к очередной жене, на этот раз, в отличие от двух предшествующих, спокойной и очень доброжелательной Юленьке, работавшей в Третьяковской галерее и доводящейся какой-то дальней родственницей маршалу артиллерии Воронову.
Когда я бывал у них в просторной квартире старинного доходного дома где-то в районе Курского вокзала, то без остатка погружался в московский хлебосольный быт, хранителем которого была Генкина тёща, Зинаида Васильевна Самолукова, удивительная женщина, с такими неожиданностями и превратностями в судьбе, которые могут случаться только у коренных москвичей.
О ней ещё расскажу, а пока приглашаю вас, дорогой читатель, в Переделкино, куда меня и привёз на своём инвалидном «Москвиче» мой дорогой друг, отставной военный летчик, а ныне «свободный художник» Геннадий Максимович Ходоркин…
Дом Пастернака
– Ну вот, как не хотела, а умерла! – Геннадий запер машину и, вздохнув, широким жестом провел по глухим заборам, над которыми возвышались разновысокие крыши, с неодинаковой степенью ухоженности, многие так уж совсем не очень, даже прихваченные замшелостью и с ломаным шифером.
– Вот, Володя, это и есть Переделкино, змеиное гнездо мировой литературы, поскольку второго такого нет и быть не может по определению. Типично сталинская придумка держать всех в общей клетке, чтобы при желании в одной узде отвести куда надо, – Геннадий крутил головой и активно жестикулировал.
– А куда надо?
– Это как Иосиф Виссарионович решит. Кого на Новодевичье, кого на скотомогильник…
– Не суров ли ты, «братец Иванушка», в своих оценках? – осторожно возразил я.
– Отнюдь! Поверь мне, совсем не суров! Я знаю, что говорю…
Это я упросил его поехать сюда. Одолел в поезде «Доктора Живаго», вызвавшего шум и гам в обществе, решил узнать, за что дают Нобелевскую премию.
– А я так и не осилил! – Генка без всякой жалости махнул рукой. – Стихи – да! Поэт он, конечно… – Ходоркин сделал паузу, подбирая слово, и потом решил, что то, которое подобрал, будет самым точным. – Заметный!..
– Что значит «заметный»! – почти возмущенно воскликнул я. – Вон, видишь, крыша, как серебряный пуп, торчит? Вот это заметно! Наверняка, какому-нибудь Лебедеву-Кумачу принадлежит или Сергею Владимировичу Михалкову, а музей, между прочим, открыли только Пастернаку. Поэт должен быть мучеником, лучше великомучеником, как Пушкин, Лермонтов, Мандельштам, Цветаева, Ахматова, Есенин, наконец. Вот тогда…
– Есенин-то при чем? – возразил Генка.
– А ты думаешь, он петлю надел оттого, что его Айседора кинула?!
– Меньше бы бухал и с бабами своими разобрался… – неуступчиво возражал друг.
– Ты рассуждаешь, как секретарь парторганизации Союза писателей, – тут уже разошёлся я. – Считаешь, от пьянства и баб повесился? Отнюдь! Обласкать поэта властью – это как скакового жеребца кастрировать! Вон, гляди, сколько тут обласканных… Что ни оцинкованная крыша с резным петушком – обязательно обласканный.
– Да-а-а! – смирившись, протянул Генка. – Наверное, так! Ты знаешь, я думаю, мой знакомый сталинский лауреат Леонид Соломонович Первомайский наверняка не повесился бы. Правда, он такой же Первомайский, как я Ходоркин. Да и Анатолий Сафронов не повесится, хотя в его кастрации я сильно сомневаюсь. Недавно видел с третьей, а может, четвертой женой. Дама впечатляющая! Такую надо серьезно обслуживать, тут щипачевскими «прогулками при луне» и «вздохами на скамейке» не обойдешься… Слушай! – он неожиданно переменил тему. – А чего Никита на Пастернака так взъелся… Тебе как этот «Живаго»?
– Если честно, не очень!
– Может быть, не дотягиваешь? Вещь сложная…
– Может быть! Хотя… – я пожал плечами, честно говоря, не зная, что ответить. Мне «Доктор Живаго» не понравился, но Пастернака я любил. Как объяснить, почему не понравилось, – не знал.
– Так чего Никита на него «рассобачился»? – повторился Генка.
– Никита – дурак конченый! – снова завелся я. – Ни он, ни его окружение ничего, кроме постановлений про самих себя, никогда не читали, тем более Пастернака. Хрущёва накрутили, всякие скабрезности умело вставили, а дальше, как и положено, сплошной ор: «Педерасты, подонки, враги советской власти, вон из страны!»
– А Сталин читал?
– Читал! – уверенно ответил я. – Сталин читал и очень много, поскольку понимал, что литературный процесс – лучшая среда для познания того, что творится в стране, кто чем дышит. Это не значит, что он добрее становился. Он просто был информированней, и не только через свой аппарат. Хотел с другой стороны знать, кто чего стоит, откуда опасность исходит, чего ждать… Вон Симонов вспоминает, как однажды согласовывал у него кандидатуры будущих лауреатов. На краю стола – стопка толстых журналов, все с закладками, все читаемые, вопросы по делу. Обладал, кстати, неплохим вкусом… Спрашивает у Симонова: «Вы читали роман Смирнова “Сыновья”?» Симонов: «Нет, не успел ещё, товарищ Сталин! Он ведь только-только вышел…» «А я успел! – говорит. – Советую почитать, ваше мнение хочу знать…» Вот и чеши репу – каким должно быть это мнение? А Никита кроме «Бовы-королевича» ничё не читал, хотя влияние литературы понимал, но на упрощённом, если не примитивном уровне. Он, кстати, и придумал из писателей Героев Соцтруда делать. Тут уж понятно, целая очередь на «кастрацию» выстроилась…
Любопытны на этот счет воспоминания кинорежиссера Михаила Ромма, постановщика культовых советских фильмов «Ленин в Октябре» и «Ленин в восемнадцатом году». Что бы ни говорили, но прогрессивный во все времена Михаил Ильич при Сталине был одним из самых успешных кинодеятелей – пять Сталинских премий, из них четыре первой степени, и три – за фильмы о Ленине. Куда уж выше! Но в послесталинский период Михаил Ильич делал все, чтобы дистанцироваться от тех успехов, очень хотелось выглядеть этаким разочарованным «прынцем». А фильмы-то классные! Не беда, что сплошная брехня! Настоящие мастера, народные артисты Охлопков, Ванин, Щукин, любого «волка» перекрасят в овечку. Советский народ и любил Ленина таким, каким его сотворили большущие мастера искусств.
Так вот, в послесталинские времена Михаил Ильич, народный артист СССР, пятикратный лауреат, но уже убежденный «антисталинец», на встрече крупнейших творческих деятелей страны с Хрущёвым ведет себя так, что вызывает у коллег полуобморочное состояние. Ромм активно защищает фильм молодого Марлена Хуциева «Мне двадцать лет», на который с чьей-то подачи «наехал» Никита Сергеевич.
«Стали спорить, – пишет Ромм. – Я слово, он – два, я слово, он – два. Наконец, я ему говорю:
– Никита Сергеевич, ну пожалуйста, не перебивайте меня. Мне и так трудно говорить. Дайте я закончу, мне же нужно высказаться!
– Что я, не человек?! – говорит Хрущёв обиженным, почти детским голосом. – Что я, не человек, свое мнение высказать не могу?
Я ему говорю:
– Вы – человек, и притом первый секретарь ЦК, но у вас будет заключительное слово. Вы сколько угодно после меня можете говорить, но сейчас-то мне хочется сказать…
Он говорит:
– Ну вот, и перебить не дают, – стал сопеть обиженно…»
Вы себе представляете подобную ситуацию при Сталине и далее, вплоть до сегодняшнего дня, до интеллигентного Владимира Владимировича Путина, скажем? Да «челядь» вас на части порвет, я уже не говорю о «братьях по перу». Тот же Ромм вспоминает, как на «товарищеских» общениях с Хрущёвым, с выпивкой, закуской, катанием на лодках, до земли «прогибались» самые именитые. Потому и именитые, считал Ромм, что прогибаться умели. Да он и сам, когда надо, неплохо это исполнял, просто делал более тонко, талантливее, как и все прочее. А вот Ахматова не умела, да и Пастернак тоже. Честно говоря, и не хотели…
Мы шли пустой и мокрой дорогой, обходя лужи и хлюпая промокшей обувью по раскисшей земле. День выдался ненастный, осень порывами влажного ветра срывала последние листья, время от времени сея нудным дождиком, наводя грусть на оголенный березовый лес.
Дом Пастернака стоял в глубине малоухоженной усадьбы, на краю картофельного поля, уходящего краями к реке Сетунь и залитой черной водой дороге. Все окрест наводило тоску, а дом – прежде всего. С башенкой, с претензией на нелепую архитектурную особенность, облезлой дощатой верандой, он производил впечатление того, что художник Максимов (по-моему, он) изобразил в известной картине «Все в прошлом».
Когда мы поднялись на крыльцо и открыли дверь, то предположение подтвердилось. На тесной душной кухне с запахами чего-то съестного сидели две женщины неопределенного возраста и такой же внешности. Они с удивлением, я бы даже сказал, недоумением посмотрели на нас.
– Мы бы хотели посетить музей, – осторожно сказал я.
Женщины переглянулись, одна из них ответила, пожав плечами:
– Ну, пожалуйста! – а потом, почему-то усмехнувшись, добавила: – Нюша, продай товарищам билеты…
Нюша встала, положила на стол полотенце и нехотя пошла с нами. Безгласной тенью она бродила следом, всем видом показывая, что присутствует тут с одной обязанностью: чтобы мы ничего не стащили или не напортили. Дом был пуст, и эта пустотная гулкость отдавала какой-то неживой заброшенностью, забытостью, печальным забвением. Вещи: шкафы, столы, стулья, картины на стенах, книги – лишенные человеческого прикосновения, казались давно окаменевшими предметами, покинутыми хозяевами по какому-то крайне чрезвычайному поводу. Комнаты несли печать небогатости, если не бедности, во всяком случае, определенной материальной скудности – это точно. Несмотря на двухэтажность, жизнь в этих стенах явно шла внатяг, рубли, а может быть, даже копейки, считали.
– Да-а! – прошептал Геннадий. – Зря он от Нобелевской премии отказался…
По тем временам дом, конечно, просторный, совсем не рядовой, даже для известного писателя, но поселившаяся здесь скорбная, тревожная одинокость, подчеркнутая бескрайним мокрым полем за окном, ощущалась израненной душой поэта, отлетевшей из этих стен уже много лет назад…
Я хорошо помню масштаб травли, которую устроили Пастернаку «братья по перу» и «соседи по дому». Правда, тогда, по молодости лет, не понимал всей причинности, да и не сильно вникал. Подумаешь: милые дерутся – только тешатся! Ан нет, со временем сообразил, что любая «драка» в советском литературном пространстве редко продолжалась «до первой крови», чаще били «до смерти», особенно самых ярких: Зощенко, Цветаеву, Ахматову, Мандельштама, Булгакова, Высоцкого, Пастернака тоже… Жертв, как правило, поставляли сами писатели. Люди хитрые, в иезуитстве поднаторевшие, при Хрущёве сразу уловили чувственную невменяемость «хозяина» и при первой возможности прямо в ушную мембрану гудели: «Пособник скрытый, гад конченый, возможно, педераст».
Этого вполне хватало, чтобы Никита сатанел до бурачной багровости и, топоча ботинками, оглушительно орал с любой трибуны:
– Педерасы, вон из страны!
Честно говоря, я тоже недолюбливаю гомосексуалистов, но талант, увы, нередко переступает через эту условность. Совсем плохо, когда педераст при должности, особенно большой (прагматичные американцы их долго даже в армию не брали), но если гениальный актер или поэт, даже художник – пусть с такими же бородатыми тешится, лишь бы детей не трогал. Но они, к сожалению, туда тоже тянутся. Вот это плохо…
Но что касается Бориса Пастернака, то его талант и в любви был торжествующе традиционен и поэтически безграничен:
Снег на ресницах влажен,
В твоих глазах тоска,
И весь твой облик слажен
Из одного куска.
Как будто бы железом,
Обмокнутым в сурьму,
Тебя вели нарезом
По сердцу моему…
Ну какая после таких слов устоит! Высокий, загадочно задумчивый, с профилем, отлитым из меди, это он «резал» на части женские сердца, с легкостью уводя жен от друзей, обращая в любовницы очаровательных, штучных женщин, всегда при этом оставаясь опечаленным странником, одиноким дервишем, бредущим своей дорогой, каменистой, путаной, часто по тропе, заводившей его в зловещие житейские дебри, делая личную судьбу сложной до опасного предела. Самое трагичное, безусловно, связано с «Доктором Живаго». Писал его долго, именно тут, в этом доме. Часто, отложив перо, бродил лесами, мучительно размышляя, искал продолжение. Написав, отдал на прочтение, чем сразу всполошил даже серьезных, но классово заряженных писателей, Симонова, например. Разглядели они в рукописи подрыв устоев, покушение на святое – революцию.
Уверен, напечатайте сразу, без пересудов-перезвонов, ничего бы не было. Ровным счетом ни-че-го! Ни Хрущёвского ора, ни писательских собраний под девизом «Даже свинья не гадит, где ест!», ни организованных райкомами «народных протестов», с требованьем «Выдворить!», ни уж тем более Нобелевской премии. Книга-то ведь не очень! Довольно скучная, длинная, тоскливая, прошла бы незаметно, упав в кучу таких же. Роман мелькнул бы, как множество других, как у нас, так и «у них» (там, где Нобелевскую дают), и на этом всё завершилось.
Но советская литература не могла жить без образа врага, особенно внутреннего. Писатели, как правило, искали «врагов» в своих рядах и находили, особенно среди непохожих, чаще одаренных, и вот тогда «серьезные» и «одиозные» смыкались в единую силу и размашисто топтали подошвами «отступника», время от времени подбегая к «персеку», взывая преданным взглядом: «Ну, как я его?..» Беда и в том, что кроме преданности во взоре, чаще за душой ничего и не было…
Когда в «колыбели революции» взялись за молодого Иосифа Бродского, который, по их мнению (помните, как в фильме «Берегись автомобиля»), «днем должен стоять у шлифовального станка», а вечерами, после трудовой смены, в литературном кружке, скажем, клуба Кировского завода (бывший Путиловский) писать баллады о могучем тракторе «Кировец», то истеричными гонениями создали ему такую привлекательность, что «трижды битая» и сверхмудрая Анна Ахматова воскликнула, воздев руки:
– Ты смотри, какую биографию рыжий себе делает!..
Пастернака давно мечтали сломать, растереть в «лагерную пыль», на пароходе «Большевик Заполярья» отправить, где «золото моют в горах». Золото никогда не моют в горах, его моют в низинах, стоя по колено в студеной воде. Но и это для «отступника» подходяще, особенно если речка называется Колыма. Да вот все как-то не получалось. А тут такая удача! Там же, на вражеском Западе, тоже не дураки сидят, быстро сообразили, что из этой «муки» можно удачно «замесить» очередной антисоветский скандал. И замесили, вовлекая в него почти все советское общество.
С небывалой скоростью перевели на 18 (восемнадцать!) языков и заполонили «Доктором Живаго» весь цивилизованный мир. Тот, кто это сделал, совсем не интересовался личной судьбой Бориса Пастернака. А зачем? Он стал дубиной в борьбе с «империей зла», булыжником, который надо запустить в «окно» социализма. И запустили, особенно когда добавили в скандал «нобелевский разносол». Мы-то знаем, что это такое, особенно после того, как им «облили» международного бесстыдника Мишку Горбачева.
Борис Леонидович Пастернак жестоко рассчитался за свой «успех». Вначале в страхе метался по этому дому, боялся, что сейчас выкинут на улицу, старого, больного. Дача-то литфондовская – чего стоит? Отсюда пишет униженное письмо правительству, лично Хрущёву, просит не выгонять из России, с которой связана вся его человеческая и творческая судьба. Отсюда, как спасительную уловку, посылает кем-то надиктованную телеграмму с отказом от Нобелевской премии. Здесь же, через два года после начала истории с «Доктором», умирает…
Нюша подвела нас к небольшой, пеналообразной комнате на первом этаже, с топчаном в углу и единственным окном, выходящем в сад.
– Борис Леонидович скончались тут… – сказала она и показала рукой на топчан. Мы молча стояли в проеме двери и пытались представить одиночество обреченного человека, у которого рак день за днем забирает последние силы… В висках стучало:
Мне снилась осень в полусвете стекол,
Друзья и ты в их шутовской гурьбе,
И, как с небес добывший крови сокол,
Спускалось сердце на руку к тебе…
– Если хотите, – сказала Нюша, – можете сходить на кладбище. Вон там, за речкой… Как найти? Очень просто, он над обрывом…
На переделкинском кладбище хоронили тех писателей, кто должен был, но не сумел попасть на Новодевичье. Например, такой крайне знаменитый советский фельетонист (сейчас этот жанр, слава Богу, умер) Семён Нариньяни. Каждое его выступление, как правило, в «Правде», становилось событием. Его фельетонов ждали, как показательных процессов в Колонном зале под прокурорским «прищуром» самого Вышинского. Промежду прочего, лихие публикации Нариньяни нередко и предопределяли громовые речи Андрея Януарьевича. По этой причине его боялись не меньше (я имею ввиду Нариньяни). А сколько голов, по его милости, полетело на разных закрытых и открытых партсобраниях!
Вальяжно-неприступный Сёма Нариньяни был главным партийным «чистильщиком», этаким одобренным на самом верху официальным «стервятником», публичные появления которого на страницах главной советской газеты всегда означало чей-то, как поется в той песне, «полный ужаса конец».
Остросюжетные фельетоны Нариньяни обсуждались на высоком уровне, нередко даже Политбюро, поэтому решения по проштрафившимся персоналиям всегда были максимально жестки. Вот когда была настоящая действенность прессы! Утром в газете, а вечером «герой» уже рыдает «на улице», изгнанный из кабинета, ещё вчера такого неприступного. В те времена существовала «высшая мера» чиновничьего наказания – снять с работы! А снять с «той работы» – это означало оттащить «за шкирку» от обильной «кормушки»: закрытых распределителей, персональных лимузинов, денежных «пакетов» без всяких вычитов, спецсанаториев забесплатно и спецбольниц в любое время и, наконец, персональных пенсий с солидным выходным пособием. При этом сразу выкидывали из госдачи, а могли и из квартиры. Словом, «разбитое корыто» в самом лучшем виде! А в сталинские времена можно было и под «молотки» Януарьевича угодить. Вот как тогда боролись с тем, о чем сегодня неустанно, как дятел на сухой сосне, твердим малопонятным словом «коррупция». Потому и боялись писателя Нариньяни до смертной икоты…
Но однажды и Сёма, прицельный, как снайперская винтовка, дал «промах»… Опубликовал хлесткий фельетон, после которого стреляться надо. А «герой» публикации взял и застрелился! Написано все правильно, да вот человек оказался не тот. Перепутал безгрешный фельетонист фамилии и сразу «полетел» отовсюду под вздох облегчения – уж больно злоязычен был, стрикулист!
После такого прокола «главного чистильщика партии» заточили под домашний арест тут, в Переделкине, где жил неслышно, а вскоре помер безвестно. Погребли без всяких торжеств на берегу Сетуни, на сельском кладбище… Вот вам и Новодевичье! Судьба – индейка, как говорится!..
Все это поведал мне осведомленный Ходоркин, когда, пробираясь к могиле Пастернака, мы случайно наткнулись на железную ограду, где под ржавым замком «затаился» навсегда «неистовый рыцарь пера», как его однажды назвал сам Хрущёв.
Бориса Леонидовича Пастернака схоронили много выше, на горке, под гранитной плитой. Почти сразу после похорон тут стали кучковаться вольнодумствующие люди, вести непотребные разговоры о соотношении меры справедливости и противодействий этому власти, считая, что уж на погосте никто лишний их не услышит. Прямо смешно, какие бывают недалекие и наивные люди! Чтобы Комитет государственной безопасности да упустил такую возможность! Сразу куда надо вмонтировали тайное устройство и спокойнехонько слушали себе непотребные речи, «наматывая на ус» то, что надо намотать. Время было болтливое, но, слава Богу, уже без ощутимых репрессий. Хрущёв хоть и орал во все стороны иступленно, но на это не шёл, больше грозил, чем делал. Вот тогда и появились первые диссиденты, которые, однако, «фигу из кармана» стали доставать все чаще.
Сегодня таких полстраны, на них никто и внимания не обращает. Зря, наверное! Я больше всего боюсь, что однажды количество может перейти в качество, а этого допускать нельзя. Никак нельзя, потому что на улицы выплеснется не цивилизованное народное недовольство, как, например, в Греции или даже Испании, оформленное в неспешное продвижение улыбающихся людей по городским улицам под укоризненными лозунгами, а звериная суть нашей генетической ненависти бедных к богатым. Прислушайтесь ко мне – второй гражданской бойни Россия не выдержит! Не забывайте, прошло много времени, народились новые злодеи, что спят и видят очередную кровавую баню, а они, как бойцовские псы, без драки жить не могут. Вот это страшно!
От того посещения переделкинского кладбища главное впечатление (если хотите, потрясение) осталось, однако, не от жилища и даже могилы Пастернака, а от погребений старых большевиков. Где-то неподалеку, в лесном благолепии, им был устроен стариковский интернат, что-то вроде государственного приюта с казарменной коллективностью, общим столом и едиными воспоминаниями о «славном революционном прошлом», главным образом, об Ильиче, ну и, конечно, пути к «последнему берегу», под заунывное «Вы жертвою пали…» и холостой дежурный залп.
Над каждой могилкой абсолютно одинаковая плиточка из простенькой мраморной крошки с фамилией, именем и отчеством усопшего или усопшей, годами жизни и непременно временем вступления в ВКП(б) (Всероссийскую коммунистическую партию большевиков). Основная доблесть – когда вступил: лучше до революции, хорошо во время, неплохо в гражданскую… К той поре их, «буревестников», осталось совсем мало, большая часть выбита войнами, сгинула в лагерях, сгорела на стройках, себя не жалели и других гробили тысячами, и всё под пение «Интернационала». Мечтали о счастливой жизни в «Стране солнца», о человеческом братстве для всех, положив ради новой утопии миллионы жизней. Вот здесь это «братство», наконец, и состоялось – шеренги вытянутых «под линейку» (завхоз приюта, видать, старательный) одинаковых могильных камней, на которых нет ни единого признака человеческой скорби. Вот так и вся жизнь – без семьи, детей, внуков – все на алтарь «родной партии»…
– Знаешь, Володька! – Геннадий сел за руль и достал из кармана вишневую трубку, подарок со смыслом от знаменитого хирурга Вишневского при выписке. После катастрофы курил только ее. – Мы должны сегодня хорошо напиться. Что-то эти старые большевики меня сильно вогнали в грусть… А теща моя, между прочим, тоже бывшая комсомольская «орлица», из синеблузниц. Ты с ней поговори… Кладезь историй, да каких! Я ведь с Юлькой через неё познакомился. Ко Дню Победы для журнала «Советский воин» писал очерк о ветеранах, мне и посоветовали обратиться к врачу кремлевской больницы Самолуковой, участнице обороны Москвы… Она как узнала, что меня консультировал Вишневский, Сан Саныч, сразу пригласила к себе домой, мы душевно посидели тогда за чайным столом. Оказывается, в сорок первом ее тоже оперировал Вишневский, только отец, Александр Васильевич. Проговорили тогда все воскресенье… Ты слышал, что такое ОМСБОН?
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































