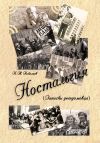Читать книгу "Записки простодушного. Жизнь в Москве"

Автор книги: Владимир Санников
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
сообщить о неприемлемом содержимом
Моя библиотека
(Предупреждаю: этот раздел – для библиоманов).
За долгую жизнь я скопил одно богатство – неплохая домашняя библиотека.
Я уже писал в первой части моих заметок, что в Воткинске в нашей семье книг не было, тратить деньги на мою «блажь» – книги, родителям было жаль (да и не было этих денег). И всё-таки каждый раз, как мама уходила «в центр», в магазины, я просил её «купить книжку». Потом становился на колени в красном углу, перед иконами и молился: «Господи, сделай, чтобы мама купила мне книжку!» Бог крайне редко удовлетворял мою просьбу. В Перми со студенческой стипендией тоже по книжным магазинам не разгуляешься. А вот в Москве, я, человек, мягко говоря, небогатый, всё-таки имел возможность покупать книги, благо они тогда, в советские времена, были довольно дёшевы. Но тут другая беда – как и на продукты, острый дефицит. По́лки книжных магазинов были завалены трудами классиков марксизма-ленинизма, соцреалистической чепухой, а вот купить хорошую книгу в Москве было трудно. Приезжая в другой город, мы бросались в книжные магазины и находили иногда то, что в Москве было трудно достать.
Помню, на уборке картошки в совхозе мы с Колей Перцовым поехали в Бронницы, и там, в книжном магазине я увидел на полке Комментарий к «Евгению Онегину» Юрия Лотмана. Кричу: «Смотри, Коля, Лотман!» Коля мгновенно среагировал: «Чур, моя!» До дуэли дело не дошло, поскольку там было ещё несколько экземпляров, и мы их скупили.
В Москве ни в одном книжном магазине я не нашёл стихов Гарсиа Лорки. Зато его занесло по прихоти книготорговцев в провинциальный Воткинск. Там я обнаружил на складе 5 (уценённых!) экземпляров и, вернувшись в Москву, дарил друзьям.
Помню ещё, как наши друзья Марина Гловинская и Юра Апресян привезли из Прибалтики и подарили нам «Капитанскую дочку», изданную «Советской Россией» и снабжённую цветными иллюстрациями А. Иткина. И подобных случаев – множество.
В Москве я чуть ли не каждый день ходил, как на охоту, по букинистическим магазинам. С азартом – повезёт, не повезёт? И вот однажды сбылась моя старая мечта. Ещё в Перми, в библиотеке Молотовского университета, созданной на базе библиотеки эвакуированного в годы I мировой войны Тартуского (Юрьевского) университета, я читал Достоевского в прекрасном дореволюционном издании «Просвещение». Сказал себе: «У меня будет Достоевский именно в этом издании». И вот иду я как-то во МХАТ и по пути заглянул в букинистический магазин. И вижу то самое собрание сочинений Достоевского! Правда, неполное, без 5-го тома. Но – нет худа без добра: от этого оно дешевле (замечу, что я потом нашёл и недостающий том). Я тут же купил эти книги (завтра утром их уже не будет!) и, счастливый, отправился с 20-ю томами (!) в театр. Поздне́е я приобрёл в этом же издании и Пушкина, и Лермонтова, хотя у меня были и современные издания их сочинений. Мне приятнее видеть русских классиков «в их одежде», с ятями и ерами.
Ещё одна удача на «охоте» – «Энциклопедический словарь» Ф. А. Брокгауза и И. А. Ефрона – в приличном состоянии и недорого – 82 руб. за 82 тома (моя зарплата тогда – 135 руб. в месяц). Сейчас словарь сто́ит, наверно, подороже. Помню исторический анекдот, связанный с этим словарём. Один из издателей (Брокгауз) отличался крайней скупостью и на жалобы авторов о задержке гонорара отвечал всегда: «Ах, я – собака беспамя́тная!» Авторы отплатили скареду, поместив в 5-м томе статью: Безпамятная собака – собака жадная до азартности.
Я, мои друзья, мои враги, мои друзья-враги
Известно, что труднее всего познать самого́ себя. Попытаюсь, однако…
Всю жизнь я наблюдаю – с интересом, часто с болью – за борьбой во мне двух характеров – отцовского и материнского. Эта борьба шла с переменным успехом: с годами победил обстоятельный, замкнутый, молчаливый отец, однако в юности, да и в среднем возрасте побеждало материнское начало – открытость, общительность, жизнелюбие. Вспоминается восторженный возглас молодого Гёте:
Как эту радость
В груди вместить! —
Смотреть! и слушать!
Дышать! и жить!
(«Майская песня»)
Или Есенин:
Эх, ты молодость, буйная молодость,
Золотая сорви-голова!
(«Несказанное, синее, нежное»)
Однако уже в юности восторженность, жизнелюбие сочетались у меня с какой-то затаённой внутренней грустью. Мне не раз говорили, что глаза мои не смеются, когда я смеюсь. О моей студенческой фотографии друг Коля Нельзин сказал коротко: «Монашек». В са́мом деле: в XIX в. я мог бы стать монахом, в начале XX-го – пламенным революционером, а во второй половине XX-го стал диссидентом. Тут, видимо, проявились мои бунтарские старообрядческие корни и старообрядческая упёртость.
А внешне – смирный и тихий. В детстве взрослые не могли мной нахвалиться: «Не парень – золото! Как тихо́е море», а ребята дразнили «маменькиным сынком». Да вот и многих московских коллег эта черта моего характера настораживала: «В тихом омуте черти водятся», «Смирение – паче гордости».
Но – хватит самокопания, пора поговорить о других.
Сначала – о «воткинском наследии», о старых, школьных друзьях – Володе Калинине, Вите Богатырёве, Коле Нельзине, чья дружба грела меня всю жизнь.
В школьные годы мы с Колей Нельзиным мечтали о морях, о плавании в дальние страны. В Коле осуществилась мальчишеская наша мечта: он после многих мытарств стал моряком. Ну, а я – филолог, бумажный червь. Какой-то морской волк сказал по этому поводу: «Ничего не хочу сказать обидного о людях сухопутных. Просто каждому своё: орёл ширяет в небесах, червь копается в дерьме». Как я писал в шутливых дружеских стихах, Коля «во всех морях и океанах всю воду нам перемутил». Он был приписан к Таллинскому порту и жил с семьёй в Таллине. Приезжая туда, я всегда заходил к ним. Помню, как мы сидим вечером с его женой Итой (Маргаритой), знакомой мне ещё со школьных лет, и сыном Сергеем и получаем его телеграмму с борта судна: «Друзья примите морского бродягу в свою компанию Колька». Многие годы Коля плавал (ходил) на торговом судне в должности штурмана, старшего помощника капитана и, наконец, капитана дальнего плавания. В капитаны был произведён с большим опозданием, только во время перестройки, поскольку неизменно под разными предлогами отказывался вступить в коммунистическую партию, а ведь до перестройки капитаном дальнего плавания мог быть только член партии. Мы постоянно переписывались с Колей. Он часто приезжал в Москву и мы, «три мушкетёра» (Калинин, Богатырёв и я), рады были встрече с ним.
Когда он уже «вышел на берег» и лечился в Пятигорске на водах, с ним произошёл жуткий случай. Он лежит в целебной ванне в горах, рядом никого нет, только похаживает какой-то незнакомый парень. Ну, ходит и ходит, Коля нежится себе в ванне. И вдруг страшный удар камнем по голове. Коля потерял сознание и истёк бы кровью, если бы не люди, пришедшие принимать ванны. Колю отвезли в больницу. Его вещи пропали. И вдруг, когда Колю выписали, он встретил на улице Пятигорска этого негодяя. Тот прогуливался по улице – в Колиной куртке! К счастью, рядом был милиционер. Коля закричал: – Задержите его! Он убийца! Милиционер стал допрашивать – кого бы вы думали? – Колю! – Кто Вы, предъявите документы! – Да какие документы?! Потом, потом! А преступник уже скрылся. Милиционер то ли струсил, то ли не захотел возиться. Коля потом долго болел, у него перекосилось лицо из-за сотрясения мозга, и через пару лет он умер. А ведь крепкий был мужик. Умер человек, с которым я дружил всю жизнь, с 1-го класса школы…
Володя Калинин и Витя Богатырёв – не моряки и не гуманитарии, как я, – «технари», занимали какие-то важные посты в авиастроении и оборонной промышленности, но мы по-прежнему были дружны и почти каждый праздник встречали семьями вместе. Сколько дружеских разговоров, воспоминаний о родном Воткинске, тостов, анекдотов, песен!
Помню, друзья-«технари» пели песню – отклик на ленинский призыв к электрификации всей страны:
Нам электричество сделать всё сумеет,
Нам электричество тьму и мрак рассеет,
Нам электричество наделает делов:
Надавишь кнопку – «чик-чирик!» – поехало, пошло.
Надавишь кнопку «чик!» – и пей себе на счастье,
Надавишь кнопку «чик!» – тебя ведут в участок,
Надавишь кнопку «чик!» – и ты ползёшь домой,
Жена тебя встречает электрокочергой!
Большим потрясением для меня была смерть Володи Калинина. По окончании казанского авиационного института (куда вместе с ним поступил было и я, но бросил, соблазнённый филологией), он работал начальником цеха, а потом главным инженером Новосибирского авиационного завода. Часто приезжал в командировки в Москву. После смерти первой жены (рак) переехал на работу в Москву. Женился на директоре одной из московских школ. Мы часто общались семьями. Это был надёжный, твёрдый и исключительно добрый человек. Вот забавная сценка. Сидим на его даче у камина. Втроём. На двух креслах нежимся я и здоровенный «дворянин» с мохнатым хвостом (не помню его имя-отчество), а хозяин, Володя, – у наших ног, на полý между креслами. Он пригрел этого бродягу и они очень сдружились. Помню, пёс сопровождал нас, когда мы ходили ловить рыбу на их озеро. Переезжая осенью в Москву, Володя решил взять пса с собой, но тот вырывался, никак не хотел лезть в машину. Видимо, предпочитал вольную бродяжью жизнь. Но как же он радовался, когда следующей весной Володя вернулся на дачу и опять взял его к себе.
И вот Володя умер… А ведь крепкий был человек, спортивный. Ещё учеником 10-го класса играл за хоккейную команду Воткинска, занимался боксом, отлично играл в бильярд. Шахматист, в Казани играл за институтскую шахматную команду. А как пел! У него был хороший слух и сильный голос. На наших посиделках его жена Люся, жалея уши наших соседей, цыкала на него, просила петь потише. Мы шутили, пели частушку:
Ты не пой, ты не пой,
У тя голос не такой!
Есть такие голоса —
Встанут дыбом волоса.
А потом просили его петь ещё, и погромче. Какая злая ирония судьбы! Человек, у которого был не голос – голосище, заболел раком горла и потерял голос, в конце даже говорил с трудом. Чуял приближение смерти. Позвонил мне, прохрипел: «Приезжай, и поскорее». Долго сидели с ним, вспоминали… О болезнях и смерти не говорили. Через несколько дней он умер, умер верный, надёжный друг, поддерживавший меня в самые тяжёлые минуты моей жизни. «У счастливого недруги мрут, у несчастного друг умирает». Мир праху твоему, дорогой Володя! Спасибо за всё.
В московскую жизнь я вошёл легко, чувствуя себя этаким «покорителем столицы». Психологические сложности пришли не сразу. Бо́льшая искренность, открытость, уязвимость провинциалов по сравнению с москвичами отмечалась многими и отразилась в пословице: Москва слезам не верит. К этому добавилась моя крайняя доверчивость и простодушие. Снова вспоминаю эпизод моего детства. Мама на просьбы купить мне игрушку или книжку отвечала глупой прибауткой: «Ну, вот собаку облупим, так купим!». В годы моего детства кошек на улицах Воткинска бегало (и сейчас бегает) множество, а вот собаки заглядывали в это кошачье царство с опаской и довольно редко. Поэтому, увидев бегущую в центре города собаку, я завопил, испугав и маму и собаку: «Мама, собака! Хватай! Облупим, купим игрушек!». Эта черта была присуща мне – увы, увы! – не только в детстве. Недаром я озаглавил свои книги воспоминаний – «Записки простодушного».
Герой рассказа Диккенса «Чей-то багаж» признаётся, что он часто ошибался в людях – и не потому, что он не замечал сразу их дурных свойств, а потому, что позволял им приблизиться и говорить о себе. Вот и у меня первое невыгодное впечатление о человеке сглаживалось при более близком знакомстве, а потом я с болью убеждался, что первое впечатление было правильным. Одно знакомство оказалось особенно тяжёлым. Началось оно глубокой интуитивной неприязнью, продолжилось чем-то, похожим на дружбу, а закончилось предательством. Не будь этого и других предательств, я мог бы считать свою жизнь счастливой – несмотря на синяки и шишки, на которые не поскупилась моя судьба. (Впрочем, Пушкин, видимо, прав: «На свете счастья нет»). Я убедился, что нет людей хороших и плохих, в каждом намешено и того, и другого. Но – в какой пропорции? И главное – есть ли у человека совесть? Кант говорил, что больше всего его удивляют две вещи – звёздное небо надо мной и моральный закон во мне. Это неопределённое понятие всегда жило в народе и отразилось в словах совесть, бессовестный. Ведь даже не всякого лентяя, скупердяя, мота, пьяницу, грубияна назовёшь бессовестным.
Вернёмся, однако, во времена ранней молодости. Сколько новых друзей я нашёл в Москве! Не могу отказать себе в удовольствии вспомнить их имена: Юра Апресян, Лёня Крысин, Лёня Касаткин, Лёва Скворцов, Костя Бабицкий, Игорь Добродомов, Саша Феоктистов, Эрик Ханпира; «девочки» – Лена Земская, Кира Филонова, Галя Баринова, Ламара Капанадзе, Светлана Кузьмина, Марина Гловинская, Лида Иорданская, Галя Романова (как она уцелела с такой-то фамилией – Романова!).
Рассказывать о творческой судьбе каждого из них – непосильная задача. Сошлюсь на справочную литературу, в частности справочник «Кто есть кто в современной русистике» (М.; Хельсинки, 1994). Здесь можно найти имена многих из моих друзей.
Мы с интересом учились, работали, до поздней ночи сидели в библиотеках, придирчиво обсуждали статьи друг друга, но и хорошо отдыхали, и дружеским застольям радовались.
Устами своего героя Чехов советует: «Ежели, положим, вы… желаете с аппетитом пообедать, то никогда не нужно думать об умном: умное да учёное всегда аппетит отшибает. Сами изволите знать, философы и учёные насчёт еды самые последние люди» («Сирена»). Категорически возражаю: у нас в молодости наука аппетит не отбивала. Наши застолья не только нас, детей голодных военных и послевоенных лет, – даже иностранцев изумляли: в магазинах ничего нет, а столы ломятся от яств. Особого разнообразия, перемены блюд не было – закуска да одно блюдо, но любовно, с душой приготовленное («щи, но от чистого сердца»). Гости очень любили наше коронное блюдо – пельмени. Пельмени мы готовили не только с мясом, но и уральские – с квашеной капустой и с душистым деревенским подсолнечным маслом (дочка Оля, да и я, пожалуй, любили их даже больше мясных). Помню, Марина Гловинская в ответ на приглашение спрашивала: «А пельмени будут?». Даже наш кот Сеня попытался однажды пельменями полакомиться и попал впросак (об этом я ещё расскажу).
Мои воткинские родичи, люди физического труда, готовясь к приёму гостей, прикидывали: «На мужика надо нашшыпать (заготовить) 50 пельменей, на бабу – 30». У наших московских гостей-интеллигентов аппетиты были поскромнее, но всё-таки и здесь надо было заготовить несколько сотен пельменей – дело непростое, впрочем, с детства знакомое и где-то даже успокаивающее. Даже и без гостей мы иногда, вернувшись домой после бурных институтских событий (о них речь впереди), говорили: «А давайте пельмени постряпаем!». И сама однообразность движений (под разговоры или чтение вслух) как-то успокаивала.
Увы! Приведённый выше список друзей в дальнейшем всё время сокращался – и по разным причинам…
Уходят, уходят, уходят друзья,
Одни в никуда, а другие – в князья.
(А. Галич)
А как хорошо написала Белла Ахмадуллина:
Да будем мы к своим друзьям пристрастны!
Да будем думать, что они прекрасны!
Терять их страшно, Бог не приведи!
И было приятной неожиданностью, когда у нас со Светланой, уже очень немолодых, появились молодые друзья – мои коллеги Саша и Ира Лазурские. Это они подарили нам любимицу – кошку Басю (о ней я ещё расскажу). Запомнились забавные высказывания 5-летнего Арсения Лазурского.
Большая девочка – Арсению:
– Дура, ты же упадешь!
– Во-первых, я не дура, а дурак!
Разговор Арсения с отцом:
– А ну, вставай немедленно!
– Что-то ты меня сегодня мало радоваешь, папа. Грубый очень.
Не все мои друзья дожили до сегодняшнего дня… Земной им поклон и вечная память. Об этом лучше не скажешь, чем Жуковский:
Не говори с тоской: «Их нет»,
Но с благодарностию: «были».
Были такие, которые из друзей стали врагами, но больше таких, дружба с которыми гасла-гасла постепенно, и погасла…
В дружбе были какие-то периоды. Был у нас «брондзовый век» (простите за дурной каламбур) – тёплые приятельские отношения с врачом Лидой и её мужем инженером Лёней Брондз, начавшиеся в турпоездке по Эстонии и продолжившиеся в Москве.
Был сухотинский период – дружеские отношения с Борей Сухотиным и его милой семьёй. Помню, пацифист Боря как-то пеняет сыну Алёше, что тот слишком увлекается военными играми. Алёша, и внешне, и по характеру очень похожий на нестеровского инока Варфоломея, ответил: «Папа, я очень люблю мир, но играть я люблю в войну». Жаль, Боря Сухотин, талантливый лингвист, рано умер…
Был добродомовский период – дружба с коллегами Галей Романовой и её мужем Игорем Добродомовым (тот, кого в шутку называли Злоизбушкин). В гости друг к другу ходили, гуляли по, как Игорь говорил, «филейной части» Москвы, в Крым, в Коктебель ездили, купались, мазались там с ног до головы целебной грязью, в подмосковные походы ходили. Помню, призывает Игорь на помощь Маяковского, чтобы осветить нашу «злободневную тему»:
Дождь покапал и прошёл,
Солнце в целом свете.
Это очень хорошо
Галочке и Свете.
А потом стали встречаться всё реже и реже. Даже не созваниваемся.
Стоп! Сегодня (2 янв. 2018-го) созвонились, и не только обменялись новогодними поздравлениями, но договорились и встретиться у них, завтра же. Видимо, права пословица: «Старая дружба не ржавеет».
Иногда причина расхождений была более серьёзной. Не расхождения – разрыв, например, с Игорем Мельчуком или с Лёвой Скворцовым.
Скворцов был одним из самых близких моих друзей. Сохранилась его фотография с надписью: Володе Санникову, другу и брату. А потом Лёва «ушёл в князья»… Помню, вступая в коммунистическую партию, он мне говорил: «Понимаешь, Володя, нужно, чтобы в партии были порядочные люди». Быстро «повзрослел», стал секретарём парторганизации Института, основным гонителем всех «инакомыслящих». Тесная дружба связывала Лёву Скворцова с Лёней Крысиным. Это было и творческое содружество. Вместе написали хорошую популярную книгу «Правильность русской речи». В 1962-м по просьбе Корнея Ивановича Чуковского написали рецензию на книгу Чуковского «Живой как жизнь» и потом не раз были на его даче в Переделкине. А после смерти Чуковского, в 80-х, его дачу, ставшую музеем, хотел отнять Союз писателей, и Лёня вместе с дочерью Чуковского Лидией Корнеевной и другими друзьями и поклонниками писателя несколько лет, сменяя друг друга, дежурили в доме-музее Чуковского, опасаясь «рейдерского захвата» здания. Но ещё задолго до этого друзья стали врагами. Да и для меня один – Лёва Скворцов – стал «закадычным врагом», а другой – Лёня Крысин – закадычным, верным другом на всех этапах моей московской жизни: вместе работали в Институте русского языка, оба были изгнаны за «диссидентские грешки» и работали в Информэлектро, дружили семьями. О трагической судьбе своих близких Лёня Крысин написал в ярких, к сожалению, лишь частично опубликованных воспоминаниях. Да и его судьба была, мягко говоря, непростой: в 1973 г. уволен из Института за подписание писем протеста против политических преследований в СССР. Справедливость, пусть с большим опозданием, восторжествовала. Вернулся в Академию наук, заместитель директора Института русского языка, заведующий Сектором современного русского литературного языка, автор нескольких книг, в том числе: «Толковый словарь иноязычных слов» (М., 1998), «Русское слово, своё и чужое» (М., 2004), «Слово в современных текстах и словарях» (М., 2008) и сотни статей по русскому языку.
Кончаю раздел словами Петра Вяземского – друга Пушкина:
…пью за здоровье немногих,
Не многих, но верных друзей,
Друзей неуклончиво строгих
В соблазнах изменчивых дней.
Походы по Подмосковью
Большой радостью были наши подмосковные походы. Тогда была шестидневная рабочая неделя. В субботу в обеденный перерыв закупали продукты, после работы ехали на электричке до какой-нибудь подмосковной станции и пешком до намеченного места. Зимой брали с собой лыжи. Помню, я с тяжеленным рюкзаком упал в глубокий снег. Наш массовик-затейник Игорь Мельчук остановился надо мной и продекламировал заупокойным голосом:
Грянулся на землю он, и взгремели на павшем доспехи.
– это из «Илиады» Гомера.
Зимой иногда добирались до места уже в темноте. А тут надо ещё расчистить от снега место для костра, развести костёр, нарубить еловых веток и поставить на них палатки, приготовить пищу. Наконец, сидим у костра, едим (устали, проголодались). Помню, какой-то новичок удивлялся: «Неужели нужно было переть так далеко, чтобы пожрать?». Нет, нужно было. Костёр, тепло, душевно, рядом друзья. Шутки, анекдоты, стихи и, конечно, песни. Что пели? Туристские песни, «геологические», студенческие, «Мой костер» Полонского, «Марш чёрных гусар» («По улице, пыль подымая…»). Ну и конечно, Есенин, Окуджава, Высоцкий. Как они скрашивали нам жизнь в трудные советские годы! В Новый год вспоминались простые и душевные такие песни Булата Окуджавы о ёлке:
Вот и январь накатил-налетел,
бешеный как электричка.
Мы в пух и прах наряжали тебя,
мы тебе верно служили.
Громко в картонные трубы трубя,
словно на подвиг спешили.
В миг расставания, в час платежа,
в день увяданья недели
чем это стала ты нехороша?
Что они все, одурели?!
И грустная концовка:
Но начинается вновь суета.
Время по-своему судит.
И в суете тебя сняли с креста,
И воскресенья не будет…
И другая его песня на ту же тему, не такая грустная:
Неистов и упрям,
Гори, огонь, гори!
На смену декабрям
Приходят январи.
Нам всё дано сполна —
И радости, и смех,
Одна на всех луна,
Весна одна на всех.
Прожить бы жизнь до тла,
А там пускай ведут
За все твои дела
На самый страшный суд.
Пусть оправданья нет
И даже век спустя.
Семь бед – один ответ,
Один ответ – пустяк.
Тут и тюремные («Я помню тот Ванинский порт…») и залихватские студенческие песни. Помню, с одной студенческой песней я познакомился ещё в школьные годы, читая в «Моих университетах» Горького о пирушках казанских студентов:
Сам Варламий святой
С золотой головой
Сверху глядя на них
Улыбается
– а потом мы пели эту песню и в Перми, и в Москве – но без сокращений, и соблазнён студентами был не горьковский Варламий святой, а святой Николай:
Сам Никола святой
С золотой головой
Сверху глядя на них
Улыбается.
Он и сам бы не прочь
Провести с ними ночь,
Но на старости лет
Не решается.
Но соблазн был велик
И решился старик,
С колокольни своей
Он спускается.
И всю ночь напролёт
Он и пьёт, и поёт
И ещё-о!.. кое-чем
Занимается…
Вот ребята уныло затягивают на мелодию похоронного марша Мендельсона:
Умер наш дядя, как жалко нам его.
Он нам из наследства не оставил ничего.
Тонкими голосами вступают девчонки:
А тётя хохотала, когда она узнала,
Что умер наш дядя, не оставил ничего…
Пели и замечательную «Песню о Сталине» Юза Алешковского. Привожу её по памяти, хотя сын Андрей говорил, что у меня много отступлений от оригинала, и предлагал полный текст. Мне приятнее вспомнить песню в том виде, как мы пели её тогда у костра:
Товарищ Сталин, Вы большой учёный,
в языкознании Вы тоже знали толк,
А я простой советский заключённый,
И мой товарищ серый брянский волк.
То дождь, то снег, то мошкара над нами,
а мы в тайге с утра и до утра.
Вы здесь из искры раздували пламя —
спасибо Вам, я греюсь у костра.
Вам тяжелей, вы обо всех на свете
заботитесь в ночной тоскливый час,
шагаете в кремлёвском кабинете,
дымите трубкой, не смыкая глаз.
Дымите тыщу лет, товарищ Сталин.
И пусть в тайге придётся сдохнуть мне,
я верю: будет чугуна и стали
на душу населения вдвойне.
За что сижу – по совести, не знаю,
но прокуроры, видимо, правы.
Я это всё, конечно, понимаю
как обострение классовой борьбы.
Об «обострении классовой борьбы» «великий Сталин» говорил в докладе на съезде ВКП(б). (И это сказано, когда он подмял под себя всю страну и свою родную коммунистическую партию!)
Лида Иорданская и Игорь Мельчук пели народные испанские песни, а Сима Никитина – русские народные песни. Она их собирала, знала множество и очень хорошо, «с душой» пела. Когда она слишком увлекалась, хулиган Игорь Мельчук довольно бесцеремонно обрывал её. Помню, Сима поёт: «Соловей кукушку уговарива-а-ал…», и Игорь дурашливо подхватывает:
Соловей кукушку
Долбанул в макушку.
Запомнился один забавный случай. Сидим у костра, и вдруг в полумраке возникает старушка «в старомодном ветхом шушуне», с палкой, с тряпицей на лице. Сердито шепелявит: «Вы чо это, охальники, костёр жгёте? Лес спалить хочите?» Мы её успокаиваем: «Что Вы, бабушка! Мы очень осторожно, сами понимаем». – «Понимают оне! А леса́-те, чо, сами собой горят? Вы их и жгёте, охальники. Вот позову мужиков, они вам покажут, как фулюганить!». И только тут мы понимаем, что это Сима Никитина нас разыгрывает!
И до поздней ночи разговоры, смех – уже в палатках.
Но вот уже приходит (пожалуй, рановато – не выспались мы!) гомеровская утренняя богиня зари Эос:
Встала из мрака младая с перстами пурпурными Эос.
Пора и нам вставать. У ожившего костра поздний завтрак (он же обед), прогулки по лесу, игра в волейбол, розыгрыши, немудрящие шутки.
Вот девушка напевает песню весеннего ручья:
Я бегу, я смеюсь,
Я сейчас с другим сольюсь.
Её муж с неподдельным интересом спрашивает:
С другим? С кем же это, если не секрет?
А вот Галя Романова и Светлана Кузьмина собирают под дубом жёлуди. Игорь Добродомов поясняет нам словами Крылова: «Они от них жиреют» («Свинья под дубом»).
Все мы – лингвисты, всем уже далеко за двадцать, а игры с языком – полудетские.
Кто-то спрашивает: «Может ли быть такое – десять согласных подряд? Нет? Пожалуйста – Эрнст взбзднул». А давайте сочиним рассказ, чтобы все слова начинались с одной буквы! Сочиняем: Седые сосны сухо скрипели: «Сукин сын, сукин сын…». Смотрим: селезень сидит! Саша скинул стостволку со спины. «Сволочь!» – сказал старый сыч. «Стрелять старого сыча!» – сообразил Саша. И т. д. до конца: Сладок сочный селезень! Спасибо, Саша!
Но – пора на станцию. Если очень уж не хотелось уходить, оставались на вторую ночь. Помню, какая-то уходящая группа отдала нам оставшуюся у них еду и записала наши телефоны, чтобы позвонить нашим родным, и они бы не беспокоились за нас. Туристское братство.
Иногда возвращались утром в понедельник с рюкзаками прямо на работу.
Ну, а в праздники со временем свободнее, и почти каждый праздник мы отправлялись загород. Помню, в первомайские праздники идём с громадными рюкзаками через деревню. Ветер, мокрый снег с дождём. На улице ни души, все сидят дома, пьют, поют, гармошка играет. Какая-то старушка выбежала на улицу, платком от снега прикрывается, глядит на нас, головой качает: «Бедные, кто же вас гонит?».
Летом все разъезжались, и из летних подмосковных походов помню только один, но какой! По Москве-реке на нескольких плотах! Каждый плот имел имя, обычно торжественное: «Парижская коммуна», «Стремительный». А экипаж одного плота колебался в выборе имени, и тогда кто-то (кажется, Мельчук) предложил: «Может, Свиноферма?». Командир безымянного плота, подумав, согласился: «Пожалуй, это подойдёт». И потом им кричали: «Эй, на Свиноферме! Держи правее, на мель сядете!».