Текст книги "Царство Агамемнона"
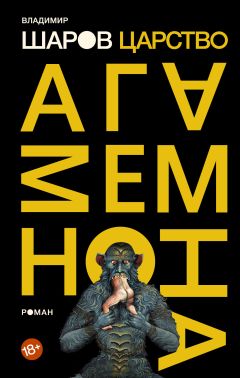
Автор книги: Владимир Шаров
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 11 (всего у книги 36 страниц) [доступный отрывок для чтения: 12 страниц]
В «Агамемноне» история этой Дарьи Варниной – быть может, самые трагические страницы. По тому, что я слышала, даже более страшные, чем те, где отец пишет о последних годах жизни Лидии – от рождения в лагере их дочери Ксении до расстрела ее самой в Караганде. Так ли всё это было, как изложено в романе, – говорила Галина Николаевна, – я и тогда не знала, а сейчас и спросить не у кого. В любом случае в «Агамемноне» за неполных четыре года Мясников настрогал жене троих детишек – все сыновья.
Ко времени, что он бежал, весь выводок – мал мала меньше, последнего, кажется, еще от груди не отняли. Мясников, и осев во Франции, никакой связи с ними не поддерживал. Или боялся, или просто ту жизнь отрезал. Жил так, будто семьи у него вообще не было. За двадцать лет жена даже открытки от него не получила. Денег Мясников тоже не слал. А деньги были ой как нужны. Когда дома одна малышня, ясно, что обратно на Трехгорку не вернешься, а кормить надо. В общем, у них дома было шаром покати. Хотя прежние мясниковские товарищи иногда что-то слали, что ребятня, что сама Дарья подголадывали. Мясников не просто не переписывался с женой, он даже окольными путями, а до середины тридцатых они были, ни разу не поинтересовался, что с сыновьями, как они растут.
Через пару лет после побега мужа Дарья Варнина по совету одного влиятельного друга семьи с Мясниковым развелась. Друг объяснил, что это в интересах и ее, и детей, и что власти будут довольны, если она подаст на развод. Во всяком случае, квартиру им точно оставят, а так бабушка надвое сказала. Ее в самом деле развели в одну неделю, даже ходить никуда не пришлось. Подписала заявление, мясниковский товарищ его и принес, а через неделю получила новый паспорт, где она опять Варнина и дети ее тоже не Мясниковы, а Варнины, о браке же никаких упоминаний.
С квартирой тоже не обманули. На квартиру она и вырастила, подняла детей. Пятнадцать лет, как ворона сыр, обкусывала, обгрызала ее со всех сторон, то район чуть похуже, то площадь чуть меньше, или, например, печное отопление, в другой раз нет ванны. На деньги, что выгадывала с этих обменов, и жили. К войне у них четверых осталась одна комната, правда, большая и светлая, в Толмачевском переулке.
То есть, может, она и правильно сделала, что послушалась мясниковского товарища, но развод ее подкосил; пока не принесли домой новый паспорт без Мясникова, она еще на что-то надеялась, а тут поняла, что ни она мужа, ни дети отца никогда больше не увидят. Лет семь еще как-то держалась, дождалась, когда они один за другим пойдут в школу, даже, чтобы их больше видеть, в ту же школу устроилась техничкой, но они этому не обрадовались, и она поплыла. К сороковому году Дарья уже совсем опустилась. Убиралась в той же школе, но что получала, пропивала.
Выходило, и на жену Легину надеяться не стоило, было ясно, что Мясников о ней думать забыл. Если и раньше не вспоминал, тем более сейчас не станет из-за нее корячиться. С сыновьями тоже был швах. На недавнюю войну они – все трое студенты – пошли добровольцами, и все трое на разных фронтах пали смертью храбрых. Получилось, что и с сыновьями Мясникова не прикопать. Так что родня отпала, и у Легина появились новые основания печалиться, что не остался в тихом болоте церковного отдела. Но окончательно его добили врачи.
Спецметоды допроса пока никто не отменял и, если арестованный упорствовал, не желал понять, чего от него хотят, способов объяснить, что он ведет себя неправильно, было великое множество. Чтобы понять, на каких именно сто́ит остановиться, Легин с согласия Берии созвал два консилиума из кремлевских медиков. Спецметоды были его последним крупным козырем, но врачи даже не дали Легину его предъявить. Они со всей внимательностью осмотрели, простукали и прослушали Мясникова, сделали необходимые анализы и, пошушукавшись с полчаса, объявили вердикт.
Что касается желудочно-кишечного тракта, печени, почек пациента, то тут вроде бы ничего – не лучше, но и не хуже, чем должно быть в его возрасте. Другое дело сердце, оно у Мясникова совсем никуда. Кардиолог Драгомонтов высказался в том духе, что с таким сердцем больной и двух лет не протянет – и это на полном покое. Не исключено, что Мясников только потому и вернулся, что решил умереть на родине. Драгомонтов сказал еще одну важную для следствия вещь. Стал объяснять Легину – и коллеги его поддерживали, – что для Мясникова его сердечные проблемы не новость, одышка у него – просто жуть, он два лестничных пролета прошел и уже за грудь хватается, даже посинел, бедняга.
Другая напасть по той же части – давление. И утром, то есть после ночного отдыха, меньше ста семидесяти у него не бывает. В общем, если свести всё вместе, о спецметодах лучше забыть. Они не для Мясникова. Слишком нежный фрукт. Если цель не в том, чтобы он раньше времени копыта откинул – ясно, что она не в этом, – вокруг Мясникова лучше ходить на цыпочках. Даже ночные допросы категорически противопоказаны.
Немудрено, – продолжила Галина Николаевна, – Сережа мой, что в романе, что в жизни, как услышал медиков, затосковал, стал вянуть на глазах. И когда в «Агамемноне» Лека сказала, что пойдет к отцу, может, он что и присоветует, только головой кивнул. Дальше Легин делал то, что говорил отец, и на шаг не отступал. Понял, что заварил кашу, которую самому не расхлебать. И вот, – продолжала Галина Николаевна, – всё, что говорил отец, а следом и всё, что было, когда они уже работали на пару, попало в «мамин роман», можно сказать, сделалось его хребтиной.
Легин не просто в частном порядке консультировался с отцом Леки, скоро ему удалось подписать у Берии приказ, в соответствии с которым Н. Жестовский, еще вчера бесправный, боящийся любого шороха зэк, тварь дрожащая, доходяга, был введен в следственную бригаду по мясниковскому делу. Стал ее законной частью. К тому времени всем – Берии в том числе – было ясно, что иначе толку не будет.
Едва приказ был подписан, отец по второму кругу занялся мясниковским архивом. Легин прежде его уже просеивал, буквально под лупой смотрел, что накопала сначала царская охранка, потом в свой черед уже мы. Но отец считал, что что-то Сережа мог и пропустить, счесть маловажным или не обратить внимания. И вот, пока отец страница за страницей читал всё, что было связано с Мясниковым, искал, где у обвиняемого слабое место – знал, что его не может не быть, но найти не мог, – следствие, в сущности, стояло. То есть к Легину с двумя помощниками охрана, как и раньше, каждый день водила на допрос арестованного Мясникова, но для чего – бог весть. Никто не знал, ни что у него спрашивать, ни как заставить дать нужные следствию показания. В итоге выходили не допросы, а душеспасительные беседы, на манер тех, что ведут с хорошим, однако, непоседливым ребенком.
Оттого, что приходилось просто отбывать номер, в следственной бригаде царило полное уныние, таким мрачным, – говорит в романе Лека, – я мужа ни раньше, ни позже не видела. Тем более что и отец хоть чего-то обнадеживающего пока подсказать не мог.
Мясников – старый опытный зэк, ничего объяснять ему было не надо, он хорошо понимал, что следствие в тупике, не знает, что делать, оттого больше и больше наглел. Прежней чередой шли требования к Сталину и Берии перечислять ему на сберкнижку суточные советских дипломатов. Но это еще ладно, к этому все привыкли, а вот когда он начинал по-черному, вдобавок с коленцами, честить по матери Сталина, того же Берию, других, кого он знал в свою бытность членом ЦК и кто до сих пор был жив и во власти, Легин холодел. Было ясно, что, если кто стукнет, для следственной бригады дело кончится плохо.
Леке он жаловался, что за двадцать лет работы в НКВД типа отвратнее Мясникова не встречал. Между тем, отец по-прежнему весь день просиживал в архиве и тоже ничего не находил. Наконец, закончив с агентурными разработками, он решил, что пора браться за мясниковскую рукопись, названную автором «Философия убийства, или Почему и как я убил Михаила Романова». В романе отец много размышляет об этой рукописи, говорит Легину, что, в сущности, «Философия убийства» – самая настоящая исповедь, соблюдены все каноны жанра, а дальше продолжает: «Пару раз я ее уже просматривал, но откладывал, считая, что это наш неприкосновенный запас. Если где что и сыщется, то именно в ней».
Конечно, что там есть, отец и раньше себе представлял, – говорит Галина Николаевна, – понимал, что Мясникову удалось честно – что редкость – изложить историю своей жизни, вершиной которой он считал подготовку, а затем убийство великого князя Михаила Романова. Того самого, в пользу которого в семнадцатом году император Николай II отрекся от российского престола. Теперь, когда он читал ее подряд, мясниковская рукопись по многим причинам не могла его не поразить. Какими бы они ни были разными людьми и как бы по-разному ни понимали жизнь, в частности, как и перед кем исповедоваться: отец – перед Богом, позже перед следователем, который ведет твое дело, Мясников – перед пролетариатом и историей, – оба понимали, что исповедь и есть сердцевина мироздания. То единственное, без чего никакое спасение невозможно.
«Философия убийства» сохранилась в двух, а то и трех десятках копий, и отец понимал, что для Мясникова это лучшая страховка. Даже когда на Лубянке во время обыска его спросили, что это он с собой привез, Мясников с ухмылкой ответил, что это подарок старым товарищам. Между тем, продолжая подчищать архивные хвосты – фамилия Мясникова всплывала то в одних документах, то в других, – бо́льшую часть дня отец теперь занимался именно исповедью. Каждую строчку читал буквально под микроскопом. Повторял Легину, что Мясников, если где и раскрылся, выказал слабину, то здесь, в исповеди.
Впрочем, – продолжала Галина Николаевна, – помню, звучало это вяло, без его обычной уверенности, и я стала бояться, что скоро вслед за Телегиным он тоже поднимет лапки вверх. В романе отец не просто не стал прятать, сохранил свое отчаянье, он всё его сохранил, то ли закутав, то ли закатав разбросанные по тексту куски мясниковской исповеди в собственные комментарии. Комментарии наслаиваются на комментарии, получается этакий кочан капусты, внутри которого кочерыжка мясниковского текста”.
“Об этом, Глеб, – сказала Галина Николаевна на другой день, – если позволите, немного подробнее. Мясников в своей рукописи не единожды повторяет, что Смердяков есть самый благородный персонаж русской литературы, а дальше, причем тоже не один раз, твердо ставит знак равенства между Смердяковым и собой. Последнее, как мне говорили читавшие роман, дало отцу право сопоставить то, что писал о Смердякове Достоевский, и то, как понимал Смердякова, с ним и весь карамазовский выводок Мясников. Но роль главного комментатора играет в романе время.
Гражданская война, по отцу, как бы детское место, а убийство великого князя Михаила, которому Учредительное собрание твердо собиралось передать российский престол, – зародыш тех бедствий, что ждали нас впереди. Мясников оборвал рукопись убийством Михаила, которое сам организовал и во всех деталях описал, но жизнь продолжалась, и вот это, что было дальше во всех своих измерениях и сути, составило массив отцовского романа.
Жизнь отца с матерью. Ее уходы к цирковому гимнасту, в недалеком будущем сотруднику НКВД Легину, и возвращения. Отец – странствующий монах, люди, которые его кормили и давали приют. Встреча, позже брак с Лидией Беспаловой, еще в Гражданскую войну нареченной ему невестой, их совместные скитания. Он сам, принятый и признанный за великого князя Михаила, чудом уцелевшего в восемнадцатом году и теперь вынужденного скрываться, сложные отношения с другими Романовыми – царем Николаем и его сыном Алексеем. Ребенок, рожденный Лидией в лагере, и там же, в лагере, меньше чем через год погибший. В тридцать шестом году в другой тюрьме расстрел самой Лидии. Третий срок отца и его неожиданное освобождение. Потом столь же неожиданное возвращение из ссылки в Москву – всё благодаря Легину.
В итоге пятый, смердяковский том «Карамазовых» оказался очень сложным и очень страшным романом. Вместо положенного по всем правилам катарсиса его финальную главу составило расследование дела Мясникова, открытого производством 17 января 1945 года. Легин вел его на пару с отцом. То, что Мясникова так и так ждет расстрел, было понятно каждому, в том числе и самому арестованному, но был приказ, прежде чем он получит заслуженную пулю в затылок, сломать мерзавца. Чем отец с Легиным и занимаются. Глава написана совершенно безжалостно. В первую очередь по отношению к себе, и что они в конце концов добиваются успеха, только это подчеркивает.
Прежде долгие, раз за разом тщетные, попытки подобрать ключ к Мясникову. Когда же уверились, что проиграли, сделать ничего нельзя, – вдруг удача, и вот сутки спустя раздавленного, уничтоженного Мясникова, елозя им по каменному полу – сам он идти не может, – мимо них волокут в подвал. Честь победы безусловно за отцом, хотя была ли идея его собственная или он ее позаимствовал, сейчас уже и не скажу”, – закончила Электра.
Много лет спустя о том, на чем именно сломали Мясникова, я прочитал в телегинском деле пятьдесят третьего года, и сразу доложил Кожняку. Только в телегинском деле всё было изложено так, будто оба – Жестовский и его следователь Зуев – это отлично знают, обсуждают просто для проформы. Как и беседы с Электрой, свои разговоры с Кожняком я по возможности записывал.
Кожняк: “Ну и что, сломали?”
Я: “А то нет! Конечно, сломали. Иначе бы Телегин не получил комиссара госбезопасности третьего ранга. Наоборот, схлопотал бы пулю в затылок”.
Кожняк: “И как сломали?”
Я и тут знал ответ. Сам о том же не раз говорил с Галиной Николаевной, но и в телегинском деле пятьдесят третьего года это было – как. Так что я только сослался на показания Жестовского, а Кожняку стал пересказывать, что слышал от Электры.
Я, как обычно, за чаем: “Галина Николаевна, всё же, а как они его сломали? В «Агамемнон» это наверняка должно было попасть”.
Электра: “И попало. Как не попасть? – И дальше: – Всё было на моих глазах. Телегин вечером возвращался домой и, что было за день, мне пересказывал. То есть я это знала еще задолго до романа. Так вот, отец читает исповедь чуть не двадцатый раз, всё ищет, где у Мясникова слабое место, и всё не находит. Потому что тон рукописи совершенно другой; он, можно сказать, бравурный.
Если это и исповедь, но тогда исповедь триумфатора. Мясников и в Россию вернулся, чтобы сказать Сталину, что именно он, а не Сталин – настоящий победитель, причем даже с учетом войны.
Я и в Москве, – продолжала Электра, – не раз спрашивала Сережу, за каким хреном Сталину понадобилось ломать Мясникова. И другое, конечно: как они с отцом это сделали? Но Телегин отвечал невразумительно и только на Колыме всё более или менее объяснил. Сказал, что и сам не знал, думал разное, спрашивал и отца, но тот от подобных разговоров уходил. Наверное, боялся. Лишь когда Мясникова на свете давно не было, а они в Кремле – отец и Сережа – уже получили из рук Калинина, что причиталось, дома водка развязала моему отцу язык.
Начал он с того, что, как старый солдат на поле боя, Мясников должен был закончить жизнь в тюрьме. И продолжал: в тюрьме ему всё родное, он здесь всё знает и понимает. На воле ему скучно, на воле он в общем и целом терпит поражение, выкинут из жизни, а тут, во Внутренней тюрьме, будто молодость вернулась. Отсюда и азарт, с которым он требует платить ему командировочные во франках, да еще с припиской, что эти франки – на ларек. А дальше принялся Сереже растолковывать, что причина сталинской ненависти к Мясникову – совсем не его участие в опасных для Кобы оппозициях и платформах – от тех оппозиций давно и следа не осталось, – а то, что Мясников на манер Троцкого решился переписать историю революции. Загнать Сталина не просто в Тмутаракань, а вообще куда-то на Камчатку. И на это посягает не пустой теоретик и краснобай, а, как и он, Сталин, бомбист и экспроприатор, вдобавок и тут готовый дать ему сто очков форы. Потому что, кто такой Сталин? Недоучившийся семинарист, сын мелкого буржуа, сапожника-единоличника, а Мясников – потомственный пролетарий с огромного завода в Мотовилихе, в нем настоящая рабочая косточка и настоящая рабочая закалка. Прибавь: один русский, плоть от плоти, а другой с таким грузинским акцентом, что не всегда поймешь, что он хочет сказать. С акцентом, который хорош для анекдотов, а не для вождя партии.
И если Сталин за свои художества три года коротал время в Туруханском крае, мял девок и бил из мелкашки водоплавающую птицу, то Мясников – ни много ни мало четыре года – отсидел в самой страшной Орловской каторжной тюрьме и между пытками и избиениями прочел всё, что можно, от русской классики до немецких философов, да так, что половина его рукописи – полемика с Лениным по вопросам диалектики. То есть тут не просто подкоп под Сталина, тут доказательство, что русская революция Сталина просто не заметила. Потому что не убей он, Мясников, Михаила Романова, а следом за ним не убили бы других великих князей в Алапаевске и Николая II в Екатеринбурге, Гражданская война длилась бы годы и годы, и неизвестно, чем бы закончилась.
Получается, что Сталина в революции нет и никогда не было. И роли его ни в Октябре, ни в Гражданской войне нет никакой. Из мясниковской рукописи видно, что в Москве бал правят Ленин и Свердлов, а когда они лажаются, трусят, начинают играть в гнилой либерализм, Мясников делает за них всю черную работу. А где Сталин? О Сталине нет и помину.
Но это еще не всё, продолжал отец, Сталин понимает, что Мясников не просто так заявился в Россию. Сталина он знает как самого себя. Если Сталин кого и может обмануть, то последний – Мясников. Ведь Сталин – просто его эпигон, говорит Жестовский.
Мясникову ясно, что прямо с аэродрома его повезут на Лубянку, во Внутреннюю тюрьму. Сталин своих противников бьет навылет, бьет с одного выстрела, но с Мясниковым, говорил отец Телегину, этот номер у него не прошел. Написав «Философию убийства», Мясников уже одержал решительную победу, и она никуда не денется, и другую победу – тем, что кончит жизнь, как и должно, как кончили его товарищи по мотовилихинской боевой организации, которым в 1905 году повязали «столыпинские галстуки». Единственное, на что Сталин еще мог надеяться, – на сильный встречный удар.
В романе, – продолжала Электра, – всё это, без сомнения, осталось.
В «Агамемноне» Мясников и впрямь триумфатор, хотя отец, как и требовал Сталин, вместе с Телегиным в конце концов его ломает, находит в рукописи совершенно непритязательное место – потому и нашел не сразу, что уж очень непритязательное, – где Мясников дает слабину. Нашел его самый настоящий страх, даже не страх, а ужас, и понял, что он как вошел в Мясникова, так и не вышел, навсегда в нем остался. На этом они с Телегиным и решают сыграть.
Сначала общий расклад. Все пятеро, кого он послал убить великого князя Михаила, возвращаются в Мотовилиху. Городская милиция, мясниковский кабинет открыт настежь. Хозяин за столом и их ждет. Как раз напротив кабинета чулан. Мясникову он виден, что важно. Четверо заходят в кабинет и начинают рассказывать, а старший, Жужгов, с каким-то свертком в руках воровато юркает в чулан, где висит рукомойник, а под ним жестяное ведро.
Пока они докладывают Мясникову, как всё было, Жужгов с чем-то там возится. Хотя Мясников велел им не мародерствовать, ничего из вещей ни у великого князя, ни у его камердинера Джонсона не брать, убить и как есть зарыть тела в землю, они виновато объясняют, оправдываются, что каждый что-то взял на память: кто – швейцарский хронометр, кто – золотой портсигар. И, в общем, Мясников это принимает спокойно. Люди есть люди.
Другое дело то, что пойдет дальше. Пока его товарищи рассказывают, кто чего взял, Жужгов выходит из чулана и присоединяется к остальным, но говорить ничего не говорит, просто брезгливо осматривает свои руки. Вот тут-то и начало мясниковского ужаса.
Мясников – Жужгову: «Ты что там делал, что так руки осматриваешь?»
Жужгов: «Да вот, белье и одежду с Михаила бросил».
Мясников: «Зачем ее снимали?»
Жужгов: «Да ведь как – зачем? Вдруг ты не поверишь?»
Мясников: «Ну как же можно допускать такую дичь?»
Жужгов: «А остальное, как ты сказал, так и сделали. Оба в могиле. Если хочешь, то завтра или когда решишь, я тебя свожу и покажу место».
Все пятеро чуть не хором: «Да, он правду говорит, товарищ Мясников, это мы все решили взять его одежду, простреленную и окровавленную».
Мясников: «Да я и не сомневаюсь в том, что он правду говорит, но как же вы все глупо и дрянно поняли меня».
Через полчаса Мясников: «Ты покончил с твоим бельем?»
Жужгов: «Да, да. Облил керосином и всё до единой ниточки сгорело. И пепел разметал».
И вот понятно, говорит отец Сереже, откуда этот мясниковский страх, потому что история, которая была простой и ясной, теперь, после свертка с окровавленным бельем, вдруг начинает напоминать другую, на которой ничего не закончилось, наоборот, с которой всё только началось. Всё-всё: и Египет, и Исход, и то, что дальше. Я имею в виду историю Иосифа Прекрасного, которого братья, в последний момент, испугавшись убить, сбросили в пустой колодец. А старому Иакову сказали, будто его любимого сына загрызли звери, и притащили смоченные в крови козленка цветные одежды брата.
Так вот, – продолжала объяснять Электра, – Мясников ненавидел греческое понимание жизни, мир, в котором всё и всегда повторяется, никуда не отклоняясь идет по кругу, кончается в той же самой точке, где началось, и в этой же самой точке начинается снова. Но не меньше он ненавидит и другой мир, мир с Великим постом, то есть смертью Спасителя, а после с поросенком и пасхальным куличом – Его Воскресением. Хоть этот мир уже не греческий, а иудейский. Вот и здесь Мясникову никуда не деться от того: а что, если снова сдрейфили? Заляпали бог знает чьей кровью мундир Михаила, а его самого отпустили? Но ведь тогда нет никакой роли Мясникова ни в революции, ни в Гражданской войне; во всем этом и в том, что было дальше, с начала и до конца, то есть, может быть, во веки веков победитель именно Сталин, а он, Мясников, как был, так и останется обыкновенным самозванцем?
Но врут они складно. Мясников подозрителен, но сколько он ни ищет – никаких зацепок, и он успокаивается, думает, что, похоже, все-таки и впрямь идиоты – решили, что, чтобы он им поверил, надо взять с собой чертовы тряпки.
«И всё же, – объяснял моему мужу отец, – этот страх из него не уходил и никогда не уйдет. Как был в нем, так и остался, потому что – а если и вправду отпустили? Сумеем здесь сыграть, – говорил отец, – голову даю, он наш, деться ему некуда».
Сережа тогда спросил: «А как мы на этом сыграем?»
Отец: «Да проще простого. Напомним про Михаила и его тряпки. Они Мясникова и сломают».
Телегин снова: «А как напомним?»
Отец: «Да подставу устроим».
На подставе и остановились. Дальше было так.
Затененный телегинский кабинет. Интенсивный допрос, ничего нового, но темп ураганный, иногда почти пулеметная очередь. У Мясникова нет времени следить ни за чем другим, только вопрос – ответ. Нужные вопросы, не откладывая дела, отец придумывал один за другим, и Телегин тут же их заучивал. У Мясникова отличная реакция, объяснял отец, в эту игру он включится с полоборота, войдет даже с удовольствием. Так вы и будете перебрасываться, будто пинг-понговским мячиком.
В самый разгар, когда Мясников не ждет, ясное дело, и не готов ни к какому подвоху, за его спиной, то есть в тени, возле полок с томами уголовного кодекса, кто-то на французский манер, чуть картавя, его окликает. Мясников поворачивает голову, но света мало, из темноты выступает лишь золотое и серебряное шитье кавалергардского мундира, командиром полка которых был великий князь Михаил. И вот, фигура в этом мундире, будто великий князь тогда, в восемнадцатом году, и впрямь спасся, стоит прямо за спинкой стула Мясникова и снова, только теперь совсем отчетливо, повторяет: «Гавриил Ильич, зачем вы меня убили?»
«Тут, – говорит отец, – я, Сережа, голову даю: Мясников сломается, не может не сломаться».
Когда Берия утвердил их план, они – отец и Телегин – стали обходить московские театры, ища, кто бы мог сыграть великого князя Михаила. Просмотрели полторы сотни актеров, больше других им глянулся известный мхатовский артист Хмелин, уже пятый сезон игравший в тамошней инсценировке Достоевского другого князя – Мышкина.
Они несколько раз ходили на его спектакли, чтобы проверить первое впечатление. Хмелин был великолепен, роль князя Мышкина очень трудна, в ней много и пышности, и надрыва, но в исполнении Хмелина ты верил каждому слову. В итоге, когда остановились именно на Хмелине, отец пошел с ним переговорить, предложил помочь им в расследовании важного дела. Тот согласился легко, даже с готовностью, тут проблем не было, но когда уже в телегинском кабинете на Лубянке они правильно поставили свет, построили декорацию, – стушевался. Реплика была совсем короткая, но он очевидно для всех робел и оттого фальшивил.
Сколько отец его ни успокаивал, даже налил стакан коньяка, – лучше не становилось. Мясникова с его волчьей интуицией такой князь Михаил никогда бы не обманул. В общем, Хмелин оказался битой картой, и, когда они снова приуныли, отец вдруг говорит Телегину: «Сережа, а может, я попробую? Я ведь три года был князем Михаилом, обошел всю страну. Сам нигде себя не объявлял. Говорил, что обыкновенный монах, а мне в ответ: знаем, знаем, какой ты монах! Что мы, совсем того, чтобы законного царя не признать?»
В другой раз Электра снова заговорила о том, что “без мамы, без ее доброй воли, готовности бессчетное число раз перепечатывать роман: сегодняшним вечером – пару страниц, назавтра утром – подряд уже целую главу, – отец никогда бы ничего не закончил”, сказала: “Я уже вам говорила, что почерк у отца был ужасный, его не понимала ни одна машинистка, даже он сам плохо разбирал свои каракули. А правкой, часто речь шла о полном переписывании текста, мог заниматься до бесконечности. Пришла в голову новая мысль – он кладет ее в основание и всё перестраивает.
Фактически поверх старой страницы теперь идет другой текст. Шаг за шагом, будто вода в половодье, покрывает поля страницы, затем пространство между строками; чтобы в этой чехарде разобраться, связать первое со вторым, отец и то и то размечает десятками стрелок, номеров, звездочек. Потом, когда и стрелки не помогают, кусок романа отдается матери; ее задача – не спеша во всё вникнуть, понять, что за чем идет, и перепечатать. В результате отцу возвращаются отлично перебеленные страницы, которые он снова и с прежним пылом пытается довести до ума. Так день за днем.
То, чем всё кончилось, еще и потому маму потрясло, – повторяет она, – что никогда – ни раньше, ни позже – она не была отцу лучшей женой, верной, преданной. В общем, – сворачивает Электра, – благодаря Колыме эта история, слава богу, прошла мимо меня, я тот отцовский роман даже в руках не держала. Конечно, – продолжает она, – я много чего знаю, и что знаю – и рассказывала и буду рассказывать, только без гарантии, что что-то не напридумаю, не добавлю от себя. Со вторым отцовским романом, ясно, другое дело. Он страница за страницей писался на моих глазах, тут уж поручусь за каждое слово”.
Через неделю Электра снова вернулась к давешнему разговору. Мы сидели в ординаторской, чаевничая, сплетничали о ее соседях, потом как-то само собой вырулили на ее отца и “Агамемнона”. “Я с себя, – сказала Электра, – ответственности не снимаю, всегда помню, что без меня романа никогда бы не было. Мать это так, техническая помощь. Сколько бы сил, времени она ни убила, перепечатка есть перепечатка, не в ней суть. Другое дело – моя роль. Кашу я самолично заварила, а дальше помешивать ложкой, следить, чтобы не подгорело, желающих было много.
Я уже вам говорила, что основа романа – мясниковская «Философия убийства», многие главы, собственно, и строились как комментарий к ней. Но без меня отец об этой рукописи никогда бы не узнал. Написана она была во Франции и сама собой попасть отцу в руки не могла. Карта должна была лечь так, чтобы Мясников в сорок четвертом году – в чемодане пара белья и «Философия убийства» – вернулся в Москву, был взят под стражу и расследование его дела, – связывает она наш предыдущий разговор и нынешний, – было поручено моему мужу Сергею Телегину. Сережа вызвался добровольно, ввязался во всё даже с радостью, особых трудностей не ждал.
Опытный следователь, он считал, что легко справится, но месяца через два кураж испарился, было уже ясно, что Мясников Сереже не по зубам. В общем, мой Телегин приуныл, и тогда я обратилась к отцу, попросила его помочь. Дальше Сережа с отцом работал на пару, и то, что всё удалось, как я уже говорила, на равных успех обоих. Сталин был моим мужем очень доволен, дал ему орден и приказал вне очереди присвоить комиссара госбезопасности третьего ранга. Сталин помнил о муже и потом – в итоге на Колыму Сережа поехал не зэком, а начальником пусть небольшого, но лагеря. Согласитесь, Глеб, разница есть.
Эту историю я – особенно когда увидела мужа в генеральском кителе – сочла за собственный триумф, и вправду, я ведь всё сделала, чтобы отец вернулся в Москву и чтобы он и муж работали бок о бок. Для того и Телегина соблазняла, уводила у матери. То есть хотела я одного – вызволить отца из ссылки и чтобы он и мать снова жили вместе. В общем, чтобы всё успокоилось, вернулось на круги своя. А что Телегин тоже не промах, я об этом не думала, а обернулось как в сказке – мой вклад даже Сталин оценил.
Однако вернемся к матери, – снова сменила тон Галина Николаевна. – Ясно, что роман писался при деятельном ее участии, без маминого терпения, трудолюбия, без желания – раз уж так сложилось – выстроить с отцом нормальные отношения, он бы никогда не был дописан. Это факт. Но что без меня никакого романа вообще бы не было, – повторила она, – мимо тоже не пройдешь. Больше того, разработав план, до мелочей придумав и продумав, как сломать Мясникова, отец теперь, когда дело было сделано и их с Телегиным подследственный с простреленным затылком покоился где-то на Бутовском полигоне, – не просто каялся перед ним и перед Богом – но и шел дальше, строчка за строчкой, понимая и принимая мясниковскую правду. В числе прочего и организованное им убийство великого князя Михаила.
Отец, – продолжала Электра, – был удивительно честным человеком. Считал, что мы и единым словом не имеем права лгать, не только на исповеди, когда предстоим перед Богом – столь же искрен человек должен быть и с себе подобными. Не исключаю – если не дай бог, тебя сочли преступником, арестовали, теперь допрашивают – и с собственным следователем. Так же обстоит дело и с оперуполномоченным, у которого ты добровольно подписал бумагу, согласился стать его секретным сотрудником.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































