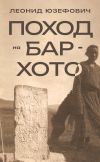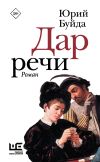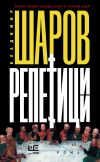Текст книги "Царство Агамемнона"
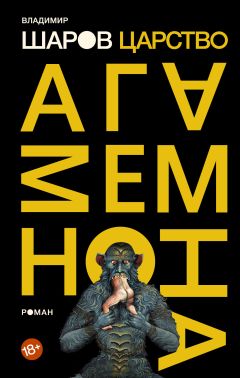
Автор книги: Владимир Шаров
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 10 (всего у книги 36 страниц) [доступный отрывок для чтения: 12 страниц]
Теперь уже она не горячась и не раздражаясь, буква за буквой пытается разобраться в лежащем перед ней сумасшедшем доме. Кропотливо, дотошно ищет, куда указывает одна стрелка и другая, к чему, например, относится номер семьдесят восемь, обведенный кружком. В итоге отец получает отлично перепечатанную, да еще в двух экземплярах, копию нового варианта своего текста и уже его снова пытается довести до ума. И так столько раз, сколько потребуется.
Мама еще и потому была потрясена произошедшим, что ни до, ни после, главное же, никому она не была лучшей женой, чем в те годы отцу. Верная, безотказная, готовая в лепешку расшибиться, только бы угодить – а как всё кончилось, я сказала. В общем, первый роман, слава богу, прошел мимо меня, а то и не знаю, что бы после этой истории я сказала отцу”, – подвела итог Галина Николаевна.
К разговору об “Агамемноне” она вернулась через два дня и мельком, без вступления заметила: “Наверное, как и с доносами: в конце концов простила бы, – и добавила: – А может быть, это и сейчас надо мной висело бы”.
Второй большой разговор об этом романе случился у нас лишь спустя месяц, и тут уже не было вопроса: простила или не простила? Впрочем, я и раньше понимал, что это просто фигура речи, что давно простила, но прежде Электре понадобилось выстроить довольно хитроумную комбинацию. Термин “мамин роман” – и ее зачин, и программное заявление. В результате дальнейшей работы всё, что можно, удалось укрепить, но сомнения оставались, и тут был нужен я, человек со стороны, чтобы испытать ее, сказать, насколько прочна конструкция.
В общем, она хотела еще раз себя проверить. И вот стоило мне спросить о той реальной истории, без которой романа не было бы, – мы проговорили почти три часа. Однако немало интересного еще осталось, и мы к этой теме потом возвращались и возвращались. Но границы были ясны, а то, что оказалось внутри, Галина Николаевна очень аккуратно разбила на квадратики, которые затем один за другим старательно закрашивала.
Первоначальный расклад был такой. Отец после ее отъезда из Ухты снова начал хандрить. Он, как и хотел, работает в школе, у него даже есть сожительница, судя по всему, тоже учительница, но о ней Галина Николаевна почти не говорила, кажется, и знала немногое. Известно только, что это тихая, скромная женщина лет тридцати пяти, похоже, тоже из ссыльных, но более раннего призыва. Она была выслана из Ленинграда в двадцать седьмом году и ко времени, о котором речь, уже несколько лет как освободилась. Но из Коми Республики не уехала, возвращаться в Ленинград было не к кому. Там давно ни кола ни двора. Для отца эта учительница как будто не худший вариант, она и кормит, и обстирывает, но он всё равно тоскует. Продолжать жить в Ухте ему невмоготу. Галя понимает, что надо что-то делать. Тем более что скоро отец рвет с этой женщиной и остается один. Рядом нет даже Гарбузова с Наташей. Сосед или снова сидит, или куда-то уехал. В общем, в бараке только вечно пьяные работяги с давно ненавистного завода.
Почему отец порвал со своей подругой, Галина Николаевна или не знала, или не хотела говорить, но кажется, сошлись две вещи. То, что отец прямо бредил, как бы скорее вырваться из Ухты, в то же время с собой учительницу не звал, и другое: однажды Галина Николаевна бросила, что, возможно, она отказывалась перебеливать его доносы. Так или иначе, но ближе к концу тридцать восьмого года они расстались.
В своих письмах домой отец о многом умалчивал, других вопросов вообще не касался, но Галя умела неплохо его понимать. В частности, она видела, что отношения с ухтинским оперуполномоченным, от которого, как и раньше, отец полностью зависел, снова сделались шаткими. Опера бесило, что ему опять кладут на стол невразумительные каракули. Получалось, что его сделали как последнего фраера. Когда отцу было надо, отчеты, что он сдавал, были образцовыми – и форма, и содержание, всё лучше некуда. Он, опер, поступил честно, на добро ответил добром, в результате отец ушел с завода и теперь, в нарушение правил и инструкций, преподает в школе немецкий язык. Короче, он, опер, пошел отцу навстречу и считал, что вправе ждать ответных шагов. А тут вместо благодарности прежняя херня – отчеты просто не прочитаешь. Причем из школы, где не рабочий класс, а попутчики, интеллигенция, за которой, как известно, нужен глаз да глаз. Что отец носит, идет в выгребную яму. Так и так, ни черта не разберешь. Галя прямо видела и отца, и опера – обоих понимала, а как помочь, не знала. Тем более что всё делалось только хуже и в отцовских письмах появились намеки, что, не исключено, придется вернуться на завод или его даже могут отправить в лагерь досиживать срок. В общем, было ясно – надо что-то предпринимать.
Под ее нажимом Телегин по телефону дважды переговорил с ухтинским опером и вроде бы снял напряжение. Еще через месяц позвонил снова, сказал оперу, что если тот доедет до Москвы, он, Телегин, будет рад принять его у себя дома, и опер растаял, обещал, что и с отцовской ссылкой посодействует. Ближе к лету попробует отпустить отца на все четыре стороны. Причем даже без минуса. Но тут в Москве началась смута, и Телегин не знал, захочет ли опер и дальше ему помогать. В силе ли вообще их договоренности. Это что касается отца.
Теперь собственно Телегин. В самом конце тридцать восьмого года Ежова сначала убирают, а потом расстреливают. На его место приходит Берия. И в аппарате, и на местах начинается шмон: кого считают ежовскими выдвиженцами, арестовывают одного за другим. Большинство идет под нож. У Телегина чистый послужной список, да и многие годы он провел в провинции или на границе. Особенно хорошо последнее – Берия к пограничникам относится неплохо, их сейчас дружно переводят в Москву. Что же до того – Телегин человек Ежова, или нет – то тут бабушка надвое сказала. Короче, он не в таких чинах, чтобы Берия стал заниматься им персонально, а кадры колеблются. На всякий случай от дел его отстраняют. Но окончательное решение пока не принято. Семь месяцев он будет в подвешенном состоянии.
“Между тем, – продолжает Электра, – в нашей семье большие перемены. Так получилось, что «папа Сережа» (Телегин) больше мне не отец, он мой законный супруг. Соответственно, и якутка больше Телегину не жена. Мать снова живет с моим и Зорика настоящим отцом Жестовским, которого Телегину только что удалось вызволить из Ухты. Пятью годами раньше Телегин выстроил небольшую дачку в Серебряном Бору. Теперь мы с ним здесь и поселяемся. Нашему браку нет и года, мать вернулась в Протопоповский, ясно, что ни мне, ни бывшему любовнику рада она не будет. Впрочем, и мы с Телегиным на семейный обед тоже не напрашиваемся.
По словам Телегина, во мне, чего он не ожидал, оказалась немалая прочность. Он и в Москве не ложился спать до рассвета, всё боялся, что за ним придут, и я, чтобы не оставлять его одного, тоже бодрствовала, сидела в кресле, что-то читала – живя с отцом, я многому научилась, этот опыт пришелся кстати. Тем более что с Телегиным мне было во многих смыслах проще. Мужу очень помогала тяжелая атлетика, как в цирковые времена, он по два часа в день работал с гантелями и штангой. Вдобавок бегал по Серебряноборскому сосняку и даже в самые лютые морозы купался в проруби с местным сторожем. Они каждое утро ее расчищали, и Телегин после пробежки, чтобы окончательно разогнать кровь, нырял в реку.
Между тем дела вроде бы начали выправляться. Повисело-повисело, но не оборвалось. Большой удачей для Телегина стало, что бывший начальник Среднеазиатской погранслужбы сделался одним из замов Берии. Он знал Телегина еще по афганской границе, всегда к нему благоволил. В общем, однажды Телегина переложили из плохой колоды в хорошую. Теперь он был в оперативном резерве и просто ждал нового назначения. Правда, «среднеазиат», фамилия его Гомозов, считал, что Телегину лишний раз светиться не стоит, в итоге его определили в невзрачный отдел, который занимался церковниками.
После двух недавних лет, когда перестреляли чуть не всех попов – и тех, кто еще был на воле, и со сроками, – церковный отдел – тихая гавань, или, если жестче, отстойник. Осталось лишь зачистить хвосты. Через пару лет, когда начнется война, этой братии выйдет послабление, она снова размножится, а до тех пор, коли прежние перестарались, план крупно перекрыли, настоящей работы, в сущности, нет. Кто здесь сидит, только бумажки перекладывает.
Тем не менее, – говорила Галина Николаевна, – работа в церковном отделе не только позволила Телегину уцелеть, но и стала трамплином для будущей карьеры. И другое ее следствие: появилась возможность не просто вызволить отца из ухтинской ссылки, но и без проволочек прописать в Москве. Опер, как и обещал, посодействовал, написал своему секретному сотруднику отличную характеристику, дальше главную партию сыграл уже Телегин. Напирая на то, что отец – бывший семинарист, готовый преподаватель литургики, то есть знает церквь изнутри, он написал ходатайство, где указал, что, чтобы интенсифицировать работу церковного отдела, необходим консультант, и лучшего, чем Жестовский, не найти. В результате – разрешение для отца на постоянное пребывание в Москве.
Я помню, – говорила Галина Николаевна, – как тогда безумно гордилась, что удалось всё вернуть на круги своя. Отец с матерью снова жили вместе и снова в Протопоповском, в общем, жили ровно так, как и тогда, когда я появилась на свет божий. Что касается меня с Телегиным, то в это время мы уже окончательно пустили корни в Серебряном Бору. Нам обоим здесь очень нравится. За мужем каждое утро с Лубянки присылают машину, а вечером шофер привозит его обратно.
Хотя Телегин часов десять, не меньше, вынужден проводить на службе, образ жизни он старается не менять. По-прежнему два часа в день силовая гимнастика, бег и в любую погоду купание в реке. Зимой, как я уже говорила, в проруби. То есть Телегин в хорошей форме и даже к рюмке, на что мать вечно жаловалась, его почти не тянет. Конечно, когда к нам на дачу приезжают его сослуживцы, случаются большие загулы. Бывает, и на два-три дня, вы, Глеб, и без меня знаете, что на природе люди еще как расходятся. Телегин от коллектива не отрывался, но едва гости разъедутся, всё успокаивалось.
Отец, стоило ему появиться в Москве, сразу сделался для Телегина незаменимым помощником. То есть, как было написано в ходатайстве на имя одного из замов Берии, ровно так и вышло. До приезда отца Телегин на новой работе откровенно тосковал. Церковь – и литургика, и экзегетика, и каноническое право – как ни примерься, была для него за семью печатями. Он и не пытался разобраться, говорил, что всё равно ни черта не поймет. Пограничная служба, на худой конец, оперативная работа – это его, а когда начальство велит заниматься особенностями православной догматики – ему плакать хочется.
Пока отец еще был в Ухте, Телегин пять раз писал заявление, настаивал, чтобы его перебросили на другое направление, но человек, который ему покровительствовал, все их одно за другим клал под сукно. Говорил, что понимает, как тяжело без живой работы, он бы и сам среди этих бесконечных попов давно повесился, но высовываться не время. Надо терпеть, выждать год или два, а дальше – он слово дает, что поможет.
Муж, – говорила Галина Николаевна, – и мне жаловался, что вот из семьи, где одни священники, некоторые даже были видными богословами, то есть для них то же самое церковное право – открытая книга, а для него эта хрень как была, так и останется темным лесом. Но стоило в Москве появиться отцу, всё волшебным образом поменялось. Да так, что телегинские дела нежданно-негаданно пошли в гору. Раньше никто и не подозревал, что он разбирается и в одном, и в другом, а тут выяснилось – просмотрели человека.
В общем, скоро его усилия и заметили, и оценили, поняли, что в церковных вопросах он дока – незаменимый сотрудник отдела. А к этому подверсталось, что многие из начальства по-прежнему относились к нему хорошо, в системе его всегда любили, помнили, как за него болели, когда он в «динамовской» форме жал гири, поднимал штангу или метал молот: так или иначе, по служебной лестнице Телегина дружно стали двигать вверх.
Ясно, что он уже не тосковал, и через два года на фронт, в действующую армию, стал проситься больше для проформы, потому что теперь работа была, ее было много, и результат тоже был. Меньше чем за год он настолько поднаторел, что и без отца многие вопросы решал вполне грамотно. Хотя по-прежнему в себе сомневался: уже сделав, всякий раз шел к отцу, чтобы тот проверил, не лажанулся ли он. И всё равно пока это еще был средний уровень, настоящий же телегинский взлет связан не с церковью, а с расследованием дела вышеупомянутого Гавриила Мясникова, не просто бывшего члена ЦК партии, но и одного из лидеров Рабочей оппозиции.
Впрочем, – объясняла Электра, – без отца Телегин бы и тут не справился. С мясниковским делом муж скакнул сразу через две ступеньки, кроме ордена Боевого Красного Знамени, других поощрений – среди них личная благодарность Сталина, – звание комиссара госбезопасности третьего ранга. То есть это была полная победа, и пока Сталин о нем помнил, было даже неважно, доволен Берия или нет, что не его – ежовский человек так резво ушел в отрыв. Всё же, наверное, особой радости Берия не испытывал, иначе не отправил бы Телегина через неполных полтора года начальствовать над небольшой зоной на Колыме.
Сам Мясников, его рукопись – она называлась «Философия убийства, или Почему и как я убил Михаила Романова», – его следственное дело и стали основой первого отцовского романа.
Теперь в общем виде канва того, что происходило в «Агамемноне», как я ее себе представляю, – продолжала Электра. – В середине двадцатых годов некий Г. Мясников, гражданин отнюдь не рядовой, глава Совета рабочих и солдатских депутатов пермской Мотовилихи – между прочим, одних только членов и кандидатов в члены партии пять тысяч душ, – ссорится с Москвой, не исключено, что лично со Сталиным, и бежит за границу. Сначала скитается где-то на юге – по слухам, Персия, затем Турция. В конце концов оседает во Франции. Работает на заводе, как и в Мотовилихе, слесарем-инструментальщиком. У него есть своя группа – по большей части это французские анархисты, но в целом мясниковцы – разношерстная компания.
Кажется, что он прижился, но в сорок четвертом году, сразу как немецкие войска покидают Францию, Мясников обращается в советское посольство в Париже с заявлением, что хочет вернуться на родину. Консультация с Москвой – и немедленное разрешение. Через неделю Мясникова на самолете через Италию и Болгарию вывозят в Москву. На Тушинском аэродроме его прямо у трапа встречают под белые руки и везут на Лубянку. Говорят, он даже не удивился.
Дальше – так в романе – Сталин (на Мясникова у него, по-видимому, зуб) вызывает Берию и приказывает, сломав отщепенца, расстрелять. Такая же резолюция: «Сломать» – и на мясниковском деле. Берия начинает искать человека, на которого мог бы положиться, зная, что тот не подведет. Но кандидаты насчет Мясникова уже навели справки, и желающих ни одного. Все только и говорят, что это тот еще фрукт. Оттого в двадцать пятом Дзержинский и дал ему сбежать. Главное, чтобы не в Мотовилиху, а так пусть катится колобком.
Никто не верит, что сейчас, спустя двадцать лет, с ним можно будет справиться. Кроме того, известно, что и здоровье у Мясникова не фонтан – большие проблемы с сердцем – значит, о спецсредствах лучше забыть. Неровен час, не покаявшись, отдаст богу душу, Сталину это не понравится. В общем, вперед никто не лезет, и Берия начинает нервничать. С Мясниковым давно пора работать, клиент простаивает вторую неделю, от безделья лишь наглеет. Всякое утро на имя Берии и на имя Сталина от Мясникова идут издевательские требования за каждый день отсидки в Лефортово перечислять ему на сберкнижку суточные. В размере ста франков. То есть ровно столько, сколько положено в Париже советскому дипломату высшего ранга.
Похоже, до Сталина ни одно из посланий пока не дошло, но достаточно и того, что его, Берию, они доводят до бешенства. И вот, – рассказывала Галина Николаевна, – когда все попрятались в кусты, сидят, затаились, когда и сам Берия уже дрейфит, что с этим заданием вождя не справится, вдруг вызывается мой дурачок. Ни с кем не посоветовался, никому слова не сказал, и как Матросов на амбразуру. Телегин однажды мне сказал, – продолжает Галина Николаевна, – что дома про него говорили, что он человек восторженный и донельзя наивный, то есть мозгов, как у курицы, зато красотой, главное, силой Бог не обидел – настоящий атлет.
Муж, в романе он Легин, а меня кличут Лекой, – продолжает Электра, – когда понял, как я этой историей испугана, конечно, охолонул, стал утешать, что попы, сколько их через его руки ни прошло, твердо стояли на одном: человек слаб, именно Господь таким слабым его и создал, сломать можно любого. Это как замок – не суетись, подбери ключик и входи, чувствуй себя как дома.
Я ему: «Но ведь отец вернулся, и в церковном отделе у тебя наладилось».
Он: «Да, наладилось, и все равно, Галя, как вспомню, что завтра мне туда не идти, дрожу от радости. Вот ведь беличье колесо, а я из него выбрался».
Впрочем, это были пустые разговоры. Поезд ушел, отыгрывать назад было уже поздно. Да и я была дура. В тот же день стала думать, что, может, Легин и прав. Хорошие отношения с Берией для нас много чего значили. Если дело выгорит, можно будет успокоиться, завести ребеночка, словом, не бояться, снова жить как люди. Между тем начальство прямо стелилось. Что муж ни попросит – без очереди и полной мерой.
Как водится, Легин начал с архива, засел там, искал, что на этого Мясникова есть. Нашлось много. Охранка его еще с 1903 года из вида не выпускала. Уже тогда он считался крепким орешком. Пару раз с Мясниковым пытались найти общий язык, склоняли к сотрудничеству, но толку не было, и ему поставили черную метку.
Легин понимает, что первый просмотр мало что дает. По вечерам – отец и это перенес в свой роман – он обсуждает со мной всё, что накопал за день, так что я в курсе, знаю, и что Мясников – потомственный уральский пролетарий, предки, кажется, из раскольников (может, оттого и занимался в Орловском централе самобичеванием), и что с 1904 года он член РСДРП. Активный участник революции 1905 года, причем занимался не пропагандой – бомбист и экспроприатор. Тут похоже на Сталина – только в Закавказье море, солнце, фрукты и вино, как следствие – всем известная южная расслабленность. На Урале о ней и не слышали.
Мотовилиха, где Мясников работает в пушечном цеху, – рабочий поселок, потом целый город – домишки и бараки вокруг огромного снарядного завода. Тут для Российской армии делали и делают чуть ли не треть боеприпасов. Рабочих почти двадцать пять тысяч душ. Преобладают эсеры и меньшевики, но свои фракции есть и у большевиков, и у анархистов. Столько пролетариата – серьезная сила. Терять над Мотовилихой контроль правительству не резон. Потому, едва в 1905 году начинаются волнения, власть целыми сотнями перебрасывает сюда казаков, вдобавок, чуть кто высунется, сразу на шею столыпинский галстук. Виселицу застолбил себе и Мясников, но повезло, лапоть-прокурор доказать ничего не сумел, в итоге наш герой отделался каторгой, позже, после побегов – четыре года Орловского централа.
Впрочем, и это не сахар. Страшнее орловской каторжной тюрьмы на Руси ничего не было, а тут вдобавок одиночка. В камере с подъема до отбоя занимался самообразованием, читал всё, что было – и классику, и Библию, и философов. На свободу вышел уже при Временном правительстве. Для мотовилихинских рабочих не просто вождь – человек, за которым в огонь и в воду. В Гражданскую войну его рабочие дружины контролировали половину Урала. Все – и Дутов, и Колчак, и Пепеляев – обходили мясниковские отряды стороной, считали, что связываться опасно. Затем в Москве – член ЦК и один из активнейших участников Рабочей оппозиции. Когда понял, что проиграл, бежал в Персию.
Тут всё, как и в жизни, только в «Агамемноне» отец не обращает внимания ни на даты, ни на многие другие обстоятельства. Видно, что единственное, что его интересует, как он сам ее называл, – «выжимка событий». В Персии зиндан. Бежал из зиндана, среди русских, кажется, вообще первый, кто сумел. Потом Турция, здесь тоже тюрьма. Побег и из нее. В романе он уже через день после побега на конспиративной квартире в Стамбуле встречается с только что высланным из России Троцким. Но договориться друг с другом им не удается. Наконец – Франция. Дальше, – подвела итог Галина Николаевна, – я уже вам говорила.
Архив Легина, конечно, не обрадовал, впрочем, он понимал, что раз все дружно сделали шаг в сторону, основания у них были. Так что он бодрится, говорит Леке, что будет вести наступление по всем фронтам, что-нибудь да найдется, не может не найтись брешь, короче, он прорвется. В частности, спустя неделю, как по этому делу было открыто производство, Легин едет в Каргополь к бывшему заслуженному чекисту Шрейдеру.
Шрейдер в двадцать третьем году уже брал Мясникова, теперь же сам был зэк; слава богу, хоть не на общих работах. И не доходяга. Хотя срок немаленький – восемь лет и пять «по рогам», то есть поражения в правах. Едет, конечно, с гостинцами. В посылке сало, тушенка, сухофрукты и много хорошего трубочного табака. Шрейдер, если была возможность, курил трубку. В довесок к посылке, еще до того, как к нему в оперчасть привели Шрейдера, Легин с начальником лагеря договорился о двух неделях больнички для своего протеже. Знал, что у Шрейдера целый букет – подлечиться не помешает.
В общем, тон был взят правильный, оттого и разговор с самого начала получился дружеский. Но ничего хорошего Шрейдер ему о Мясникове не сказал. Когда они в двадцать третьем году пришли арестовать Мясникова – дело было в Москве, в его служебной квартире, положенной Мясникову как члену ЦК, – он, Шрейдер, чтобы не пугать раньше времени заслуженного интеллигентного человека, старого большевика, зашел в его кабинет один, а трех служивых, которые с ним были, отправил на кухню чай пить. Конечно, это была ошибка.
В кабинете большой стол, не письменный, а обеденный, за ним Мясников читает какие-то бумаги, Шрейдер, пододвинув стул, садится напротив и как бы в довесок к тем, что на столе, подсовывает Мясникову еще одну бумагу. Постановление об обыске, подписанное Дзержинским. Текста немного, неполных три строки, но Мясников читает их один раз, второй – и каждый раз скашивает глаза, сморит на подпись. Правда, не возмущается, не кричит, что сейчас станет звонить Ленину, не грозит ему, Шрейдеру, что тот, мол, не знает, на кого руку поднял: он, Мясников, завтра же, причем собственноручно, его расстреляет. То есть ведет себя достойно.
И Шрейдер, хотя вообще-то нюх у него собачий, успокаивается. Думает, чего гнать волну – человеку надо привыкнуть к новому положению дел, понять, что он больше не начальник, которого надо бояться. Наоборот, почти наверняка сразу после обыска ему предъявят еще одну бумагу за подписью Дзержинского – постановление об аресте. Она и вправду лежала у Шрейдера в папочке. А дальше шансов, что советский суд не признает его врагом трудового народа со всеми вытекающими последствиями, немного.
В общем, он, Шрейдер, сдуру повел себя тогда с этим Мясниковым по-человечески, отнесся как к бывшему товарищу по партии, который что-то напутал в теоретических вопросах и теперь ему придется несладко. И вот, пока он хорошо, даже с сочувствием, о нем думал, Мясников как-то так изловчился, что прямо из-под стола носком штиблета со всей силой врезал Шрейдеру по яйцам.
«Врезал навылет, – рассказывал Шрейдер, – боль была адская, похоже, я и “мама” сказать не успел, может, даже не вскрикнул, сразу вырубился. Потом еще год ходил с мошонкой, которая ни в какие галифе не влазила. Между тем, – продолжал Шрейдер, – моя охрана как пила себе чай на кухне, так и пила, у Мясникова было время спокойно собраться и уйти из квартиры».
Услышанному Легин не удивился, он и раньше догадывался, что Мясников та еще сука, вежливого обращения не поймет; то, что рассказал Шрейдер, его в этом лишь укрепило. Впрочем, Шрейдер был неплохим рассказчиком, а Легин никуда не спешил.
“Дальше, – продолжал Шрейдер, – Мясников будто растворился. Искали его по разным направлениям: смотрели и его родину – Урал с Пермью, и запад, и юг, – ни одной зацепки. Правда, просеивать всю страну не просеивали, в ЦК боялись одного: что Мясников подастся в Пермь, где у него много своих людей, остальное смотрели для проформы. Но в Перми было тихо, и Дзержинский дал отбой. А когда по коминтерновским каналам стало известно, что персидская контрразведка арестовала какого-то русского, по описанию вылитого Мясникова, теперь он сидит в тамошнем зиндане – ЦК и вовсе утешился, – говорит в «Агамемноне» Шрейдер и продолжает: – Но списали Мясникова рано.
Этот колобок ото всех уходил. Потому что из Тебризской тюрьмы он – а как, непонятно – сбежал. Потом та же история в Турции. Здесь Ататюрк – может, и по нашей наводке, – его отловил. Держали в надежном месте – Галатской тюрьме. Тюрьма строгого режима, вдобавок с восточными ухищрениями. Но через полгода Мясников и из нее сделал ноги. А дальше: как что наши, что турки его ни выслеживали, в Константинополе разыскал Троцкого, и они на конспиративной квартире внаглую несколько часов вели переговоры. На чем порешили, до сих пор неизвестно. По-видимому, ни на чем. Оба первые номера, и у того и у другого гонора выше крыши – таким трудно договориться.
После той встречи Троцкий через два дня отплыл пароходом прямиком в Мексику, а Мясников направился во Францию, но в своем стиле. То есть не в двухкомнатной каюте первого класса, а вместе с контрабандистами, горными тропами. Все его дальнейшие скитания по Европе отец в «Агамемноне» изложил очень подробно, главное, ни на йоту не отступив от канонов приключенческого жанра.
Сначала Мясников перебирается в Болгарию. Затем, по Шрейдеру, через Румынию, Венгрию, Австрию и Германию за полгода в конце концов попадает в Мюлуз. Оттуда уже поездом в Париж. Больше других в странствиях по Европе Мясникову помогали анархисты. Говорили, – рассказывал Шрейдер, – что среди них он был очень популярен. То, как Мясников поставил дело на Мотовилихинском снарядном заводе во время Гражданской войны, было действительно подтверждением мыслей Бакунина, Прудона и Сореля о том, как должно быть устроено справедливое общество – это, конечно, тоже было любопытно.
Впрочем, ни по поводу побегов, ни о рабочем движении голова у Легина не болит. Дискуссия о профсоюзах была и у нас, но заводилы давным-давно лежали в земле, остальных пощадили, просто разбросали по лагерным зонам. Больше об анархо-синдикализме никто не вспоминал. Опять же и тюрьмы – засовы в Лефортово куда прочнее, чем в персидских и турецких темницах, и Легин не боялся, что наутро, когда он вызовет Мясникова на допрос, начальник тюрьмы скажет: «Нет, дорогой товарищ, к сожалению, ничем помочь не могу. Подследственный Мясников сегодня ночью утек. Как, до сих пор не понимаем, потому что замки целы и на месте, стена тоже нигде не разобрана, а вашего Мясникова след простыл. Прямо чудеса». Может, по этой причине, – рассказывала Галина Николаевна, – в романе Легин возвращается из Каргополя вполне бодрым, говорит жене, что пара козырей про запас у него еще остается.
В Москве Легин снова на пару недель засел в архиве, заново перечел донесения наших резидентур насчет Мясникова – персидской, турецкой и французской. Материалов было выше крыши, Мясников как занимал, так и продолжал занимать Лубянку, но за что уцепиться, Легин не нашел. Не было ничего, за что его можно было прижопить, и дома Легин жаловался, что чем больше про него читает, тем меньше понимает Мясникова, оттого и не начинает допросы. В самом деле, человек почти двадцать лет тихо-мирно работает фрезеровщиком на заводе «Рено», по вечерам тут же, в трехстах метрах от проходной, в заводском клубе общается с группой единомышленников, по большей части тех же самых анархистов. Для них он вождь и учитель, теоретик и провозвестник будущего всемирного рабочего самоуправления, которое на веки вечные покончит с безжалостным и бесчестным государственным насилием. Но получается, что всего этого, чтобы спокойно жить во Франции и не тосковать по России, Мясникову мало. Легин понимает, что здесь есть что-то важное, что-то, к чему рано или поздно ему придется вернуться, разобрать и обдумать, но решает, что пока правильнее сосредоточиться на другом.
Любой, даже желторотый следователь НКВД знает, что у самого упертого, самого злостного врага народа есть две коренные слабости, и уже потому он обречен. Первая – его собственная плоть. В отличие от духа, плоть по своей сути, по самой своей природе есть политическая проститутка, она соглашатель и капитулянт. Сплошь и рядом легко, часто с радостью, она идет на сотрудничество с органами дознания, всегда готова предать дух, и против такой коалиции подследственному не устоять.
Дух еще хорохорится, лезет на рожон, не зная, что его родная плоть давно перекинулась на сторону врага, тихой сапой ведет переговоры со следствием, готова сдаться на его милость, только бы ее лишний раз не мучили. Мирно отправили на тот свет. Когда дух поймет, как глубоко проникла измена, предательство ломает его через колено, дальше он если и сопротивляется, то для проформы.
Второе, из-за чего обвиняемый обычно прогибается, дает слабину, – родня. В первую очередь это, конечно, мать, жена и дети. Особенно если они маленькие. Ты сам можешь рисковать как угодно, быть готовым к любому исходу, но тогда твердо помни: настоящий революционер не должен, не имеет права заводить семью. Потому что пусть ты искренне ненавидишь нашу родную рабоче-крестьянскую власть, чтобы вернуть страну в проклятое прошлое, готов жизнь отдать, но детей зачем за собой тянуть, они-то чем виноваты? Ведь о твоих делах они ведать не ведали, ни сном ни духом ни в чем не участвовали. С таким грузом и на тот свет идти тяжело. Однако ни по одному из этих двух направлений, – говорит в романе Лека, – мужу не подфартило, и тут, и там облом.
Он начал с родни. Мать Мясникова давно умерла, ее не стало еще в 1914 году, когда он отбывал первый год своего срока в Орловском централе. Уже в революцию Мясников как-то сказал своему старому товарищу по заводу, что даже не знает, где она похоронена. Пытался найти могилу, да бросил. Кого ни спрашивал, никто ничем не помог. В двадцатом году, то есть уже в Москве, Мясников наконец женился, избранница – некая Дарья Варнина, в романе она ткачиха с Трехгорки. Но вообще-то, – говорит Галина Николаевна, – кажется, была родом из Перми.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?