Текст книги "Царство Агамемнона"
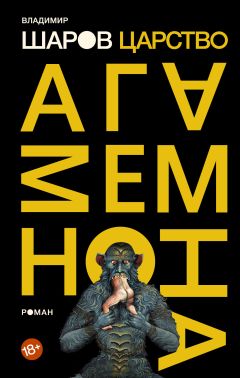
Автор книги: Владимир Шаров
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 12 (всего у книги 36 страниц) [доступный отрывок для чтения: 12 страниц]
Понятно, что не раз и не два отцовская честность кончалась для людей, которых он знал, долгими сроками заключения, а то и расстрельными приговорами. За это и сейчас отца многие проклинают, даже слышать о нем не хотят. Но мне и тогда казалось, и теперь я думаю то же самое, что за зло надо спрашивать не с него – вина лежит на нашем безумном времени.
Антихрист захватил власть на земле, установив на ней свои порядки – извратил всё, на чем Господь выстроил мироздание. Один из его краеугольных камней – правда, но сатана сделал так, что при нас и от правды происходило одно только зло. Это не абстрактные рассуждения: в романе отец и единым словом не пытается уйти от ответственности, выгородить себя, наоборот, шаг за шагом отказываясь от всего, что раньше считал правдой, он тем самым ставит крест и на мире, в котором нам выпало жить.
К этому я еще вернусь, – продолжала Электра, – а пока другой вопрос, который дальше неизбежно возникнет. Почему отец считал «Агамемнона» продолжением – пятым томом – «Братьев Карамазовых»? Еще до начала арестов, когда он по разным квартирам читал текст, в его попытке опереться на великого предшественника некоторые усматривали слабость, говорили о неуверенности в собственных силах. И вправду, ведь Христос учил, что не наливают молодое вино в старые мехи, а отца к старым мехам будто канатом тащило. Словно всё, что в нем жило, день за днем кипело и бродило, ни в какую иную форму отлиться не могло. Впрочем, отца подобные упреки не волновали, он относился к ним иронически, и вот почему.
Начну, – вела дальше Электра, – со сторонней, в сущности, ремарки. Отец не считал писателей ни пророками, ни провидцами, чем несомненно их низводил, но тут же в одной из своих статей признавал, что часто жизнь строится точь-в– точь, как она кем-то прежде была написана. Объяснял, что тут дело не в дальнозоркости, а в бездне соблазнов, которыми буквально сочится хорошая проза. Перед этим искушением, продолжал он, мы сплошь и рядом беззащитны.
Случается, что книга написана с такой пронзительной достоверностью, с такой неоспоримой убедительностью, что, не имея сил устоять, целые народы становятся на путь, который им кто-то предначертал. Больше того, боятся и на шаг отступить в сторону, а то собьешься с дороги и придешь не туда, куда зовут. В той же статье отец утверждал, что в прозе, опять же если она хороша, действуют, силятся отличить добро от зла настоящие, живые люди. Люди из плоти и крови, ничуть не уступающие тем, кого производит на свет божий любая женщина. А отсюда следовало, что там, где автор по своему произволу ставит точку, решает не длить историю, жизнь его героев отнюдь не кончается, разве что делается более камерной.
В статье он высмеивал девичью стыдливость наших учебников и основополагающих трудов, страх не то что дать герою волю, а и на самую малость отпустить поводок. А то окажется – пока ты его превозносил, этот несознательный элемент выкидывал такие фортели, так накуролесил, что костей не соберешь. Того хуже – наделал политических ошибок, например, присоединился не к тем и не тогда, когда надо, совсем беда – принял участие в левоэсеровском мятеже лишь потому, что раньше был народником и бомбистом.
Понятно, что речь о младшем Карамазове, об Алеше, как его, по многим свидетельствам, думал писать Достоевский. А его брат Дмитрий, опять же вроде бы неплохой человек, тот вообще встает на сторону контрреволюции, всю Гражданскую войну почем зря вешает, расстреливает красноармейцев и большевиков. Получается, что ты даже не попутчик, и это не случайная политическая ошибка, а воспевание, прямое пособничество контрреволюции. Что значило подобное обвинение, объяснять не надо.
В той же статье – одной из немногих, которые отцу удалось опубликовать, она вышла в пролеткультовском журнале «Рабочий удар» номер три за двадцать четвертый год – он писал: «Законен вопрос: что стал бы делать тот или иной персонаж, доведись ему дожить до Октябрьской революции, – принял ее или нет, а может, попытался бы отсидеться в кустах, намеренно обойти стороной.
Ответить же на него необходимо. Ведь семнадцатый год – оселок, лакмусовая бумажка, один он способен точно сказать, кто ты есть на самом деле: наш человек или враг трудового народа. Как правило, внутри канонического текста ответа на данный вопрос нет, оттого довести повествование до наших дней – насущная задача. Отдельно скажем о великих романах, которые не были окончены. Они просто взывают об этом. Народ видит в них недосказанное откровение. Верит, что, явись оно нам в должной полноте, мы бы не плутали в потемках, сразу нашли ясный путь к коммунизму, к раю на земле. Игнорировать последнее никто не вправе».
Там же, но в сноске, то есть тихо, петитом, отец снова повторил мысль, что воздух каждой эпохи имеет свой химический состав, после чего отметил, что литературные персонажи, отбыв положенный срок на авансцене, уходят за кулисы и как бы засыпают. Сон их очень глубок, похож на летаргический, часто даже кажется, что они вообще умерли. Но это ошибка. Как змее, чтобы очнуться от зимней спячки, нужно тепло, так и им, чтобы снова задышать полной грудью, нужен особый состав атмосферы. Бывает, что ждать его приходится не одну сотню лет. Но когда мы находим двух похожих, будто близнецы, персонажей – тут неважно: ни как они одеты, ни на каком языке изъясняются, ни какие идеи исповедуют, – нам дан знак, что вернулось время, о котором мы и думать забыли.
Отец, – продолжала Электра, – не просто перенес в роман многое из мясниковской «Философии убийства». Он, что я уже объясняла, – повторила Электра, – принял и его правду. В романе история великого князя Михаила представлена как попытка старого мира, ничего не меняя, ни в чем не покаявшись, просто пересдать карты и продолжить ту же игру, что велась раньше. В рукописи Мясникова великий князь Михаил Романов есть буквальный повтор царя Михаила I Романова. Тот, первый, Романов был избран на царство хором боярских голосов, согласных между собой, что он «молод, глуп, нам поваден будет». Так же глуп – и в этом его право на престол – современный Мясникову великий князь Михаил.
Михаил Романов занял трон не по праву рождения, он стал царем волей Земского собора; нынешний Михаил готов воцариться лишь после того, как власть над Россией ему отдаст недавно выбранное Учредительное собрание – подобных рефренов бездна.
И вот пятый отцовский том «Карамазовых» не о младшем из братьев – Алеше, как предполагал Достоевский; он есть книга несчастного, вся жизнь которого от – зачат в канаве дурочкой, убогой идиоткой, изнасилованной наплевавшим на все мыслимые законы мерзавцем – до слуги этого самого мерзавца – есть прямое обвинение, прямое свидетельство преступности нашего мира. Она книга презренного смерда, который, будто античный герой, восстал, поднялся против нашей общей неправды. Готов извести ее под корень.
Мясников прочитал «Карамазовых», когда отбывал срок в Орловском каторжном централе, и он называет Смердякова самым благородным персонажем русской литературы, и дальше, как уже говорилось, фактически ставит знак равенства между Смердяковым и собой. В чем отец не мог не увидеть еще одно подтверждение своей давней мысли, что из всех «Карамазовых» отнюдь не Алеша, а Смердяков есть истинный герой нашего времени. Что наша революция – именно его революция.
Насколько я понимаю, – продолжала Электра, – отец писал даже не роман, а классическую греческую трагедию, и это сразу поняли на Лубянке. В тексте были противоречия, но он и не подумал их убирать, наоборот, везде, где мог, выделил, обнажил, что лишь подчеркнуло: для человека выхода нет, в наше время ему не спастись. Что на этом свете, что на том – он обречен.
В романе Советская Россия есть царство сатаны. Бесы, которых Господь некогда низверг в ад и на прокорм им отдал души закоренелых грешников, теперь, стоило нам изменить вере, всей своей несчетной ордой, всеми своими несметными тьмами выбрались из бездны; Спаситель ушел, освободил трон, который занял сатана.
Что прежде удерживало на краю: церковь – захвачена сатанинским отродьем обновленцев (оттого и таинства безблагодатны), царство – ныне антихристова власть большевиков, которая разоряет храмы, монастыри и режет священников, будто скот; миром правят доносы, предательства, карающий невинных суд. Дети в царстве антихриста публично отрекаются от родителей, а родители от детей. Ясно, что в такие времена невозможно иначе спасти свою душу, как ото всего бежать и ни в чем не участвовать. Не использовать деньги каиновой власти, потому что на них печать сатаны, не работать на нее, не платить ей налоги, не отдавать детей учиться в ее школах.
Роман не просто это декларировал. Многие его страницы, – рассказывала Электра, – были непрямым, отчасти даже неявным диалогом Жестовского и клана Сметониных. Отец с любовью писал о маленьком особнячке во дворе многоквартирного дома на Собачьей площадке, под крышей которого в тепле и уюте жило человек тридцать самого разного народа, но в общем все из «бывших». Сам хозяин, его двоюродные и троюродные братья и сестры, у некоторых дети, их хоть и различают – воспитывают скопом, так же кормят и кладут спать. Друзья и подруги этих сестер и братьев по гимназии, по курсам, по театральным студиям, до которых они были великие охотники. Кроме родни, их друзей, просто приживалок, в доме ночуют по несколько человек тайных монахов, странников, понятно, без документов и разрешений, так что хозяин, каким бы известным адвокатом он ни был, многим рискует.
И вот на этом ковчеге каждому помогут, никого не бросят в беде. Не только дадут кров над головой, но и накормят, оденут, а если объявить, что завтра уходишь, что уже пора, иначе Бог перестанет тебя слышать, – тебе еще много чего дадут с собой, чтобы хоть первое время ты ни в чем не испытывал недостатка. И всё с неизменным благорасположением, лаской тянет на себе один Сметонин.
Неясно как, но странный анклав, плотно обложенный Советской Россией, существует почти двадцать лет. Однако к началу войны его будто и не было; Сметонин умер, дом теперь занимает районное отделение милиции, от прежних многочисленных насельников не осталось и следа. Даже могил, куда можно было бы прийти их помянуть.
Поначалу, – продолжала рассказывать Электра, – самой верной метафорой происходящего отцу кажется Гражданская война. В романе он пишет о нашем времени как о времени нескончаемого братоубийства. Так как одна на всех нам нужна только победа, и за ценой мы, ясное дело, не постоим, о числе жертв никто не спрашивает. Но скоро взгляд отца меняется (так будет еще не раз). Какая Гражданская война? С кем воевать, когда у врага нет ни танков, ни самолетов, ни артиллерии. Вообще нет ничего, даже наших славных органов государственной безопасности. То есть перед нами обыкновенная бойня. Истребление одних и обращение в лагерное рабство тех, кому пока оставлена жизнь. В свою очередь, уже из этого рождается отцовское понимание нашего времени как вечного стояния у горы Синай.
Сколь бы в «Исходе» и во «Второзаконии» Моисей ни предостерегал, ни убеждал сыновей Иакова, что все, кто вместе с ними вышел из Египта, законная часть народа Божия, – в нас поселяется страшная уверенность, что вокруг одни враги и предатели. Пока не изничтожим последнего, не след даже думать о Земле обетованной. С подобной нечистью в Землю, текущую молоком и медом, Господь нас никогда не пустит.
Стояние у горы Синай отец пишет очень подробно, то и дело к нему возвращается. В общем, для него, как и раньше, речь идет о Гражданской войне – и той, классической, которая, по распространенному мнению, завершилась в двадцать втором году, и ее продолжении – оно, как убежден отец, ни разу не прервавшись, длится до сегодняшнего дня (имеется в виду сорок шестой год, когда он стал писать свой роман).
Так вот поначалу, вспоминая Воронеж и восемнадцатый год, он твердо держится точки зрения Моисея, как заклинание повторяет, что мы ни при каких условиях не должны были допустить повторения «горы Синай». Но дальше, – завершает наше затянувшееся чаепитие Электра, – настроение отца меняется. Шаг за шагом – в «Агамемноне» дело происходит уже на зоне – он принимается разворачивать корабль”.
Со слов Галины Николаевны я знал, что есть человек, фамилия его Кошелев, который полностью был в курсе того, о чем Жестовский учил зэков в лагере и что потом едва ли не в полном объеме попало в роман, выстроило его, так сказать, богоискательскую линию. И что этот Кошелев, правда, когда Жестовский уже скончался – они разминулись буквально на год, – прожив у Электры в Протопоповском больше полутора месяцев, чуть ли не сутки напролет рассказывал ей о лагере и о ее отце.
Понятное дело, я очень им интересовался, но Электра юлила, юлила, говорила, что о Кошелеве расскажет потом, может, прямо завтра, но не рассказывала, будто забыв, начинала какую-то другую историю. Возможно, у нее был свой план, что́ и в каком порядке я должен от нее узнать, и до Кошелева еще просто не дошла очередь. Впрочем, время от времени его фамилия продолжала возникать в разговорах.
Но стоило мне начать настаивать, объяснять Электре, что именно Кошелев мне и нужен, в ответ будто в первые месяцы нашего знакомства она несла околесицу. И я, как только она уходила, записывал на полях своего кондуита, что старики очень лживы и очень хитры и что вот, например, сегодня, когда я спросил Электру о Кошелеве, она, ни с того ни с сего подхихикивая, стала мне рассказывать, где и в каких храмах – потому что священники ленивы и нелюбопытны – исповедуют формально, так же отпускают грехи, всячески намекая, что если есть что-то, о чем я не хотел бы говорить, надо идти именно к ним. Называла имена, дни недели, когда они причащают. Но и тут был риск, оттого особенно горячо она рекомендовала мне большие многолюдные храмы, где практиковались общие исповеди. Грешен? “Да, батюшка, грешен”.
Я ей, в который раз: “Галина Николаевна, вам-то зачем? Если надо, отец Игнатий вас всегда и исповедует, и грехи отпустит”.
Она снова хихикает. А если не угомонюсь, опять какой-то бред. Будто и вправду у нее Альцгеймер. В свой старческий маразм она забивалась, как в кокон пряталась, укрывалась в нем, и это работало. Я отставал. Лишь убедившись, что ей ничего не грозит, она снова вылезала на свет божий.
Ночь спустя и тоже на полях:
Она чистой воды божий одуванчик. Кажется, дунешь – и полетит, хотя вечно мерзнет, оттого даже летом в ватных штанах, поверх шерстяной вязаный платок, и другой, закрывающий пол-лица, и всё равно видно, какая она хрупкая, тоненькая. Лицо у нее гладкое и румяное. Она много кокетничает, но и это мило, будто маленькая девочка. То есть не как старуха, время которой давно прошло, а как ребенок, еще не знающий своей прелести, только пробующий себя, что, конечно, в ватных штанах, платках смешно и наивно.
Вот, например, вчера она стала мне объяснять, что у ее отца был пророческий дар, и дальше добавила, что когда ей было три года, отец сказал, что мать продолжит лепить из нее Электру и чтобы она этому не противилась. Но я на его слова и внимания не обратила, – сказала Галина Николаевна, – вспомнила о них, лишь когда сошлась с Телегиным. Потом, конечно, уже не забывала.
Честно говоря, и я, в свою очередь, что само пророчество Жестовского, что ее отношения с Телегиным пропустил тогда мимо ушей, но через два дня дело разъяснилось, причем для меня самым неожиданным образом.
“И другое его пророчество, – продолжала Галина Николаевна. – Вы уже знаете, что он умер в скиту, среди болот, а тут, когда мать, мне и Зорику зачитав страницы из его дневника, ушла к себе в комнату и мы остались одни, он мне сказал: «Я очень люблю твою маму, любил и всегда буду ее любить, как бы мы ни жили. Ни при каких обстоятельствах я бы не хотел, чтобы мы с ней вообще не встретились, так и прожили жизнь, ничего друг о друге не зная, но сейчас думаю, что мне было бы лучше жить в скиту».
Я отцу: «Как Сергий Радонежский?» – Мы с мамой недавно были в Троице-Сергиевой лавре и я это имя хорошо запомнила.
Он: «Нет, один, без братии, – и продолжал: – где-нибудь в лесу и чтобы рядом источник и лесное озеро, пусть совсем небольшое».
Вообще, – сказала Электра, – он часто говорил вещи и нам и себе как бы на вырост”.
Что разговоры о пророчествах просто подступ к теме, стало ясно уже через неделю. Мы кончили чаевничать, Галина Николаевна собралась идти в свою комнату. Стоя в дверях, она вдруг говорит, что мы уже достаточно коротко знакомы – и вправду, нашим посиделкам пошел второй год, – она хочет, чтобы дальше, только не на людях, я ее звал не как раньше Галиной Николаевной, а Электрой. Так ее звала мать, брат да и муж то же самое имя переиначил в Леку. В общем, Электрой ей и привычнее и приятнее.
Помнится, от неожиданности я тогда поперхнулся, но допытываться, что да почему, не стал, решил, что коли она хочет быть Электрой, пускай и будет. Что, наверное, раз брата назвали “Завершим освобождение рабочих и крестьян”, то и ее, отнюдь не в честь греческой принцессы, а какого-нибудь очередного ГОЭЛРО и модного тогда электричества, окрестили Электрой.
О другом я даже думать не желал. Связать эту сухонькую старушку в старых шерстяных платках с греческим мифом, конечно, было трудно. Так что я сказал: милая Галина Николаевна, хорошо, с завтрашнего дня, как вы и хотите, буду звать вас Электрой, только чтобы окончательно перестроиться, мне нужно время, и поначалу я иногда буду путаться, снова звать вас Галина Николаевна. Помню, что даже подумал, что Галина Николаевна звучит длинно и официально, а обращаться к ней Галя мне не по возрасту. Электра же – в самый раз. Почему мою милейшую Галину Николаевну в семье и вправду звали Электрой, я понял следующим вечером. И тут оказалось, что зря я так с полоборота отфутболил несчастных греков.
28 сентября 1982 г.
Сегодня, ближе к ночи, разговор опять выруливает на якутку.
Я: “Ну и что, отец был прав? Мать сделала из вас Электру?” – спрашиваю, уже зная, как обстояло дело.
Она: “Да, конечно, прав. Якутка не любила играть по копеечке, ее это не брало. Оттого всегдашняя готовность поднять ставки. Требовались большие страсти, яростные объяснения, предательства и измены, а не какое-то застойное болото. Потому она и баламутила, – продолжает Электра. – Я никого не осуждаю, просто у нее был такой темперамент. Сейчас, когда я много всего прочитала про Электру, и не только прочла – на себя примерила, я, конечно, понимаю, что мать не хотела, чтобы так закончилось… Думала, что она сильнее, как во всем другом: сильнее, умнее, красивее, но если бы и знала, как сложится, вряд ли бы уступила. Потому что иначе всё это бесконечное вынашивание, роды с кровью и дерьмом, потом столь же муторное выкармливание – еще ладно, когда даешь грудь, а если, чтобы сцедить немного молока, надо мять ее и мять, чуть не до синяков, и всё равно у ребенка колики в животе и вечно обделанные пеленки… Что же до самого младенца, то он, конечно, и мил и твой, но так непоправимо глуп, умеет только кричать и неизвестно почему плакать. Тебе, чтобы хоть ненадолго заснуть, приходится часами его укачивать. В общем, ей это казалось смертной тоской и ничем не оправданным ограничением ее свободы, которую она ценила превыше всего.
В гимназии на уроке химии она услышала про благородные газы и про монады, которые никогда и ни с кем не соединяются, разве что на короткое время, стала думать, что она из них, из «летучих голландцев», и, сойдясь с моим отцом, с первого дня знала, что ему с ней придется нелегко. Вряд ли он вправе рассчитывать, что она всю жизнь будет ему верна. Впрочем, – говорила Электра, – я уже вам объясняла, отец и сам клялся, что не станет препятствовать ее свободе, хорошо понимает, что это насилие над душой и плотью другого человека, а на это никто права не имеет.
Надо сказать, – продолжала Электра, – что мать была хороша собой, можно сказать, замечательно хороша, а я появилась на свет божий неказистой и замухрышкой. Маленький жалкий комочек, к тому же с веснушками. Вдобавок квелый, родители поначалу думали, что не жилец. И вот мать – говорила Электра, – может быть, просто чтобы разнообразить жизнь, придать ей краски, придумывает, что она растит не обычную дочку, а сама себе на погибель – Электру. Это, конечно, добавило вкуса.
Я росла, а она всё искала во мне черты, благодаря которым однажды ее превзойду. В итоге то, что раньше было лишь тягостной обузой, сделалось неплохой игрой. Впрочем, она и теперь слабо верила, что такое щуплое беспомощное существо, ничтожный комочек жизни, которого любое неплотно закрытое окно может отправить на тот свет, когда-нибудь станет у нее на дороге. Тем более что и когда выросла, окрепла, красавицу-победительницу рассмотреть во мне было трудно.
Но игра в Электру, – рассказывала Галина Николаевна, – еще долго ее возбуждала, поддерживала интерес. Это и дальше осталось основой наших отношений. Хотя Клитемнестра любила жаловаться, что в дочери нет не только ее красоты, стати, недостает и изюма, в сущности, мы даже были похожи, то есть я была ею, только слегка обесцвеченной. Будто природа вдруг испугалась, решила спустить дело на тормозах.
Впрочем, – поправилась Электра, – всё было не так уж и безнадежно. Конечно, мать была куда красивее, но я тоже ничего. По общему мнению, очень недурна. К пятнадцати годам у меня и мясо наросло где надо, и припухлости появились, кожа гладкая, говорили, аж лоснится. Я не раз за спиной слышала: «Какая аппетитная!» Оттого, наверное, и пришло в голову, что я, будто Электра, любого могу соблазнить – Телегин не исключение”.
Конечно, было смешно, когда эта маленькая сухонькая старушка, чистая и скромная до унылости, вдруг принималась объяснять, как мать делала из нее Электру. Неструганые щербатые полы, прикрытые старым, то тут, то там протертым линолеумом. Бесцветная кофта, платок на спине для тепла, еще два таких же – на голове и на пояснице, в придачу ватные штаны – вот полный костюм греческой принцессы, неведомыми ветрами занесенной в наш Лихоборский дом для престарелых.
Уже когда ее схоронили, приписал на полях: “Три года, что она у нас пробыла, ей было хорошо, можно даже сказать, очень хорошо. Настолько, что она не раз повторяла: сейчас ясно, что не просто жизнь прожита правильно, правильным был каждый ее кусочек. Раньше она о себе думала иначе, но время всё расставило по местам, всё объяснило и со всем примирило. Маленькой девочкой, женщиной, да и старухой тоже, она жила как умела, ни о чем особенно не задумывалась. Было холодно – куталась в платок, обижали – могла огрызнуться, но чаще просто уходила, а в итоге всё оказалось нужным, всё пошло в ход. Словно в хорошей мозаике не осталось ни пустот, ни лишних кусочков смальты. Об этом, о том, как одно к другому так умно, так аккуратно подогналось, Электра упоминала с гордостью.
У нас в Лихоборах она в своих шушунах и платках, когда была свободна от медицинских процедур и мы не чаевничали у меня в ординаторской, будто мойра, споро, но без запарки плела макраме. Разноцветные коврики и занавески очень сложного, очень изысканного узора. Было видно, что, глядя, как одна нить сплетается с другой, с которой и не думала сплетаться, о которой прежде ничего не знала и не слышала, она наслаждалась.
Думаю, для нее в этом было и единство мироздания, и наша всеобщая связь – зависимость одного от других. То есть спасительная от греха несвобода. Ведь и вправду, не нить решает, куда она пойдет дальше. В одном случае – она, Электра, в другом – еще кто-то сплетает нас по своей прихоти, и мы ни под каким предлогом не можем уклониться. То есть глупо даже пытаться бунтовать, тем паче что и макраме в итоге получались замечательно хороши. Мы, кто рассматривал ее коврики, не сговариваясь повторяли, что в этих причудливых узорах каждая нить на своем месте”.
Тоже на полях:
Как многие старики, о любовных делах Электра говорит не стесняясь, иногда с откровенным бесстыдством, но и здесь подчеркивает, что всё оказалось правильным, как ни посмотри – необходимым. Вот и вчера она, вдруг решив, что отцовских обвинений якутки недостаточно, захотела добавить в эту корзину своего: сказала, что мать была лживой, хитрой интриганкой, и дальше, что отец звал жену “естествопытателем жизни”, повторял, что иначе, не пытая и не испытуя себя и других, она просто не может жить. Если вокруг всё мирно и спокойно, для нее это трясина, в которой так и канешь, потонешь без следа. Оттого стоило в доме установиться какой-никакой тишине, она бежала оттуда как от смерти.
“Якутка, – говорила Электра, – несомненно была парным созданием: один на один с собой ей было плохо, она скучала, переставала за собой следить, весь день не вылезала из ночной рубашки, тосковала. Однако стоило матери с кем-то сойтись, начинался настоящий канкан, у всех голова шла кругом. Впрочем, усложнения конструкции не происходило, делалось лишь больше нервов и крика на разрыв аорты, остальное воспроизводилось под копирку.
Я год за годом, – говорила Электра, – наблюдала ее со стороны, и могу твердо сказать, что всё вокруг, мать бесповоротно упрощала, спускала до своего уровня. Почти с ненавистью она мешала отношениям других людей между собой. Неважно, жила она с ними или не жила. Она отчаянно, по-животному ревновала, когда тот, кого она считала своим, вдруг начинал интересоваться, еще хуже, заниматься кем-то еще. Шла на всё, лишь бы опять перевести стрелки на себя, и только вновь оказавшись в фокусе, успокаивалась.
Она одновременно считала себя разрушительницей – космоса, его гармонии, – то есть той самой «беззаконной кометой», но тут же требовала, чтобы все силы притяжения или исходили от нее, или были к ней направлены. Была убеждена, что сама она вправе делать, что пожелает, но небесная механика устроена так, что только когда она в центре мироздания, планеты вращаются правильно, иначе – один нескончаемый хаос”.
Через неделю, 12 октября 1982 г., к моей радости, Электра снизошла, принялась рассказывать о Кошелеве. Сегодня вечером с его слов стала излагать научные работы Сметонина. Но и тут скоро свернула на отца.
“Вы, Глебушка, всё у меня допытывались насчет Сметонина. Он был, конечно, интересный человек, тут ничего не скажешь, на отца оказал большое влияние, – и продолжила: – Глебушка, милый, знаю, что всё, что рассказываю, вы записываете, до утра корпите над дневником. И про Сметонина с Кошелевым, отцовским учеником, конечно, тоже не пропустите, тем более что столько раз просили, чтобы я это вам как можно точнее рассказала. Так вот, чтобы было легче, чтобы важное не забылось, я сегодня с утра вспоминала, одно с другими договаривала. Надеюсь, что поможет.
Начну со сметонинских работ. Когда он их писал, отца и на свете не было, значит, в нем корень, а не в отце. В каждой, конечно, много чего интересного, но я только то возьму, что в кошелевском пересказе совсем уже поразило.
Из «Опричного права» то ли мысль, то ли слова Грозного, что скольких и когда он убил – не помнит, не может помнить. Отсюда, кстати, его знаменитые слова: «Имена их ты, Господи, и сам ведаешь». Этих, неизвестно за что им убитых, он называл «кроновыми жертвами», писал, что казнил их, распалившись гневом, потому и не помнит, в таком состоянии человек разве соображает, что делает, вот он и рубил голову каждому, кто попадался под горячую руку.
Но соль даже не тут: Грозный объясняет Курбскому, что жизнь есть юдоль страданий, оттого те, кто им, помазанником Божьим, царем Святой земли, убит без вины, то есть те, чьей кровью его беспрерывно попрекают, не только что не внакладе – в немалом барыше. Как невинно убиенные, они, претерпев страдания здесь, на земле, после кончины немедля будут взяты к престолу Господню, на веки вечные избегнут куда более страшных мук Божьего суда.
В другой своей статье, «Божественное и гражданское право в делах о староверческой ереси», Сметонин, рассматривая процессы над староверами разных толков и направлений (конец XVII – первая половина XVIII века), делает вывод, который напрямую касается и нас. Пишет: «Возникшее в староверческой среде убеждение, что мы живем во времена полновластия антихриста, когда и царство, и церковь, и таинства сделались безблагодатны, главное, навык староверов приспособиться, существовать в таком мире, в частности, беспоповцы, отказавшись от семейных уз и деторождения (таинство брака тоже безблагодатно), дальше размножали себя гарями, бессчетными самосожжениями, когда один человек, добровольно приняв мученическую смерть, привлекал в секту (что то же самое – спасал, воскрешал для вечной жизни) десятки новых последователей, как и он, не желавших подчиняться сатане, – есть пороховая бочка, заложенная под здание Российской империи.
Сейчас, – писал Сметонин, – позиция вождей старообрядчества решительно смягчилась, многие из них – в числе наиболее полезных подданных российского государства, его столпы и оплот, но сам навык жить в последние времена, то есть жить в мире, из которого ушел Спаситель, так, чтобы после кончины сподобиться не ада, а Райского блаженства, никуда не делся. До поры до времени эта бочка лежит тихо-мирно, о ней никто и не вспоминает, но стоит империи столкнуться с серьезными затруднениями, она рванет. Да так, что ото всего, что год за годом и с превеликими тяготами строилось полтысячи лет, не останется камня на камне».
К этому сметонинскому пророчеству отец часто возвращался. Сам истинно-православный, монах и чтимый в народе старец, он всё удивлялся, говорил мне: «Смотри, Галочка, что получается: наша семья испокон века синодальные. Староверов мы не просто не любили, на дух не переваривали. Считали еретиками и схизматиками, а тоже после смерти патриарха Тихона что я, что другие пришли к выводу, что живем во времена антихриста, что Спаситель от нас ушел, и вернется или нет – бог весть. Что власть, церковь, таинства сделались безблагодатны, мы и в это уверовали. А как же иначе было думать, когда власть разоряет монастыри и храмы, чуть не как клопов травит священников? А в тех церквах, что пока еще не закрыты, служат чекистские выкормыши-обновленцы».
Третьей работой Сметонина, что я вспомнила, – говорила Галина Николаевна, – была статья о Русской общине. Он писал, что если на территории, подотчетной крестьянскому «миру», происходило серьезное преступление – убийство, татьба, – власть требовала от полицейского урядника безо всякого промедления сыскать и представить разбойника. Но случалось, что вор долго не находился – может, был залетный – сегодня здесь, а завтра ищи ветра в поле, и тогда община, чтобы уладить дело, выдавала на правеж кого-то из самых пустых и никчемных своих членов.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































