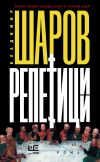Читать книгу "След в след. Мне ли не пожалеть. До и во время"

Автор книги: Владимир Шаров
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: 18+
сообщить о неприемлемом содержимом
Второй раз он заговорил с ней об этом больше чем через год, тоже в их обычный четверг, когда Брюсов, особенно много льстивший ему весь вечер, ушел – и они остались в столовой одни. Николай Иванович сказал ей:
«Их жалко, они бесконечно завидуют Менжинскому, мне, Брику, что мы вовремя ушли от фантомов, мистики, идей, от всего: и от символизма, и от футуризма – в реальный мир. Они преклоняются перед нашим миром, потому что у нас всё подлинно: и страх, и предательство, и страдание, и самое главное – смерть. Они знают, что мы вот этими руками пишем романы из живых людей, романы, в которых всё настоящее, а им никогда даже не приблизиться к этому. Агранов не понимает их. Он до сих пор уверен, что они льнут к нам потому, что мы власть и нас боятся, потому что надеются, что, если попадут к нам, мы их по старой памяти не расстреляем. Или они нас хорошо изучат, а потом переиграют и обманут – опять же вывернутся. Он вчера ко мне снова зашел и говорит: “Ты их хоть раз не домой, а сюда, в кабинет, пригласи, и тебе и Наташе хлопот меньше, и если потом соблаговолишь их отпустить, они не за чай благодарить, а всю жизнь на тебя молиться будут”. Зря он так, конечно.
Знаешь, Ната, я уже лет пять как по-новому стал понимать нашу работу. Мне и самому еще далеко не всё ясно, а другим рассказывать тем более рано. Недели две назад вызвал я своих ближайших сотрудников, начал, а через минуту вижу – говорю плохо, нечетко, мну слова, я и оборвал, на текучку свел. Написано уже много, а конца не видно. Даже названия толком нет. Наверное, будет что-то близкое к “Поэтике допроса”. Год назад я тебе говорил, чтoˊ в эту революцию должна сделать литература, кто в ней погибнет страшнее всего, навсегда. Так вот: мы, чекисты, спасаем их. Все те, кто пройдет через наши руки, спасутся. Мы воскресим даже многих из уже погибших.
Год назад я добился новых папок для дел. На них надпись: «Хранить вечно». Подозреваемые боятся их как огня. Они уверены, что из-за этой надписи мы, как в аду, будем расстреливать их изо дня в день до скончания века. Какая чушь! Так они обречены, а эта надпись сохранит их, не даст сгинуть.
Вот ко мне ввели подозреваемого. Я пишу номер дела, его фамилию, открываю папку и начинаю допрос. У меня уже есть версия. Но если я вижу, что она не подходит к обвиняемому, я легко отказываюсь от нее. Я говорю с ним каждый день и с каждым днем всё лучше понимаю его, всё легче подбираю ему связи, контакты, сообщников, наконец, то, что он совершил. Он никому не верит, ничего не понимает, всего боится. Он пытается объяснить мне, что ничего не смыслит ни в революции, ни в контрреволюции, что всегда хотел только спастись, спрятаться, переждать, что больше ничего не делал, что это не преступление. Я слушаю его голос, самый темп речи, смотрю на его глаза, руки, он становится мне всё яснее, всё ближе, и я уже легко нахожу самое трудное – детали. Тут важна каждая мелочь: и место, и обстановка, и погода, и время. Разные люди по-разному ведут себя утром и вечером. Детали соединяют картину, делают ее живой. Если они подлинны, она сама начинает говорить с тобой. И вот приходит момент, когда обвиняемый понимает, что я прав, что это он и есть, что я, как отец, породил и создал его, и он сознаётся, что это он. Тогда наступает самое главное, то, для чего шла вся работа. Этот обычный человек начинает с блеском и талантом рассказывать о себе. Страха уже нет. Он говорит и говорит, он захлебывается и не может остановиться. Я пишу и с трудом успеваю за ним. Он рассказывает мне поразительные вещи, вещи, о которых я, создавший его, и не подозревал. Когда я писал свой роман, то знал – лучшие куски не те, что я лучше придумал и потом записал, а те, где, когда я писал, для меня всё было новым, где я уже создал своих героев, они живые, и думают, и живут сами. Здесь то же самое. Пойми, разве нам нужен суд? Есть только я и он».
Через месяц после этого разговора, день в день – она помнила это точно – он заболел и слег с тяжелейшим воспалением легких. Последние дни болезни Николая Ивановича Наташа безотлучно находилась при нем. И от врачей, и сама она уже знала, что ему не встать. За два дня до смерти температура неожиданно спала и он последний раз пришел в сознание. Она села у изголовья, взяла его руку, и он сказал: «Наташа, запомни, когда я умру, я буду тебе помогать. Если тебе что-то понадобится, приходи на мою могилу и проси – я помогу тебе».
После смерти Николая Ивановича Наташа жила очень плохо, много плакала и почти не выходила из дома. Она не могла найти никакой работы, за несколько месяцев распродала и проела всё, что у них было, и осталась совсем без денег, одна, в большой пустой квартире. С квартирой тоже всё было неладно. Еще осенью ей сказали, что она ведомственная, что она нужна другому заместителю Дзержинского и в конце года Наташу выселят. Тогда она решилась обратиться к мужу. Собралась, купила на рынке на последние деньги большой букет хризантем, его любимых цветов, и поехала на кладбище.
Было холодно, она дрожала, никак не могла начать. Сделала всё нужное и ненужное, поставила в банку хризантемы, окопала цветы на могиле, полила их, хотя было и так мокро, долго сидела на лавочке. Наконец, когда надо было уже возвращаться, попросила его помочь с работой, испугалась, покраснела и быстро ушла. Дома Наташа долго ругала себя, плакала и не могла заснуть. На следующее утро ее разбудил телефонный звонок из Наркомата путей сообщения: предлагали за хорошую плату вести у них курсы машинописи. В общем, с работой у нее всё наладилось.
Прошел почти год после смерти Николая Ивановича, когда Наташа поняла, что жить одна, без мужчины, она больше не может. Она снова поехала на кладбище, дала сторожу денег, чтобы он заново покрасил ограду, не спеша привела в порядок могилу, села на лавочку и сказала: «Николай Иванович, тяжело мне одной. Ты уж не обижайся, а помоги мне найти кого-нибудь…» Когда она возвращалась домой, в трамвае с ней заговорил видный, красивый инженер. Это был Федор Иоганнович Крейц-вальд. Через месяц после их первой встречи ее выселили из старой квартиры, и она окончательно переехала жить к нему.
В течение следующего года Наташа по очереди была женой всех трех братьев. Меньше всего – месяц – Федора, который привел ее в дом, больше всего – второго брата, Николая. Уйдя к другому, она продолжала, как и раньше, заботиться о своем прежнем муже, обстирывала, кормила его. Безусловное право на это – единственное условие, которое она ставила новому. Того, кого она бросила, она ревновала едва ли не больше, чем того, с кем жила. Малейшие подозрения на роман (всегда совершенно беспочвенные) вызывали у нее безумную ярость, которая кончалась апатией и депрессией. Много раз она спрашивала себя, почему ревнует, почему уходит от одного к другому, и ничего не могла сказать. Попытки сближения между братьями тоже вызывали у нее раздражение. Ей казалось, что это свидетельство недостаточной любви к ней самой.
К началу двадцать шестого года Наташа снова замужем за Федором, а Николая и Сергея уже нет. Сейчас, когда с тех пор, как их не стало, минуло почти пятьдесят лет, я пытаюсь понять, что же тогда произошло в их доме. В свое время Ирина, мать Федора, Николая и Сергея, не сумела родить мужу трех сыновей. Она воспользовалась любовью к ней старшего сына и из прихоти растроила его. Наташа поселяется в их квартире и переходит от одного брата к другому. Она переходит из комнаты в комнату, ничего не забирая с собой, и почти ничего не меняется в ее жизни. Всех братьев она любит и продолжает любить того, от кого ушла. Разводы ее заключаются только в переезде из комнаты в комнату. На тот вопрос, почему она уходила к другому, мы теперь знаем ответ. Она любит их всех, и все они влюблены в нее. Ни до, ни после нее ни у кого из них не было в жизни любимой женщины. Значит, несмотря на всё их несходство, они и она были задуманы друг для друга. Любовь к ней вытесняет в них любовь к матери. Она становится главным, подминает под себя все их особенности, все их различия, и они с каждым днем начинают всё больше сближаться, всё больше походить друг на друга. Когда-то любовь к матери разделила их, теперь любовь к ней сводит их и соединяет. Любя их всех, она начинает восстанавливать Федора. Она лепит его, отбрасывая в нем и в его братьях всё, что не созвучно ей, не создано для нее и, значит, случайно. Соединяя их, она готовит Николая и Сергея к смерти, к возвращению и растворению в Федоре. Жизнь, начавшаяся в их матери, кончается в ней и через нее.
Потом, когда ее работа была закончена и она вернулась к старшему брату, Федору, в два года, пока она еще хорошо помнила младших – Николая и Сергея, она рожает ему двух сыновей – тоже Николая и Сергея. Это они и есть. Это те сыновья, которых не сумела родить Ирина. На Федора они не похожи. Только через восемь лет, в 1936 году, за год до их ареста, она родит Федору третьего сына, тоже, как и он, Федора, но он так и не узнаˊет, что этот сын повторит его.
Лето тридцать седьмого года было очень жарким. В начале июля Наташа отправила годовалого Федора-маленького (так его звали в семье) с нянькой на дачу в Кусково, к своему двоюродному брату, и впервые за несколько лет она и Федор остались в квартире одни. У брата не было детей, и его жена Марина много раз предлагала, чтобы Федор-маленький жил летом у них. Наташа знала, что ребенку там будет хорошо: дача большая и, главное, теплая, вокруг прекрасный лес, деревенское молоко, на субботу и воскресенье, чтобы повидать ребенка и дать Марине и няньке отдохнуть, она будет сама приезжать в Кусково. Старшие дети, Николай и Сергей, тоже устроены, они сами захотели остаться на второй срок в пионерском лагере; кажется, лагерь неплохой и они не очень скучают. Вдвоем с Федором ей хорошо. Ната знает, что, родив трех сыновей, она сделала то, что должна была сделать, знает то, чего не знает Федор-старший: Федор-маленький будет как две капли воды похож на отца.
В пятницу, 17 июля, рано утром Федор и она были арестованы. Своих детей они больше никогда не видели. Наташа умерла в зиму сорок первого в женском лагере в Мордовии, уже кончая свой пятилетний срок. Федор выжил. Он отсидел больше восемнадцати лет и освободился в начале пятьдесят шестого года. Сразу после освобождения он поехал в Москву. Здесь он узнал, что его жена умерла, что старший сын Николай пропал без вести в сорок третьем году в боях под Харьковом, второй сын, Сергей, тоже пропал без вести, когда поезд, который вез на восток весь их смоленский спецдетдом, попал под бомбежку в Волоколамске. Федор-маленький был жив, но Федор-старший не помнил сына и знал, что и тот не может помнить его. Федору-маленькому было уже девятнадцать лет. Брат Наташи, который воспитывал его, не знал, что Федор-старший выживет, и еще много лет назад усыновил Федора-маленького. Тот считал его своим настоящим отцом, и Федор понял, что всё так и должно оставаться.
На «семерке» – трамвае, в котором он когда-то познакомился с Натой, – Федор доехал до Немецкого кладбища. Был будний день, и на кладбище было пусто. Со сторожем он с трудом разыскал могилу матери и отца, много лет сюда никто не приходил, и вся она заросла высокой, почти в рост, крапивой. Он дал сторожу деньги, чтобы привести могилу в порядок, заново покрасить ограду и приписать на доске, под именами родителей, имя, фамилию и годы жизни жены. Сначала он хотел приписать имена старших сыновей, Николая и Сергея, но потом раздумал: все-таки не погибли, а пропали без вести. В тот же день вечером он уехал обратно на север.
Через Владивосток, Магадан и Пенжинскую губу он вернулся назад, в поселок Каменское, в тридцати километрах от которого находился молибденовый рудник, и там, при руднике, его последний лагерь. Сначала он думал устроиться на рудник инженером, жил там, но, хотя инженеров не хватало, дело с его оформлением затянулось, в конце концов он плюнул на всё и вернулся в Каменское.
Недалеко от Каменского, прямо на берегу губы, среди невысоких сопок стояли два десятка чумов и короткая улица новых бревенчатых изб. Это была центральная усадьба большого корякского оленеводческого колхоза «Заветы Ильича», сюда он и устроился на работу. Взяли его главным бухгалтером. Председателем этого колхоза была еще не старая бойкая корячка Тэна, через год женившая его на себе.
Колхоз Тэны гремел на всю страну и соревновался с другим, не менее известным, – полтавским колхозом имени Григория Котовского. Уже давно, с первых послевоенных лет, Тэна была депутатом, последние годы по месяцу и больше жила в Москве и для корячки хорошо знала Россию. Раньше с «Григорием Котовским» они соревновались заочно, но в год приезда Федора Тэна после депутатской сессии в Москве отправилась подводить итоги соревнования в Полтаву. Принимали ее там очень торжественно, возили по всей области, всё показали, и в последний день выступивший на митинге председатель «Котовского» сказал: «Мы мечтаем о том, чтобы корякские мальчики и девочки, дети потомственных оленеводов, попили бы настоящего парного украинского молока, и по решению общего собрания колхоза мы дарим “Заветам Ильича” двух наших лучших дойных коров».
После Полтавы Тэна была еще раз в Москве, потом в Архангельске и только в ноябре вернулась домой. Через восемь месяцев после Тэны, в начале следующей навигации, пароход «Маршал Конев» выгрузил в устье Пенжины две большие деревянные клетки с коровами.
От этих коров у всех были только неприятности. Одна корова так и не смогла привыкнуть к местному климату и к ягелю, которым ее кормили, и почти сразу околела. Другая, со сломанным рогом и обмороженными еще в дороге сосцами, выжила. О коровах, Машке и Красавке, еще когда Тэна была в Москве, много писали в центральных газетах, они стали символом интернациональной дружбы, и Тэна очень боялась, что и вторая – Красавка – подохнет. Тэна почему-то была твердо уверена, что погибла именно Машка.
Берегли Красавку как могли, из области всё время интересовались этими коровами и даже спустили «Заветам Ильича» план по коровьему молоку. Тут ничего сложного не было. Сдавали его, по совету Крейцвальда, разбавляя жирное оленье молоко водой. Красавку кормили хлебом, сделали ей хлев из старого чума, и она прожила в нем – кажется, вполне довольная, – до начала сильных морозов. Потом Красавка исчезла. Искали ее целый день, но так и не нашли, думали: задрали волки. Только через неделю, когда корову уже собирались списать, один старый коряк, услышав мычание, обнаружил ее в самом странном месте – в утробе кита, лежавшего на берегу Пенжины. Этого кита полмесяца назад загарпунили коряки, вытащили на снег, частично разделали, а остальное бросили здесь же, у самого припая, и, кому было надо, отрезал от его туши куски мяса для своих собак. Из кита ее пытались выманить хлебом, но она долго грустно мычала и не шла. Думали пробиться к ней, прорубив ход в боку кита, но он за две недели так промерз, что его с трудом брал даже лом; работа шла туго, и, когда стемнело, Тэна решила, что в ките Красавке, наверное, теплее, чем в чуме, и пускай она живет где хочет.
Кормилась корова китовым мясом, своим телом она отогревала его и ела. Раз в три-четыре дня она безумела от такой пищи, выбиралась из кита и носилась по поселку, раскидывая всех единственным рогом. Не только люди, но и собаки боялись ее. С наступлением темноты корова начинала нападать на корякские чумы. Не знаю, что привлекало ее – тепло, свет, люди или она просто искала свой старый хлев. Корова играючи пропарывала чумы насквозь, топча и бодая всё, что ей попадалось на дороге, несколько человек она легко ранила, но пристрелить ее не решались – коряки были уверены, что это шайтан и пуля его не возьмет. На следующее утро после погрома они приходили к Тэне, долго печально перечисляли ей свои потери, просили взамен денег, керосина и каких-то еще товаров со склада. Из недавней речи лектора они знали, что, если пострадают от стихийного бедствия, государство должно им помочь. Они говорили Тэне, что, если русские прислали им своего самого страшного зверя, чтобы запугать и заставить сдавать еще больше оленьего мяса, они согласны, пускай только Красавку возьмут обратно. Тэна ничего им не давала и отсылала объясняться к Крейцвальду как к старшему бухгалтеру и знатоку русской жизни. Федору они повторяли то же, что раньше Тэне, но и он ничего им не давал, говоря, что корова в России есть почти в каждом доме, что она кормилица, что ее все любят и не боится никто, даже малый ребенок.
В конце октября Тэну пригласили на какой-то праздничный слет в Магадан – и она уехала, оставив вместо себя Федора. 7 ноября, в сороковую годовщину революции, как только рассвело, коряков, по обыкновению, собрали у сельсовета, и там открылся митинг. Сам сельсовет был почти по трубу занесен снегом – чистили только крыльцо и небольшую площадку вокруг него. Вел торжество приехавший накануне инструктор райкома партии. Едва он успел начать свою речь, появилась Красавка, коряки шарахнулись от нее в сторону, но она, не обратив на них внимания, зашла за угол сельсовета и по твердому, как лед, насту стала взбираться на крышу. Сначала ее не было видно, потом однорогая голова появилась прямо над инструктором, рядом с укрепленным над крыльцом флагом. Она потянулась к нему губами, достала и, очевидно, принимая за мясо, стала есть. На нее замахали руками, закричали, – она не слышала. Доев флаг, Красавка долго смотрела на коряков, потом повернулась, чтобы идти обратно, и в этот момент кто-то кинул в нее кусок льда. Корова вздрогнула, дернулась, копыта ее заскользили по крыше, и она тяжело, задом, свалилась вниз. Падая, копытами она задела инструктора. Он отделался несколькими царапинами на щеке, а она, очевидно, сломав себе позвоночник, почти сразу же околела.
Эту историю расценили как политическую провокацию. Через два дня, еще до приезда Тэны, наряд милиции из Каменского забрал Крейцвальда и увез его туда для допроса. Все были уверены, что его снова посадят, однако делу хода не дали. То ли из-за Тэны, то ли времена были уже не те. Через месяц его выпустили, но назад в «Заветы Ильича» он уже не вернулся, развелся с Тэной и жил в Каменском, до дня своей смерти 12 мая 1961 года работая механиком в городской котельной.
Ты пройдешь, не оставив следа,
Где, как окна заброшенной хаты,
По бочагам чернеет вода
В тонком слое земли ноздреватой,
И по кочкам, где клюквенный сад
Дозревает до темного цвета,
За тобою уходят назад
Дни последние бабьего лета.
В октябре 1938 года, через восемь месяцев после ареста родителей, Николай и Сергей Крейцвальды были взяты из их московской квартиры. Брали их тоже, как и родителей, на рассвете, но народу было меньше – районный опер да два милиционера – и без обыска. Николай и Сергей еще спали, и те долго колотили в дверь, хотели уже ломать.
Эти восемь месяцев с ними прожила какая-то троюродная тетка их матери, но, когда деньги были истрачены и есть стало нечего, недели за две до ареста она уехала в Ростов к другой своей родственнице. Достать деньги было можно, в доме было что продать, и тетка, кажется, хотела остаться с ними и дальше, но Николай и Сергей не разрешили ей трогать ни одной вещи, не дали даже колец, которые мать никогда не носила и которые тетка хотела заложить в ломбард, тридцать раз объясняя им, что ничего не пропадет, что их всегда можно будет выкупить. К этому времени они уже давно не хотели с ней жить и делали всё, чтобы она уехала.
На вокзале, сажая ее в ростовский поезд, они не сомневались, что больше никогда с ней не встретятся, но лет через десять, уже после войны, старший из братьев, Николай, сам нашел ее, прожил в ее доме почти месяц, тетка тогда спасла ему дочь, и накануне отъезда они долго говорили, плакали и простили друг друга.
Было это осенью то ли сорок седьмого, то ли сорок восьмого года, когда он во время своих многомесячных, сползающих к югу кочевок оказался в Ростове. Он ездил тогда уже не один, а с женой Катей и годовалым ребенком. Деньги кончились, ехать дальше было не на что, и они застряли в Ростове. Несколько раз Николай пытался сесть в товарный состав, но их ловили, снимали и в последний раз, когда милиционеры его уже запомнили, сильно избили. Девочка неделю назад, еще в Воронеже, простудилась, и, как Катя ни берегла ее, здесь, на вокзале, из-за бесконечных сквозняков у нее начался сильный кашель. Соседка по лавке долго слушала, как она хрипит, а потом стала кричать на Катю, что она врач, что у ребенка воспаление легких, что им нечего делать на вокзале, а надо немедленно идти в дом, в тепло, класть девочку в постель и лечить, иначе она погибнет. Катя плакала. Николай сидел от нее скамейки через три, пил водку – его угощали только что демобилизованные солдаты – и ждал, когда соседка кончит, потом подошел к Кате и сказал, что идет в город, попробует узнать что-нибудь насчет больницы, может быть, получится. Что с больницей ничего не выйдет, знали и Катя, и он. В Ростове он был уже в двух, и в каждой его, как в милиции, допрашивали: кто, откуда, где работает и почему не сидит дома, а мотается по стране, как перекати-поле. В войну город был сильно разрушен, и мест в больнице не было даже для своих, а тут он вдобавок выпил.
Когда Николай еще сидел с солдатами, объявили, что на первый путь прибывает из Москвы тбилисский поезд. Это был тот поезд, который был нужен Николаю, и Кате, и девочке, тот поезд, который вез в тепло, и до тепла и моря было совсем близко, всего сутки езды. Сейчас Николай вспомнил об этом поезде, вспомнил, что он еще не ушел – тбилисские поезда стояли в Ростове не меньше сорока минут, здесь их заправляли и углем, и водой, а после объявления не прошло и двадцати. Всё это, и про больницу, и про поезд, он легко сосчитал, сосчитал даже то, что сегодня пятый день, как он провожает тбилисские поезда, и что один из солдат, с которым он пил, тоже уезжает этим поездом – значит, надо проводить и его, и что это хорошо, удачно, что зараз он проводит обоих.
Через тяжелые вокзальные двери он вышел на перрон, народу было немного: все, кто ехал до Ростова, уже ушли, а те, кто садился в поезд, сгрудились около проводников, но и их было мало – не сезон. Солдата нигде не было видно. Чтобы не пропустить его, Николай вернулся к хвостовому вагону и оттуда пошел вперед. У паровоза он понял, что солдата ему не найти, и что, в сущности, это не важно – знает солдат, что Николай провожает его, или нет. Минуты три он стоял около паровоза, а потом подумал, что, раз у него есть время, хорошо было бы разведать поезду дорогу, чтобы потом, когда он поедет, всё было в порядке. Он спрыгнул с платформы и пошел вдоль пути. Минут через пятнадцать, когда здание вокзала уже скрылось за поворотом, он услышал гудок отходящего поезда и прибавил шаг. Потом состав стал нагонять его, и он побежал.
Сначала паровоз легко обошел его, но тут начались бесконечные стрелки, и ему пришлось сбавить ход. Несколько минут Николай держался на уровне третьего вагона, даже сумел обойти его, стал доставать паровоз, но тут поезд снова набрал скорость, еще минуту Николай шел вровень, а потом цифры вагонов стали всё быстрее расти мимо него. Бежать уже не было сил, задыхаясь, он повалился на землю и, как ребенок, заплакал. Он плакал, потому что не сумел догнать поезд и тот опять ушел без него, потому что забыл о Кате и девочке, забыл, что он шел только проводить поезд и солдата, что он разведал им путь и теперь у них всё будет хорошо. Из последнего вагона кто-то махал ему и кричал, но из-за стука колес разобрать ничего было нельзя.
К вечеру он отошел, успокоился, но так и остался лежать около путей. Он слушал, как еще задолго до поезда всё вокруг начинает дрожать, но догадаться, куда он едет – в Ростов или из Ростова, – трудно. Каждый раз земля звенела почти до самого поезда, а потом звук обрывался, и сразу рядом с Николаем возникал весь состав и грохотал не мимо, а прямо над ним и, когда кончался, тоже уходил не в сторону, а вверх. Так же вверх уходили и все поезда, которые он провожал в детстве, и, как опытный стрелочник, он теперь использовал каждое окно и один за другим включал их в общее движение.
Таких поездов, кроме пригородных, в его жизни было четыре. Три увозили мать и отца на юг – в Крым и в Кисловодск – и один – в Ленинград. Был еще один, но уже без матери и отца, и он никак не мог его вспомнить. Отца и матери не было ни в поезде, ни рядом с ним, на перроне. Всякий раз он думал, что так не могло быть, думал, уже зная, что вспомнит, что уже совсем горячо, уже видя человека, кричащего и машущего ему из последнего вагона. Он не сразу понял, что теперь различает лицо и слышит слова, что это лицо его тетки и она кричит: «Коля! Тухачевского, двенадцать… Так же, как тебе лет… Ростов, Тухачевского, двенадцать…»
Николай встал и сначала опять шел вдоль полотна, вслед за голосом и лицом, но потом повернул, перепрыгнул через кювет, потом – через низкий станционный заборчик и сразу оказался в городе. Где улица Тухачевского, никто не знал. Наконец, какая-то старушка объяснила ему, что сейчас такой улицы нет и не может быть, но когда-то до войны действительно была, и что она есть и сейчас, но называется по-другому – Одесская, и до нее совсем недалеко: дойдет минут за пятнадцать.
Тетка жила на втором этаже небольшого деревянного дома, у нее была своя комната, которую ей оставила сестра, умершая во время войны. Она встретила Николая как родного, вместе с ним поехала на вокзал и перевезла всех к себе. Девочка задыхалась, горела и была очень плоха. Тетка помогала Кате всем, чем могла: дежурила по ночам, стирала пеленки, бегала за лекарствами. Николай на третий день устроился сторожем на речной склад, сразу на две ставки, домой почти не приходил, и они всё делали вдвоем. Болезнь шла очень тяжело, но в конце третьей недели наступил кризис – и девочка начала поправляться. Тетка была в восторге от ребенка, не спускала ее с рук и объясняла Кате, что она вылитая Наташа, мать Николая, и они молодцы, что тоже назвали ее Наташей.
Она рассказывала Кате и про свою жизнь, и про Натину, про то, что до революции у ее отца здесь, в Ростове, был большой особняк на Дворянской, был у нее и жених, офицер, но замуж она так и не вышла – в девятнадцатом году он погиб под Орлом. Потом она жила у разных родственников и в Ленинграде, и в Саратове, и в Баку, помогала по хозяйству, воспитывала детей. В тридцать шестом году, когда у Наты родился третий мальчик, она переехала к ней.
Ната считалась в семье самой красивой, познакомились они еще в десятом году, детьми, и тетка рассказывала, что была очень рада, когда Ната пригласила ее жить к себе. Она жаловалась Кате, что, когда Федора и Нату арестовали, она решила, что это ее семья и, что бы ни было, она вырастит ребят и поднимет, и если Ната и Федор, бог даст, вернутся, мальчики будут и одеты, и накормлены, и ухожены, будто они их ей всего на день и оставили. Тетка говорила Кате, что Николай и Сергей сразу же ее невзлюбили и выживали как могли, что, останься она тогда, они бы ни в детдом не попали, ни в колонию, как Николай, а Сергей, любимец Наты, тот вообще сгинул, наверное, и в живых его нет.
Дня через два после этого разговора сменщик Николая вышел на работу и его отпустили на ночь домой. Девочка и тетка давно спали, Катя постелила себе и ему на полу и, когда он лег, спросила, правда ли, что они травили тетку и заставили ее уехать. Николай сказал, что правда. Он помнил, что они с Сергеем ее действительно травили, что заводилой чаще всего был Сергей, а за что травили – после колонии, войны и Кати, – вспомнить не мог. Ему было стыдно и жаль старуху. На следующий день, вечером, когда склад закрылся и причал опустел, он сел у самой воды на старые шины и стал думать, почему они невзлюбили тетку.
Он вспомнил, что, когда увели родителей, они с Сергеем уже знали, что худшего не будет, что всё, что было, кончилось и ничего не вернешь. Он вспомнил, что тетка хотела, чтобы они жили так, будто ничего не случилось, как будто всё в порядке и родители уехали ненадолго и со дня на день вернутся. Но жить по-старому было нельзя. Нельзя было жить так же, как при них, когда их уже не было.
Через неделю после ареста матери и отца от ребят во дворе, да и сами они уже знали, что их ждет. Знали, что их отправят в спецдетдом, что спецдетдом – это лагерь для детей, лагерь-школа, и, когда они вырастут и окончат его, их, скорее всего, переведут во взрослый лагерь, может быть, в тот же, где сидят отец и мать. Они знали, что это наезженная колея, что они, как уже несколько их знакомых, пойдут за своими родителями, что это правильно, что так и должно быть, потому что родители всегда любят, когда дети идут их путем.
Они понимали, что сейчас им важнее всего быть хотя бы на шаг ближе к родителям, а в спецдетдоме они будут ближе и жить будут почти так же: ведь и ими, и лагерями управляют одни и те же люди. Он не мог вспомнить, сами они поняли или им сказали, что из-за тетки их и не забирают в детдом, что это их дорога и они на нее всё равно выйдут, а тетка только задерживает и мешает им.
Дней через пять, когда Наташа совсем поправилась и окрепла, тетка на свои деньги купила им билеты до Сухуми, а накануне отъезда, вечером, устроила прощальный пир. Было много еды, даже мясо, где-то она достала целую канистру дешевого белого вина, они просидели всю ночь, всё вспомнили и простили друг друга.
Через полторы недели после отъезда тетки в Ростов, когда Николай и Сергей уже два дня ничего не ели и младший, Сергей, с ночи решил, что пойдет на вокзал воровать и накормит Николая, их арестовали. Когда милиционеры пришли за ними, он был им благодарен, потому что теперь ему не надо было идти на вокзал и, значит, вором он не будет. Из-за этой ночи он потом всю жизнь, и после реабилитации тоже, считал, что был, в отличие от Николая, арестован правильно.
«Воронок» отвез их в районное отделение милиции, там их посадили в камеру и на три дня забыли. Оба они хорошо запомнили это время не только потому, что видели тогда друг друга последний раз, но, главное, потому, что сразу поняли, что всё определилось, что от них ничего не зависит и, что бы они ни делали, ничего не изменится. Это было то чувство, что всё идет так, как может и должно идти, что ничего делать не надо, которое и сохранило силы многим людям, просидевшим в лагерях по десять-двадцать лет. Они ели, радовались, что их держат вместе, и почти не говорили о том, когда их вызовут и куда отправят. На четвертый день после ареста, утром в понедельник, милиционер отвел младшего из братьев, Сергея, к начальнику отделения, тот допросил его очень коротко, всё дело не заняло и получаса, с его слов заполнил несколько бумаг: фамилия, имя, отчество, год и место рождения, родственники, а потом отослал обратно в камеру. Когда повели Николая, он уже знал, чтo будут спрашивать, и в коридоре сообразил, что может прибавить себе пару лет, что проверять, наверное, никто не будет, ему и так чуть ли не все дают тринадцать, что пройдет – хорошо, в детдоме на два года меньше, а проверят – скажет, что оговорился, и дело с концом. Всё сошло. Его допросили так же, как Сергея, и вернули в камеру. Вместе они пробыли еще два дня, а потом Сергея днем, а его вечером на «воронке» отвезли на вокзал и отправили в детдома. Больше они никогда не встречались, хотя в августе сорок первого их поезда оказались рядом на станционных путях Волоколамска. Немцы тогда бомбили вокзал, вокруг всё горело, и движение на два дня встало.