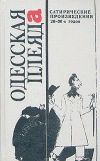Текст книги "Чаша. (Эссе)"

Автор книги: Владимир Солоухин
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 10 (всего у книги 12 страниц)
Была там контора какой-то американской фирмы, где работала русская женщина Ольга Кобцова. Есенин налаживает с ней отношения, чуть ли не объявляет ее женой. Ведь американская фирма могла бы способствовать поездке Есенина в Константинополь. Однако Лева Повицкий решительно расстраивает эту связь. Он внушает Есенину, что и сама Ольга, и ее родители – контрабандисты, и в конце концов объявляет Есенину ультиматум: «или я (то есть он, Лева Повицкий), или Ольга». Странное требование. Был ли второй такой случай, чтобы мужчина переставал встречаться с женщиной по требованию приятеля? Вернее сказать, чтобы приятель предъявил мужчине подобное требование?
В письмах к Гале Бениславской Есенин несколько раз приглашает ее в Батум и каждый раз обещает: «Поедем в Константинополь». О, святая простота и наивность! Ведь его Галя была штатной сотрудницей ВЧК! Галя Бениславская потом застрелилась на могиле Есенина. Какая любовь, какая романтика! Но как такую любовь сочетать с тем, что она на фоне, так сказать, Есенина завела роман с сыном Троцкого, Седовым, и едва не вышла за него замуж?
Конечно, после выстрела и крови не очень этично развивать домыслы, и все же – разве у Гали Бениславской не могла заговорить совесть? Любовная переписка и в то же время осведомительская роль в ЧК? Или разве не факт, что она о смерти Есенина слишком много знала? Как поступают в подобных организациях с теми, кто слишком много знает, – хорошо известно. Как штатной сотруднице, разве не могли ей предложить столь романтический выбор?
Как и в случае с Булгаковым, мы вправе спросить сами себя: как сложилась бы судьба Сергея Есенина, окажись он в эмиграции? Это трудно вообразить, но ясно одно: он не погиб бы в гостинице «Англетер» в том же году, как только возвратился из Батума.
* * *
Еще одна «эмигрантская» история.
В Стокгольме, когда я пришел в посольство посмотреть кинофильм, мне представился один наш советский человек, хирург, живущий в Стокгольме по приглашению шведского министра здравоохранения. Они устроили интернациональную клинику, где работают лучшие хирурги из Японии, Германии, Франции, Италии… и вот, как видим, из Советского Союза.
– Что вам этот фильм? – сказал мне хирург. – Пойдемте ко мне, поужинаем, поговорим, я приготовлю цыпленка табака.
Я согласился.
Мы дошли до его квартиры и занялись ужином. В разговоре во время ужина меня ждал необыкновенный сюрприз. Бывая за границей и соприкасаясь с эмигрантскими кругами, я часто слышал имя замечательного русского певца Николая Гедды. Не только слышал имя, но имел его диски (мне дарили) с исполнением русских песен и романсов, арий из опер. Я знал, что Николай Гедда сейчас один из лучших теноров в мире. Особенно я любил, как он поет две эмигрантские песни: «Замело тебя снегом, Россия» и «Молись, кунак». Без слез, во всяком случае без волнения, слушать эти песни было нельзя. Теперь, во время ужина с хирургом, наш разговор коснулся Николая Гедды, и мой сотрапезник вдруг сказал:
– Хотите с ним познакомиться? Я сейчас позвоню.
– Как, куда позвоните?
– Но он живет в Стокгольме. Я с ним хорошо знаком. Сейчас я ему позвоню, и через полчаса он будет здесь…
Я был потрясен. Тотчас мы позвонили, однако получилось не так, как думал хирург. Николай Гедда оказался простуженным, только что принял горячую ванну и, боясь выходить на улицу, пригласил нас к себе. Мы приняли это приглашение и поехали.
Это был замечательный вечер, вернее сказать, ночь, потому что просидели мы до трех часов. Николай Михайлович несколько раз обмолвился, что мечта его – спеть в Москве, но вот, к сожалению, это совершенно невозможно. Во мне же вдруг возникло и укрепилось ощущение, что все это очень даже возможно и что если то и дело приглашают в Москву разных эстрадных певичек и вообще Бог знает кого, то почему же не приехать настоящему русскому певцу? Я неожиданно для самого себя (может быть, под влиянием выпитого) пообещал Николаю Михайловичу, что буду хлопотать, пойду… знаю, к кому пойду… и сделаю все возможное, чтобы Николай Гедда спел в Москве.
К этому человеку я никогда ни разу не обращался с просьбами, но на расстоянии чувствовал его доброжелательное ко мне отношение. Да и повод был, можно сказать, благородный. Не квартиру себе, не дачу, не издания какой-нибудь труднопроходимой книги, не дочку устроить куда-нибудь в институт или на работу шел я просить. Поэтому позвонил я смело, и на другой день уже было назначено мне прийти в дом к тому человеку.
В.Ф. принял меня тепло. Он вышел из-за своего большого рабочего стола, и мы уселись в креслах около низкого дополнительного стола. Ну, сначала вопросы: как дела, как семья, что пишете, что выходит в ближайшее время и где, – а потом наступает момент, когда эти, пусть и доброжелательные, но все же дежурные, разговоры прекращаются и на лице, в глазах дающего аудиенцию появляется приглашение перейти к главному, изложить то, с чем пришел.
Я коротко изложил. Замечательный тенор, русский певец. Эмигрировали его родители, а не он. Ему всего лишь за сорок. Лоялен. Мечтает спеть в Москве. Это будет большое культурное событие. Разные эстрадные певички ездят… Почему же русский певец… благородное дело… история не забудет…
Меня выслушали внимательно, пометили что-то в блокноте, спросили:
– Это и все, с чем вы пришли?
– Разве мало?
– Ну а для себя что-нибудь? Нет ли каких проблем?
– Нет никаких проблем.
– Ну… тогда до свидания. Если что возникнет, звоните, пожалуйста…
Однажды я включил радио. «Почта „Маяка“: „Бригадир газопроводчиков из города Сургута такой-то, домохозяйка из города Воронежа просят нас рассказать о певце Николае Гедде… Выполняем их просьбу… Николай Гедда исполнит романс Глинки „Не пой, красавица, при мне“.
Я понял, что делу дан нужный ход. Ну а с каким успехом Николай Гедда выступал потом в Большом театре, в Большом зале Консерватории, в Зале имени Чайковского, а также и в Ленинграде, я думаю, помнят многие.
Вообще-то репертуар Николая Гедды – классическая опера и классический романс. Но все же диапазон его шире. Он может спеть и что-нибудь цыганское, может лихо, с удалью спеть „Располным-полна моя коробушка“, да и любую русскую народную песню. И вот еще – песня не песня, романс не романс, но тоже квинтэссенция ностальгии. „Молись, кунак“. Известно, что „кунак“ на Кавказе – друг. Даже если война и вражда, все равно русский человек может оказаться в кунаках у горца. И вот в этой песне, родившейся, конечно, в эмиграции, неизвестно кто к кому обращается: кавказец к русскому или русский к кавказцу – эмиграция всех сравняла и сроднила. И возникает – дополнительно – особый мотив. „Свой Бог, видно, уж не поможет. Молись хоть ты, кунак, своему Магомету, может быть, он сильнее“. Или – наоборот.
Молись, кунак, в стране чужой,
Молись, кунак, за край родной.
Молись за тех, кто сердцу мил,
Чтобы Господь их сохранил.
Молись за то, чтобы Господь
Послал нам сил все побороть,
Чтобы могли мы встретить вновь
В краю родном мир и любовь.
Пускай теперь мы лишены
Родной семьи, родной страны,
Но верим мы, настанет час
И солнца луч блеснет для нас.
* * *
Никак не могу вспомнить, каким образом я оказался в доме Павла Дмитриевича Корина впервые. Я ли позвонил первым или Павел Дмитриевич, был ли повод для такого звонка, дело какое-нибудь или просто потянуло друг к другу двух владимирских, двух русских, двух совпадающих многими душевными точками (да и в мыслях) людей, ну а конкретные детали, телефонные звонки, первые сказанные слова забылись. Так убирают с дома леса, и остается только чистый и ясный фасад.
Впрочем, сквозь дальность лет брезжит временами, что это он мне позвонил первый, и были в этом первом звонке упрек и опровержение, не очень меня уязвляющие, больше комплиментарные, потому что я был прав. Ну, обострил немного коринский замысел (а он считал, что вульгаризировал). Зато вторая моя трактовка (с поправкой на его замечания) вполне Павла Дмитриевича устраивала.
Дело в том, что Корин готовился к написанию грандиозного полотна, которое сам он называл „Реквием“, а Горький (для проходимости в советских условиях) окрестил его как „Русь уходящая“. Для этой картины нужен был холст шесть метров на восемь, а для холста помещение. Горький (а за это многое зачтется ему и на этом, и на том свете) сделал для Корина и то, и другое. Холст был выткан с большими сложностями в Ленинграде по специальному заказу. Что касается мастерской, то Горький нашел в районе Усачевского рынка в глухих дворах между многоэтажными домами просторное техническое помещение (не то гараж, не то прачечную), которое и переоборудовали под мастерскую, а одновременно и под жилье. Когда Корин вошел в первую комнату этого дома, он восхитился ее размерами и стал благодарить Алексея Максимовича за щедрый подарок, не зная еще и не смея помыслить, что не только эта комната, но и весь дом отныне принадлежит ему.
Здесь-то Корин и пытался написать свою картину. Его учитель, лучший друг, великий художник Михаил Васильевич Нестеров (Корин был потом его душеприказчиком), говорил Павлу Дмитриевичу: „Если ты не напишешь эту картину, я тебе с того света буду грозить“.
Скажем сразу: холст остался чистым, нетронутым. Он и теперь стоит в том коринском доме, и может быть, он сам по себе есть памятник той эпохе и ее символ. И все-таки я смело могу сказать, что картину свою Корин все-таки написал. Он написал тридцать шесть портретов (в рост), то есть всех „участников“ будущей картины. И это не эскизы, не наброски, а вполне законченные портреты в натуральную величину, каждый из которых уже есть картина. Отдельно он написал эскиз будущего полотна, то есть эскизно расставил на полотне эти тридцать шесть фигур, и мы теперь, переводя взгляд с эскиза на эти тридцать шесть фигур, а потом обратно с них на эскиз, получаем полное впечатление, что это должно было быть.
Этюды Корина (все тридцать шесть) нельзя смотреть, нельзя понять всей их глубины (а вместе с тем величия Корина как художника), не зная некоторой тайны предполагавшейся картины.
По общепринятому мнению, картина должна была изображать выход из Успенского собора в Кремле всех изображенных людей. Но достаточно взглянуть на эскиз несостоявшейся картины, чтобы увидеть, что люди эти никуда не идут, они стоят. Но если они стоят, то почему спиной к алтарю, к иконостасу, а лицом к выходу? Так в церкви никто никогда не стоит, разве что и правда перед выходом из нее. Это-то положение изображенных и наталкивает на самую ближайшую мысль – они выходят. Но они НЕ ВЫХОДЯТ. Это видно по сугубо статичному положению фигур, а главным образом – по той напряженности, которая у них на лицах и в их позах.
Дело в том, что они НЕ ВЫХОДЯТ, А ЖДУТ. В этом и есть та маленькая тайна коринского замысла, которую непременно надо знать при разглядывании его этюдов.
Да, все эти люди, олицетворяющие побежденную, завоеванную большевиками Россию, стоят в интерьере Успенского (главного в России) собора спиной к алтарю, а лицом к входным дверям. Они стоят и ждут. За стенами собора, в Москве, в стране, все уже произошло. Железный, беспощадный ветер революции уже свистит, уже гуляет снаружи над собором, над Кремлем, над Москвой, над всей Россией. Вот-вот двери распахнутся, и этот ветер, персонифицированный в бандитов в кожаных куртках с маузерами в руках, ворвется в собор, и останется собор на многие годы – пуст.
Теперь-то вот и надо смотреть на эскизы: КТО КАК ждет. В этом все дело. А ждут они все по-разному. Посмотрите теперь на безногого нищего, на митрополита Трифона, на крестьянина с сыном, на молодого монаха, на слепого, на схимницу, на молодую монахиню, на всех на них, посмотрите на всех с точки зрения „кто как ждет“, и у вас в руках окажется ключ.
Только этим ключом можно открыть сокровищницу коринского искусства. Сразу наступает нечто вроде прозрения, каждый образ, созданный Кориным, становится стократ ярче, выразительнее, богаче, психологичнее, глубже, трагедийнее, обобщеннее, драгоценнее и просто точнее – до восторга перед мастерством в могуществом кисти Корина.
Тоже ведь – ЧАША: вместо того, чтобы заполнять специально вытканный для него холст, он создает мозаики для станции метро „Комсомольская“ и витражи для станции метро „Новослободская“…
Но я не о том. То ли у самого меня отстоялся в душе и родился этот образ, то ли кто-нибудь мне подсказал, но я в „Письмах из Русского музея“ высказал версию, что, по первоначальному замыслу, собрали митрополитов, монахинь, крестьян и вообще всех своих персонажей в интерьере Успенского собора, потому что происходило там изъятие церковных ценностей, и в центре собора перед всеми стоящими должна была быть груда золота и серебра и комиссар в кожаной куртке. Конечно, это было огрубление коринского замысла и его вульгаризация (хотя я и сейчас думаю, что не был тогда далек от истины), но именно эта версия, высказанная типографским способом, и послужила причиной телефонного звонка Павла Дмитриевича Корина. Он пригласил меня к себе на чашку чая для беседы.
Беседа была душевной. И хотя Павел Дмитриевич выговорил мне, что замысел его родился во время похорон Патриарха Тихона, родился от церковного пенья, от музыки (отсюда первоначальное название картины – „Реквием“), но все же по интонациям, по его душевному, чтобы не сказать ласковому, отношению ко мне я понимал, что во глубине души он не очень-то протестует против моей версии с грудой церковных ценностей и с комиссаром в кожаной куртке и с маузером. Да и просто, если еще раз вглядеться в лица изображенных им иерархов, монахов и прихожан, – вовсе нет там никакой музыки, никакого реквиема, а есть решимость все претерпеть до конца, есть либо презрение, либо ненависть.
Оказываясь в доме Кориных, я попадал в другой климат. И ведь надо было только сделать несколько шагов от Усачевки да еще несколько шагов омерзительным вечерним, промозглым двором, – и вдруг оазис!
Просторный особняк с тихим светом, а их только двое. Коридор просторный, словно жилая комната. Шкафы со старыми, дорогими книгами (по искусству, конечно), кое-где акварельки самого Павла Дмитриевича, и среди них драгоценность – „гвоздичка“ со Владимирской Божией Матерью. А потом в комнатах, тоже просторных, эти его знаменитые иконы. Ну еще бы! Ведь на его глазах взрывали в Москве десятки старинных храмов. Поистине советская власть, большевики создали благоприятнейшие условия для собирательства старины. Надо было только воспользоваться этими условиями.
Иконы в доме Кориных развешаны не по-музейному. Нельзя было бы сказать про них – экспозиция. Нет, это именно – ДОМ. Домашние иконы. Среди них не ходить, глазея по сторонам, но просто – жить. Ну и, конечно, молиться.
Описать их нельзя, невозможно. Живи и дыши. Они (иконы) сами, независимо от твоих стараний и усилий, придут к тебе, чтобы повлиять на твое сознание и организовать его.
И все же я скажу, что „климат“ в доме Кориных определяли не одни только иконы. Определяли его сами Корины с их благочестием, интеллигентностью, умиротворенностью, и думаю, не ошибусь, что „климат“ этот не в последнюю очередь определяла Прасковья Тихоновна.
Не могу себе вообразить ни его, ни ее повысившими голос. Кажется, всю жизнь прожили так вот, душа в душу. Даже и называть им друг друга приходилось одинаково: „Паша“. Она „Паша“ – потому что Прасковья, а он „Паша“ – Павел.
Как это ни называй – атмосфера, климат, аура, но ни до, ни после я не чувствовал нигде такого же, более торжественным стилем говоря, „благорастворения воздухов“, как в доме Кориных.
Детей у них не было. Даже где-то, когда-то проскользнуло, что Прасковья Тихоновна, в общем-то, чуть ли не монашка. Но только в миру. Есть такой, ну, что ли, статус. Я знал Анастасию Борисовну Дурову (жива ли она теперь?). Она была парижанкой (и, между прочим, потомком той самой Дуровой, гусар-девицы) и была сотрудницей во французском посольстве в Москве. Так вот, она была монашка именно с таким „статусом“. Цивильное платье, не гнушалась застольной беседой, бокалом вина. Рассуждают же они так: „Что толку сидеть за монастырскими стенами и тем спасать свою душу. Надо служить людям в миру. Всячески им помогать, в нужный момент – подать совет, а главное – служить, служить и служить. Но служить не напоказ, а тихо и незаметно“. Это их миссия.
Относительно Прасковьи Тихоновны вскоре все разъяснилось. Оказывается, она была воспитанницей Марфо-Мариинской обители Великой Княгини Елизаветы Федоровны, пока эту обитель не разгромили большевики, а саму Елизавету Федоровну не сбросили в городе Алапаевске в глубокую шахту.
В самом названии „Марфо-Мариинская“ заключен весь смысл этого заведения и служения в нем.
Можно напомнить этот евангельский эпизод. Спаситель пришел в дом Лазаря. У того было две сестры, Мария и Марфа. Марфа тотчас начала хлопотать по хозяйству, чтобы накормить Гостя и достойно его принять. Мария же уселась у ног Спасителя и слушала его, стараясь не пропустить ни одного слова. Таким образом, Марфа является образцом деятельного служения Богу, в то время как Мария – созерцательного углубления в Божественные тайны.
Создавая свою обитель и нарекая ее Марфо-Мариинской, Елизавета Федоровна, очевидно, имела в виду, что тут должны сочетаться две добродетели: служение Господу через ближнего своего (служение Марфы) и непосредственное служение Богу через молитву и работу над собой (служение Марии).
Свидетельствую, что в лице Прасковьи Тихоновны оба эти достоинства и качества сочетались в полной мере, только я не знал сначала, откуда это идет.
Оказывается, ездили по российским деревням и селам и отыскивали девушек, отроковиц для этой обители Елизаветы Федоровны. По строгому отбору.
Ведь их всего-то было в обители несколько десятков, а может, и меньше. Кажется, одним из главных условий было, чтобы девочка была сирота. От родителей отрывать не полагалось. Разве что в многодетных семьях по искреннему желанию и родителей, и самой „кандидатки“. Надо, чтобы девочка была склонной к набожности. И еще, чтобы у девочки было расположение и способности к какому-нибудь рукоделию.
Не знаю, какие девочки там учились (служили), называясь крестовыми сестрами, не знаю, как там они ухаживали за больными (при обители была больница) или какими занимались рукоделиями, но по Прасковье Тихоновне могу судить, какими были воспитанницы Марфо-Мариинской обители, какого душевного богатства, какой душевной чистоты. Так что, если бы обитель „поставляла“ российскому обществу таких людей, хотя бы и в малом количестве, разве общество от этого становилось бы хуже?
И еще – вот. Я был в Чувашии на юбилее у своею друга, чувашского поэта Георгия Ефимова. Ну, пили, ели и пели. Потом Георгий и говорит:
– А у вас в Москве живет одна наша чувашка, причем она довольно известна.
– И кто же?
– Прасковья Тихоновна Корина.
Вот вам и великорусский шовинизм, вот вам и Россия – тюрьма народов!
…Днем позже екатеринбургского злодеяния в уральском городке Алапаевске сбросили живыми в старую шахту ближайших родственников Царя и Царицы, и в том числе родную сестру Государыни Елизавету Федоровну.
Ровно за тридцать лет до этого жуткого дня Великий Князь Сергей Александрович (взорванный потом подонком Каляевым) со своей супругой Елизаветой Федоровной совершили паломничество в Палестину, и в том числе, конечно, в Иерусалим. Был и повод. Русский царь Александр III построил в Иерусалиме, в Гефсиманском саду, православный храм во имя Марии Магдалины (его мать звали Марией). На освящение этого храма и приехали Сергей Александрович с супругой.
Иерусалим, Гефсиманский сад, храм Марии Магдалины – все это произвело на Елизавету Федоровну такое впечатление, что она сказала: „Как я хотела бы быть похороненной здесь“. Это произнесла красивая, полная радости и надежд молодая женщина, не думая, конечно, что исполнятся эти ее слова.
Русская армия пришла на Урал через четыре дня после екатеринбургского и алапаевского злодеяний. С царской семьей вопрос был ясен. Трупы жертв расчленены и уничтожены при помощи серной кислоты, керосина и огня. Но вот в Алапаевске в шахте трупы были найдены в целости и подняты на поверхность. Останки Елизаветы Федоровны начали (вместе с отступающей армией Колчака) свое двухгодичное путешествие через Читу, через Китай, через Египет в Иерусалим. Вместе с останками Великой Княгини везли и останки ее келейницы, ее крестовой сестры Варвары, которая не захотела расстаться с Елизаветой Федоровной ни когда ту арестовывали, ни когда их томили в Алапаевске, ни когда убивали.
Вдруг неожиданно предложили бесплатный круиз по Средиземному морю. Богатый бизнесмен по имени Валерий Митрофанович откупил на один рейс прогулочный лайнер „Тарас Шевченко“, чтобы прокатить некоторых современных интеллигентов по своему выбору. Впрочем, в выборе ему содействовал журнал „Новый мир“.
Я, хотя и противник разных круизов (организованный туризм), в этом случае согласился. Во-первых, на халяву, во-вторых, компания: Виктор Розов, Виктор Астафьев, Борис Екимов, Виктор Лихоносов, Сергей Залыгин, Владимир Маканин, Булат Окуджава, кое-кто из „киношников“, музыкантов… Были там еще какие-то фольклорные ансамбли, эстрадные певцы, да еще профессор филологии Петр Алексеевич Николаев…
А маршрут: Афины с их Акрополем, Египет с его пирамидами, Палестина (по-теперешнему Израиль) с Вифлеемом, Назаретом, горой Фавор и, естественно, с Иерусалимом, а дальше – Стамбул с его Айя-Софией.
Пароход наш стоял в Хайфе, из которой автобусы радиально возили нас на экскурсии. И вот я уговорил Виктора Лихоносова, и мы одну из таких экскурсий (если я скажу, что это была экскурсия на реку Иордан, то не каждый меня поймет), проявив сепаратизм, променяли на собственное мероприятие.
Как?! Променять реку Иордан? Где крестился Иисус Христос? И каждый год даже в нашем селе Алепине в крещенские дни в метровой толще прудового льда вырубали мужики восьмиконечный крест (но не насквозь) и наливали в этот крест чистой колодезной воды, и служили там молебен, и это называлось – Иордань. (В произношении алепинцев – Ердань.) И картина Иванова „Явление Христа народу“. И от всего этого отказаться?
Потом рассказывали нам наши туристы, как их полдня везли к Иордану, и они увидели небольшую реку с желтоватой водой и даже заходили в нее по пояс, но поскольку в одну и ту же реку дважды зайти нельзя… Одним словом, мы с Виктором Лихоносовым эту экскурсию пропустили. Что же мы сделали? Мы в Старом Иерусалиме зашли в город сверху, от Яффских ворот, и по узюшеньким улочкам, где арабская лавочка на арабской лавочке, и тут же разделывают туши, и россыпь разных самоцветных безделушек и четок, через весь Старый Иерусалим начали спускаться все вниз и вниз. Справа осталась „Стена плача“, где евреи в черных одеждах, в черных шляпах, с выпущенными по сторонам из-под шляп пейсами, то есть витиеватыми локонами, то истово кланялись стене, то замирали в поклонах. Мы спускались все ниже и ниже через Старый Иерусалим и наконец дошли до Кедрона. Когда-то это была река. Шли мы, видимо, той же дорогой, по которой провел своих персонажей (Иуду и красавицу гречанку Низу) Михаил Булгаков в своем романе: „– Иди в масличное имение, – шептала Низа, натягивая покрывало на глаза… – в Гефсиманию, за Кедрон, понял?.. Когда перейдешь поток… ты знаешь, где грот?.. Пройдешь мимо масличного жома вверх и поворачивай к гроту…“
Иуду (по версии Булгакова) зарезали, и „…весь Гефсиманский сад в это время гремел соловьиным пением“.
Один из убийц „…перелез через ограду сада… Вскоре он был на берегу Кедрона. Тогда он вошел в воду и пробирался некоторое время по воде, пока не увидел вдали силуэты двух лошадей и человека возле них. Лошади также стояли в потоке. Вода струилась, омывая их копыта…“
Однако, когда мы с Виктором Ивановичем спустились к Кедрону, никакой воды мы не увидели. Ни даже никаких признаков воды. Сухое-пресухое каменистое русло бывшей реки. Может быть, в ливневые дожди оживает на время Кедрон, но сейчас русло его (как, впрочем, и весь Старый Иерусалим) произвело на нас впечатление каменной суши.
Когда перейдешь сухо-каменистое русло Кедрона, местность поднимается в гору. Это и есть Елеонская гора, это и есть Гефсиманский сад. И тут… „этот пятиглавый храм, типичный образец русской архитектуры, и до сего дня – один из самых красивых храмов в Иерусалиме… Весь храм расписан академиком В. Верещагиным. Особенно замечателен его запрестольный образ – явление ангела Женам-Мироносицам, который стали копировать везде как верещагинский образ“.
Но мы пожертвовали поездкой на реку Иордан и тащились через весь Старый Иерусалим не ради верещагинского образа, не ради иконостаса, сделанного из белого мрамора „изящного узора очень тонкой работы и обрамленного темной бронзой“, не ради пола, сделанного из плит дорогого, ценного мрамора, или бронзового паникадила. Нет, мы шли поклониться гробнице и праху новомученицы российской, ныне причисленной к лику святых, зверски убиенной Елизаветы Федоровны. И Виктор Лихоносов не уставал говорить, что мы правильно поступили, совершив это паломничество в Гефсиманский сад. Мало ли что – Иордан, где Иисус крестился, а в Гефсиманском саду его предали предательским поцелуем и арестовали, что нам даже более понятно, нежели крещение в реке…
Я походил по Гефсиманскому саду, надеясь подобрать какой-нибудь сувенир, хотя бы кипарисовую шишку, и вдруг мне попался на глаза белоснежный округло-продолговатый камень со среднее яблоко. Ну конечно, он лежит сейчас на моем рабочем столе под портретом Елизаветы Федоровны, а также изображением церкви, где стоит гробница с ее прахом.
Сам-то я уж привык, но когда скажешь кому-нибудь, что камень из ГЕФ-СИ-МАН-СКОГО сада, даже и самому уже не верится. Из Гефсиманского сада!
А ведь тоже Елизавета Федоровна – в эмиграции. И тоже выпила свою чашу до дна.
* * *
Эта книга могла бы быть бесконечной. Только на Сент-Женевьев-де-Буа двадцать тысяч русских могил. Да русское кладбище в Ницце, да еще в Медоне, да еще в Сен-Клу. Да еще – Берлин, Прага, Варшава, Белград, София… Да о чем говорить? Можно взять одну судьбу (судьбу одного эмигранта) и о нем одном (о ней) написать целую книгу. Но это была бы другая задача, другой жанр, а значит, другая книга. Я же хотел лишь высказать некоторые свои соображения, мелькнувшие мысли и чувства на ТЕМУ или ПО ПОВОДУ. Поставить вроде дорожного указателя, говорящего, что в этом направлении можно идти.
Михаил Назаров (его книга попала мне в руки с запозданием) написал очень обстоятельный труд под названием: „Миссия русской эмиграции“. Книга изыскательно-обобщающая, публицистически-теоретическая, советую найти и прочитать.
У меня же была другая задача сообразно с особенностями моих (какими бы они ни были) литературных способностей. Мне важно было выразить в каждом отдельном случае (эпизоде) что-нибудь свое, что может пройти мимо другого писателя. Свою, так сказать, „изюминку“, свой взгляд (ракурс) на предмет. Ну и конечно же – освещение. Посмотреть на все через свой (меня поймут фотографы высокого класса) световой фильтр. В этом случае у меня не может быть конкурентов и соперников.
Когда думаешь о русской эмиграции, то невольно подмечаешь в чужих текстах соответствующие места. Так вот, читая поэму Андрея Вознесенского, поэта очень талантливого (сам себя он в тайне души, возможно, считает самым талантливым, и, возможно, он не так уж и не прав), итак, читая поэму Андрея, я вдруг почувствовал, что меня как если бы ударили чем-то тяжелым по голове. Судите сами. Вынужден выписать отрывок из поэмы Вознесенского от слова до слова. Замечу только, что речь в поэме идет о 1911 годе, о французском городишке Лонжюмо, где тогда (в 1911 году) жили в эмиграции несколько российских заговорщиков, экстремистов, будущих преступников, разрушителей и палачей России, когда настоящей русской эмиграцией еще и не пахло.
Итак, прочитаем, вникнем, насладимся:
Врут, что Ленин был в эмиграции.
(Кто вне родины – эмигрант.)
Всю Россию, речную, горячую,
Он носил в себе, как талант.
Настоящие эмигранты
Жили в Питере под охраной,
Воровали казну галантно,
Жрали устрицы и фанаты – эмигранты!
…В драндулете, как чертик в колбе,
Изолированный, недобрый,
Средь высокодержавных харь,
Средь нарядных охотнорядцев,
Под разученные овации
Проезжал глава эмиграции —
Царь!
Эмигранты селились в Зимнем.
А России сердце само —
Билось в городе с дальним именем
Лонжюмо.
Так вот, дорогие соотечественники. Оказывается, сердце России – не Москва первопрестольная и златоглавая с ее Кремлем, не Троице-Сергиева лавра с ее святостью, не Киев – матерь городов русских с его Софией и памятником Владимиру-Крестителю над Днепром, не могучая Волга (если не сердце, то хотя бы главная артерия), не древний Новгород с его памятником „Тысячелетие России“, не Петербург, наконец, связанный с именами Достоевского, Некрасова, Жуковского, Карамзина, Державина, Тургенева, не Петербург с его Казанским собором, Летним садом, могилами Александра Невского, Суворова, Кутузова (а ведь все они были державники, великодержавники, то есть – „хари“), не Святогорский монастырь с могилой Пушкина и Тригорским, не Московский университет, а ЛОН-ЖЮ-МО, где собрались десятка полтора недоучек (а все они были именно недоучки, это легко проверить, хорошо, если каждый из них закончил хотя бы гимназию), чтобы разработать заговор с целью захвата власти в России и ее дальнейшего уничтожения.
Список заговорщиков в Лонжюмо практически совпадает со списком пассажиров запломбированного вагона, в котором этих заговорщиков тайком на немецкие деньги провезли потом из Швейцарии в Россию. Список этих пассажиров известен точно, но прежде чем их перечислить, вспомним утверждение поэта, „потопчемся“ на его тексте о том, что Царя в России окружали великодержавные хари. Ну еще бы, что ни человек около Царя, то и – харя. Чехов – харя, Бунин – харя, Шаляпин – харя, князья и графы, государственные люди, (хотя бы члены Государственного Совета), изображенные Репиным на его огромном полотне, – все хари. Красавица Кшесинская (из очень близкого окружения Государя) – харя, Великие Княжны Ольга, Мария, Татьяна и Анастасия, Императрица и ее сестра Елизавета Федоровна – все хари. Патриарх Тихон – харя…
Список можно продолжать и продолжать, включая царских генералов, офицеров, отборных красавцев текинцев. Текинцы были личной охраной Царя, все один к одному на подбор. Еще до недавних пор жил в Туркмении писатель Берды Кербабаев – бывший сотник Текинского полка. Так он даже на съезде писателей выделялся своим ростом, осанкой, выправкой, да и вообще внешним видом. Посмотришь, и сразу видно, что текинец, к тому же – сотник. (Говорят, что когда чекисты начали отлавливать офицеров на предмет их убийства, то на улице в штатской одежде вычисляли и определяли офицеров по выправке и осанке. Но… хари.) Гвардейцы, кавалергарды, уланы, гусары, казачество, купечество: Третьяков, Мамонтов, Филиппов, Елисеев, Станиславский (купеческий, кстати, сын) – сплошные хари.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.