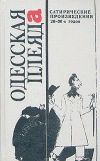Текст книги "Чаша. (Эссе)"

Автор книги: Владимир Солоухин
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 7 (всего у книги 12 страниц)
Тихо тянутся сонные дроги
И лениво ползут под откос.
И печально глядит на дороги
У колодцев распятый Христос.
Что за ветер в степи молдаванской!
Как поет под ногами земля!
И легко мне с душою цыганской
Кочевать, никого не любя!
Как все эти картины мне близки!
Сколько вижу знакомых я черт!
И две ласточки, как гимназистки,
Провожают меня на концерт.
Звону дальнему тихо я внемлю
У Днестра на зеленом лугу
И Российскую горькую землю
Узнаю я на том берегу.
И когда затихают березы
И поляны отходят ко сну,
О, как сладко, как больно сквозь слезы
Хоть взглянуть на родную страну!
Выслушав эту песню, Сталин сказал: «Пусть приезжает».
Конечно, было перед этим письмо Молотову из Китая:
«Двадцать лет я живу без Родины. Эмиграция – большое и тяжелое наказание. Но всякому наказанию есть предел. Даже бессрочную каторгу иногда сокращают за скромное поведение и раскаяние… Разрешите мне вернуться домой… У меня жена и мать жены. Я не могу их бросать здесь и поэтому прошу за всех троих… Пустите нас домой».
Мне кажется, что письмо не исключает легенды. Ведь именно когда Молотов докладывал Иосифу Виссарионовичу о письме Вертинского, Сталин и мог буркнуть: «Пусть допоет». Далее все по тексту.
Александр Николаевич Вертинский есть уникальнейшее явление в русской культуре. Почти любому явлению в области искусства можно найти аналог. Да, Шаляпин пел лучше многих, а если говорить точнее – лучше всех. Но лучше всех он пел в рамках вокального, привычного нам оперного либо народно-песенного искусства и репертуара. Да, Бунин был первоклассным писателем, но он работал в традициях великой русской литературы. Его можно сравнивать при желании или необходимости с Чеховым, с Леонидом Андреевым, с Короленко… Анна Павлова была великая балерина, но она танцевала в пределах привычного всем классического балета, пусть и лучше других.
Вертинский пришел в искусство не похожим ни на кого. Во всей позднейшей эстраде, которая теперь захлестнула весь мир, со всеми ее бардами, менестрелями, со всеми ее Высоцкими, Розенбаумами, не говоря уже о «роке», мы не найдем похожего на Александра Вертинского. И заметьте: он ни разу не пел с микрофоном, а тем более не пользовался жульнически фонограммами, когда певец или певица мечется по сцене с микрофоном около рта и открывает рот, делая вид, что поет, а на самом деле поет за него или нее фонограмма. Без преувеличения можно сказать, что Вертинский к этому времени стал уже легендой, дошедшей из давнего-давнего времени. Грампластинок с его песнями и никаких записей не было. Его песни кустарно переписывали на рентгеновские пленки, которые сворачивались в трубку и так продавались из-под полы. Я сам купил одну такую «пластинку» изображением затененного легкого. А песенка была «Чужие города». Вертинскому разрешили давать концерты, и залы были набиты битком. Один концерт состоялся в театре имени Пушкина (в бывшем Камерном), а это бок о бок с нашим Литературным институтом. Мы ходили на этот концерт. Так я в первый и последний раз видел и слушал живого Вертинского.
Но климат есть климат. Тем более что Сталин умер, а он был, судя по всему, хоть и не очень рьяным, но все-таки покровителем Александра Николаевича. По крайней мере, Вертинскому дали сыграть в нескольких фильмах: «Анна на шее» по Чехову, где он играл старого князя, и не то «Секретная миссия», не то «Заговор обреченных». За участие в этом фильме Вертинский (вместе с коллективом, разумеется) получил Сталинскую премию. Ведь подумать только: Вертинский – лауреат Сталинской премии!
Тем не менее уже в 1956 году певец вынужден обратиться с письмом к зам. министра культуры С.В. Кафтанову. Вот отдельные строки из этого письма: «…Я уже по 4-му и 5-му разу объехал нашу страну. Я пел везде – и на Сахалине, и в Средней Азии, и в Заполярье, и в Сибири, и на Урале, и в Донбассе, не говоря уже о Петрах. Я заканчиваю уже третью тысячу концертов… все это мне дает право думать, что мое творчество, пусть даже и не очень „советское“, нужно кому-то и, может быть, необходимо. А мне уже 68-й год!.. Сколько мне осталось жить?.. Все это мучает меня. Я не тщеславен. У меня мировое имя, и мне к нему никто и ничего добавить не может. Но я русский человек! И советский человек. И я хочу одного – стать советским актером. Для этого я и вернулся на Родину… Вот я и хочу задать Вам ряд вопросов:
1. Почему я не пою по радио? Разве Ив Монтан, языка которого никто не понимает, ближе и нужнее, чем я?
2. Почему нет моих пластинок? Разве песни, скажем, Бернеса, Утесова выше моих по содержанию и качеству?
3. Почему нет моих нот, моих стихов?
4. Почему нет ни одной рецензии на мои концерты? Я получаю тысячи писем, где спрашивают обо всем этом. Я молчу… А годы идут. Сейчас я еще мастер. Я еще могу! Но скоро я брошу все и уйду из театральной жизни. И будет поздно. И у меня останется горький осадок. Меня любит народ и не заметили его правители!..»
Ну что же, у каждого своя чаша.
Я не могу не рассказать и еще об одной сверхнеожиданной встрече с Вертинским, происшедшей совсем недавно.
Поскольку я люблю его искусство, я всегда, у кого только мог, выпрашивал кассеты с записями его песен, чтобы переписать для себя. И вот однажды сижу и слушаю такую, только что добытую кассету… «Над розовым морем», «Ракель Меллер», «Желтый ангел», «Концерт Сарасате», «Буйный ветер играет терновником», «Я помню эту ночь, вы плакали, малютка»… и вдруг! Я не поверил своим ушам. Перемотав, вернулся к началу песни. Пел он где-то в воинской части, ибо только в солдатской аудитории то и дело слышится кашель. Это я помню еще с тех времен, когда и сам был солдатом. Пока я слушал песню в третий раз, я пришел к твердому убеждению: и слова тут, и музыка самого Вертинского. Уникальная песня, уникальная запись. В тишине певец произносит короткое название песни – «Он», а затем проникновенно поет. Так что же – знал или нет «персонаж» этой песни о ее существовании? А если знал, то почему не пошевелил пальцем для ее популяризации? И о чем это говорит? Итак:
ОН
Чуть седой, как серебряный тополь,
Он стоит, принимая парад.
Сколько стоил ему Севастополь?
Сколько стоил ему Сталинград?
И в седые, холодные ночи,
Когда фронт заметала пурга,
Его ясные, яркие очи
До конца разглядели врага.
В эти черные тяжкие годы
Вся надежда была на него.
Из какой сверхмогучей породы
Создавала природа его?
Побеждая в военной науке,
Вражьей кровью окрасив снега,
Он в народа могучие руки
Обнаглевшего принял врага.
И когда подходили вандалы
К нашей древней столице отцов,
Где нашел он таких генералов
И таких легендарных бойцов?
Он взрастил их. Над их воспитаньем
Долго думал он ночи и дни.
О, к каким роковым испытаньям
Подготовлены были они!
И в боях за отчизну суровых
Шли бесстрашно на смерть за него,
За его справедливое слово,
За великую правду его.
Как высоко вознес он Державу,
Мощь советских народов-друзей.
И какую великую славу
Создал он для отчизны своей.
Тот же взгляд, те же речи простые,
Так же мудры и просты слова.
Над разорванной картой России
Поседела его голова.
Скорее я позвал своего приятеля, дача которого в пяти минутах ходьбы, фронтовика и даже участника Сталинградской битвы. Хотелось поделиться такой находкой. Особенно «злободневно» теперь, в 90-е годы, при полном развале государства, звучали слова:
Как высоко вознес он Державу,
Мощь советских народов-друзей.
И какую великую славу
Создал он для отчизны своей.
Все ниже клонилась голова моего «сталинградца», под конец даже не слезинка ли сверкнула в уголке глаза. Он тихо, с горечью сказал: «Всё мы растеряли, всё…» Возражать я не стал.
* * *
Следующим «возвращенцем», с которым меня свела судьба, был Лев Дмитриевич Любимов, сын члена Государственного Совета. На известнейшем огромном полотне Репина, где изображен весь Государственный Совет, присутствует и Дмитрий Любимов, а теперь вот Лев Дмитриевич возвратился из Парижа, опубликовал в журнале «Новый мир» свою документальную прозу «На чужбине», стал известен в литературных кругах, и – теперь уж не помню где и как – мы познакомились. Это знакомство повлекло за собой целую цепочку знакомств и событий, которые тянутся до сих пор, хотя самого Льва Дмитриевича давно уже нет на свете. Лежать бы ему на Сент-Женевьев-де-Буа, а теперь кладбище Головинское. Но тогда, в шестидесятые годы, до этого было еще не близко.
Почему-то людей, возвратившихся из эмиграции, распределяли на жительство по другим городам. Василий Витальевич Шульгин, например, жил у нас во Владимире на Кооперативной улице, а Льву Дмитриевичу предписали Казань. Но он был еще сравнительно молод, активен, образован, не бездарен, напротив, способен как литератор, трудолюбив. И к тому же опубликовал свою книгу у Твардовского в «Новом мире». Короче говоря, он женился на москвичке, на русской темноволосой («Русь темная») красавице Екатерине Васильевне. Чистая Анна Каренина, только значительно уж постарше, чем в известном романе. Дворянка. А жила она (ютилась) в Измайлове в двухэтажном, можно сказать, бараке. Таким образом Лев Дмитриевич стал москвичом. Я его как-то раз позвал домой обедать, он решил отплатить мне тем же, вот я и оказался в том Измайлове.
У Екатерины Васильевны была дочь, студентка филологического факультета МГУ, а у Льва Дмитриевича был приятель по Парижу Александр Львович Казем-Бек. Он частенько навещал Льва Дмитриевича, и вскоре восемнадцатилетняя студентка Сильва и пятидесятилетний Александр Львович Казем-Бек поженились.
Теперь о Льве Дмитриевиче и об Александре Львовиче, о каждом по несколько слов, по отдельности.
Книга «На чужбине» помогла Любимову занять хоть и не очень громкое и высокое, но положительное и спокойное место, как говорится, в обществе.
Он даже ездил на побывку в Париж, хотя и знал, что там, в среде русской эмиграции, к его возвращению в СССР относятся не однозначно. «Я решил так, – говорил Лев Дмитриевич, – сам никому звонить и напрашиваться на встречу не буду. Но если позвонят мне – разговоров и встреч не избегать».
Тут я решил похвалиться: «Я ведь тоже бывал в Париже. Три раза по двадцать дней. Если все сложить, получается два месяца».
– Ну, мне до вас далеко… Я был в Париже всего только один раз… Правда – двадцать четыре года.
Вдруг он начал писать и издавать искусствоведческие книги о великих художниках Возрождения. Красиво изданные, с большим количеством иллюстраций, эти его книги пользовались успехом и популярностью, а Льву Дмитриевичу приносили материальное благополучие. Ведь это была не одна книга, а – серия книг.
Однажды он обратился ко мне с просьбой:
– Хочу вступить в Союз советских писателей. Дайте мне, пожалуйста, рекомендацию.
– Зачем вам? Живете вы спокойно, материально обеспечены, книги издаются. Чего вам еще?
– А почему? Я живу в Советском Союзе, среди советских писателей. Почему бы и мне не быть членом СП? Алексей Толстой был членом СП?
– Наверное, был.
– Вот и я хочу тоже.
Рекомендацию я написал, и настал день, когда в Московском отделении в приемной комиссии разбиралось заявление Л. Д. Любимова.
Здесь надо сделать отступление и рассказать, что у нас в Московском отделении Союза писателей в должности оргсекретаря был тогда Виктор Николаевич Ильин. В прошлом генерал-лейтенант, он успел «посидеть», потом ушел в отставку и стал оргсекретарем Московской писательской организации. Он принес к нам, сюда, стиль работы и методы из прежней своей организации. Завел картотеку, о каждом из нас он стремился знать все.
Впрочем, надо сказать, что человек он был неплохой, даже, пожалуй, доброжелательный, а главное, не лишенный остроумия.
Известен эпизод, когда к нему в кабинет пришла поэтесса Белла Ахмадулина. Накануне она сильно подгуляла на приеме в итальянском посольстве, ну… выпила лишнего, как это с ней часто случалось. Кажется, даже свалилась и уснула, успев надерзить кому-то из дипломатов. А сегодня она пришла на прием к Виктору Николаевичу Ильину.
Виктор Николаевич писал что-то, низко, по своему обыкновению, наклонившись очками над листом бумаги. На мгновение он взглянул на робко присевшую поэтессу и опять уткнулся в бумагу.
– Я вас слушаю…
– Я насчет поездки в Лондон…
– Должен огорчить вас (не отрываясь от бумаги), ваша поездка в Лондон не состоится.
– Это что? Из-за вчерашнего приема в итальянском посольстве?
Ильин, конечно, ничего не знал еще о вчерашнем вечере, но опять стрельнул в просительницу взглядом:
– Из-за вчерашнего приема в итальянском посольстве вы, Белла Ахатовна, не поедете в следующий раз…
Этот-то Виктор Николаевич Ильин присутствовал на собрании, когда принимали в Союз писателей Льва Дмитриевича Любимова. Никаких проблем вроде бы не было. Роман опубликован в «Новом мире». Издавался отдельной книгой, издаются и другие искусствоведческие книги, и все это на хорошем профессиональном уровне.
Ставим вопрос на голосование.
– Минуточку, – сказал Виктор Николаевич и исчез. Откуда-то из своих сейфов и картотек он принес какие-то листочки.
– Цитирую, – сказал Виктор Николаевич, – газета «Возрождение». 1941 год. Париж. «Гитлер – наше спасенье, наше солнце, Гитлер – наша надежда…» Лев Любимов.
– Ну так что, – горячился Любимов. – Да, я это писал. В свое время. Я и не скрываю, но после этого я писал многое другое…
Так-то так. Но вопрос о приеме Любимова в СП СССР после этих цитат отпал сам собой.
Потом уж я узнал, что Лев Дмитриевич не просто печатался в «Возрождении», но заведовал в этой газете отделом публицистики. Переход в СП СССР был бы слишком резок.
Теперь об Александре Львовиче Казем-Беке. Как-то так получилось, что Екатерина Васильевна и Лев Дмитриевич передали меня как бы по эстафете. Александр Львович и Сильва Борисовна жили на Фрунзенской набережной. Александр Львович Казем-Бек происходил из старинного дворянского рода выходцев из Ирана. Об одном из его предков я вычитал: «Казем-Бек Мурза Мухаммед Али (Александр Касимович), русский востоковед, член-корреспондент Петербургской Академии наук (1835). Сочинения по истории Кавказа, Ирана, Средней Азии, Крыма, истории Ислама, иранского и тюркского языков».
В XIX веке Казем-Беки породнились с Толстыми, а сын ученого, Лев Александрович, в предреволюционные годы командовал уланским полком. От этого улана и произошел Александр Львович. После 1917 года Александр Львович, естественно, оказался в эмиграции.
Там, в Париже (в Праге, в Берлине, Белграде, Софии), собрались россияне всех поколений. Были люди совсем преклонного возраста, просто пожилые, но была и молодежь.
Молодежь всегда более активна, более нетерпелива, более склонна к экстремизму. Во второй половине 20-х и в начале 30-х годов эмигрантская русская молодежь начала объединяться в организацию.
Вообще это было время, когда на земном шаре люди искали себе вождей. В Италии это откристаллизовалось в Муссолини, в Испании – во Франко, в Германии – известно в кого, в Москве вождь уже был, но и он был обуреваем новыми диктаторскими идеями.
Во Франции русская эмигрантская молодежь объединилась в партию младороссов. Во главе этой партии встал Александр Львович Казем-Бек. Когда он на каком-нибудь собрании (сборе, митинге) шел по проходу, образованному собравшимися, или поднимался на трибуну, молодые россы вскидывали вверх правую руку и скандировали: «Глава! Глава! Глава!» Ну вот, а теперь с этим «Главой», с этим вождем младороссов мы мирно беседовали на Фрунзенской набережной, и Сильва Борисовна угощала нас горячей и острой «гусарской» закуской – сосисками в томате.
О младороссах можно найти и в воспоминаниях Вертинского.
«В среде русской молодежи, принадлежащей к аристократическим кругам, приблизительно в 30-м году возникло так называемое „Младоросское“ движение. Много личных и семейных драм пришлось пережить его участникам, всем этим кадетам, лицеистам, пажам, правоведам, юнкерам гвардейских школ, когда они не только осознали свою приверженность родной стране при всех обстоятельствах, но и громко, на всю русскую Францию, заговорили об этом, на удивление и негодование своим родителям. Князья Оболенские, граф Красинский (сын Кшесинской и Великого Князя Андрея Владимировича)… Воронцовы-Вельяминовы – весь аристократический молодняк, все те сотни сильных и здоровых молодых людей, которые жили в Париже, группировались во главе с Великим Князем Дмитрием Павловичем вокруг младоросской газеты „Бодрость“. По содержанию своему эта газета оправдывала свое название. Она звала молодых людей к труду, внушая им, что надо накапливать силы и знания… Она учила познанию своей страны и ее великой истории».
О младороссах существует обильная литература, пресса, архивы. Да вот теперь, в 1995 году, в Историко-архивном институте Александр Николаевич Закатов защитил толковую дипломную работу под названием «Археографическое освоение источников по истории партии младороссов 1923—1941 гг.».
Отдельные положения этой дипломной работы, даже отдельные фразы ее дают представление о том, что это было за явление – союз, или партия младороссов.
«Монархическая группировка, состоящая преимущественно из эмигрантской молодежи, не побоялась взять на вооружение шокирующие старую эмиграцию лозунги, заимствованные из фашистской и советской практики, типа „Царь и Советы“, с целью приблизить монархическое движение к реальной жизни в Советском Союзе. Объявив целью движения русскую национальную революцию, вернее, стремление повернуть революцию на национальный путь, младороссы пытались в своих построениях сочетать несочетаемое: советскую власть и монархический строй.
Они утверждали, что стремятся к победе национальной реальности над классовой мистикой, и выдвинули лозунг „Царь и Советы“, в котором хотели видеть соединение национальной традиции России с признанием результатов революции… Казем-Бек отстаивал синтез старого и нового порядка – монархию, возглавляемую Великим Князем Кириллом и в большой степени опирающуюся на советские институты, то есть большевистскую монархию».
Но разве не к большевистской монархии вел дело Сталин, решив опереться в своей государственной деятельности на коренное население страны (а для этого достаточно растрепав интернациональные ленинские кадры), вернув церкви, Патриарха, Троице-Сергееву лавру, а с ней Духовную семинарию и Духовную академию, возродив гвардию, погоны, кадетские училища, введя раздельное обучение, культивируя бальные танцы, сняв с себя пост генсека, привезя в Кремль двуглавых орлов, чтобы заменить ими пресловутые кремлевские звезды?
Александр Львович в Москве был, по-советски говоря, хорошо трудоустроен. Он служил в канцелярии Патриархии, а именно в отделе внешних сношений. Наверное, там был и митрополит, заведовавший этим отделом, но человек с европейским кругозором и со знанием нескольких языков, конечно, был в Патриархии очень полезен. Его впоследствии и похоронили в Переделкине, но не на общем поселковом кладбище (где Корней Чуковский и Пастернак), а на маленьком кладбище при патриаршей церкви, внутри церковной ограды, по правую руку от абсиды.
Хотя в литературе о младороссах и были кое-какие намеки, что, возможно, «Глава» был как-то связан с Советским Союзом, однако А.Н. Закатов правильно пишет в своем дипломе, что, учитывая волну советского патриотизма, захлестнувшую эмиграцию после победы СССР в войне, этот факт – возвращения Казем-Бека в СССР – не может быть достаточным доказательством таких связей.
Надо вспомнить, что сотни и тысячи русских эмигрантов вступили тогда в так называемый Союз советских патриотов (ССП), получили советское гражданство и советские паспорта.
Что касается меня, то, угощаясь сосисками в томате, я не имел и тени подозрения, что, возглавляя партию младороссов, Александр Львович вел какую-нибудь игру. Более того, когда несколькими годами позже я написал книгу «Последняя ступень» и понадобилось спрятать рукопись этой книги в надежном доме, у надежных людей, я выбрал именно их: Сильву Борисовну и Александра Львовича. Сильва Борисовна говорила мне, хохоча:
– Вас расстреляют трижды. Во-первых, вас расстреляют коммунисты, во-вторых, вас расстреляют сионисты, в-третьих, вас отдельно застрелит прототип главного персонажа книги…
Как-то раз, будучи в гостях у Казем-Беков, я обмолвился, что собираюсь поехать в Грузию.
– Сначала в Кобулети, а потом проеду в Тифлис.
– Так у меня же там родная сестра, Мария Львовна! – воскликнул Александр Львович. – Запишите ее телефон и обязательно ей позвоните, а я со своей стороны предупрежу ее о вашем возможном приезде…
Так мое знакомство с «возвращенцами» сделало новый «расширительный» виток.
Мария Львовна была (как Александр Львович – сыном) дочерью командира уланского полка. Потом уж, когда во время достойных застолий поднимали тост за Марию Львовну, говорилось, что она единственный человек на территории бывшей России, кому Государь лично отдавал честь. А дело в том, что уланы, любя своего командира, сшили для его шестилетней дочки уланскую форму и, когда проходил смотр полка самим Государем, ставили ее на левом фланге. Государь, обходя полки и дойдя до левого фланга, брал перед девочкой под козырек.
В Париже, в эмиграции, Мария Львовна вышла замуж за грузинского князя – тоже эмигранта – Михаила Чавчавадзе. У них родились два мальчика – Зураб и Миша. Вся эта семья после победоносной войны возвратилась в СССР, а точнее, на родину главы семейства, а Грузию. Сначала все шло очень хорошо. Им дали квартиру, в Тбилиси нашлось достаточное количество грузин, которые хотели бы (либо их дети) знать французский язык, так что материальных забот могло не быть. Мария Львовна как учительница французского языка (да еще и фамилия – Чавчавадзе) пошла нарасхват. Но тут сказалась полная «советская» непредсказуемость. Вся семья вдруг была арестована. Сам князь оказался в сибирском лагере, а Мария Львовна с двумя мальчиками (7 и 5 лет) – в ссылке в Казахстане. Она «трудоустроилась» секретарем-машинисткой у директора совхоза – казаха, который звал ее Шапшабадзе. Что уже она там, владея несколькими языками, печатала в конторе совхоза, какие такие распоряжения и сводки, мы не знаем, но семейное предание сохранило один эпизод. Однажды директор кричит:
– Шапшабадзе, иди сюда, тебе денежный перевод.
Какой-то безымянный благодетель прислал из Москвы солидную сумму. Марии Львовне разумно посоветовали купить на часть этих денег ягненка, барашка. Теперь весна, травка. К осени барашек вырастет, и у них будет много мяса. Сказано – сделано: барашка купили и назвали его Костькой, а получалось, когда звали вслух, – Коська.
Коська рос не по дням, а по часам. Пока Мария Львовна стучала на машинке, дети играли с барашком, и вскоре он стал у них как член семьи. О том, чтобы зарезать Коську, не могло быть и речи, а тем более есть его мясо. Не получилось бизнеса у Марии Львовны с сыновьями.
Потом всей семьей разрешили вернуться в Тбилиси. Квартира их дожидалась. К тому времени, когда я впервые позвонил туда, а потом и приехал, Михаила Николаевича Чавчавадзе уже не было в живых. По древней грузинской традиции, гроб через всю Кахетию несли на руках и положили в церкви в городке Кварели, в родовом имении князя.
Мое личное знакомство с Марией Львовной и с ее сыновьями состоялось, когда «мальчики» были уже взрослыми людьми. Зураб учился в Тбилисском университете на филологии, а Миша был актером Тбилисского юношеского театра. И у Миши был уже свой маленький Миша, которого я тотчас же прозвал Михал-Михал-Михалыч.
Моя первая встреча с этой семьей ознаменовалась прямо-таки фантастическим событием, и забыть этот день невозможно. Ну, в обеденное время перекусили, а потом Зураб говорит:
– А теперь поехали собирать рыжики.
– Какие рыжики? Рыжик – это гриб северный, вятский, вологодский, архангельский. Ну, разве еще в Сибири… Здесь же эти голые пересохшие холмы, дикая жара, почти совсем нет дождей… Какие туг рыжики?
Однако – поехали.
Оказывается, по этим сухим, пересохшим, прокалившимся на южном солнце холмам грузины вокруг всего города насадили сосенок. Сосенки принялись. Получился молодой сосновый лесок. Можно бы сказать – лесной пояс.
Не буду интриговать читателя, не буду и расписывать те чувства, когда в зеленой травке вдруг видишь «цепочку» настоящих северных рыжиков. Скажу сразу, за каких-нибудь два-три часа мы насобирали восемнадцать килограммов отборных, боровых, крепеньких, ярких, с загнутыми внутрь краешками шляпок, преимущественно молоденьких рыжиков!
Ужин по возвращении на Какабецкую улицу можно было бы назвать грибным путчем, грибной (рыжиковой!) вакханалией. Рыжики жареные, рыжики отварные, рыжики маринованные, рыжики сырые, только что присыпанные сольцой на решетку… Да еще засолили и замариновали впрок.
Совпало так, что, когда мы поглощали рыжики в разных видах (ну, и – соответственно), показывали по телевидению какой-то водевиль из жизни прошлого века. Там шла гусарская пирушка. Оживленные разговоры, возбужденные речи… Вдруг гусарский командир спохватывался и прерывал все разговоры:
– Господа, господа, соединим наши усилия!
Все чокались, выпивали и опять возвращались к разговорам до следующего возгласа командира: «Господа, соединим наши усилия!» Тотчас к нам прицепилось это выражение. Скажем, позвонив Зурабу (или он мне), можно было сказать без боязни, что он меня не поймет: «Что-то давненько мы не соединяли наши усилия». Или: «Пора бы уж нам соединить наши усилия».
На другой день была знаменательная поездка в Кварели, то есть, значит, через всю Грузию, через Телави, через Алаверди (старинный храм-монастырь), через перевал – до восточной оконечности Грузии, до Кварели. Там в храме все Чавчавадзе поклонились могиле князя Михаила, и я с ними, хотя при жизни мы не успели познакомиться.
А теперь уж и Мария Львовна лежит рядом с ним. Так окончилась эмигрантская одиссея Марии Львовны Казем-Бек и Михаила Николаевича Чавчавадзе, тоже, кстати сказать, младоросса. Мало ли что грузин – россиянин.
Обратно в Тифлис мы ехали уже по темну. Эта вечерняя дорога ознаменовалась одним лишь, но приятным событием. Захотелось пить. Я стал просить Зураба где-нибудь остановиться, где была бы вода. Справа от дороги стояли грузинские двухэтажные дома, каждый на одну семью. Можно было бы назвать их коттеджами, но как-то непривычно применительно к Грузии. Дома эти окружены садами, деревьями, виноградными лозами. Перед одним домом в саду, под развесистым деревом, стоял стол, над ним свешивалась электрическая лампочка, а за столом сидели грузин и грузинка. Они сидели и ужинали.
– Зураб, давай остановимся. Неужели не дадут попить? Это же Грузия. Насколько я ее знаю…
Пошли, открыли калитку. Остановились возле стола. Зураб представился, произнеся: «Чавчавадзе», – представил свою мать и меня. Хозяин дома подскочил на своем стуле, как будто его снизу укололи булавкой. Тотчас появились еще три стула. Тотчас появились на столе еще три стакана. Тотчас появился около стола на земле большой глиняный кувшин с вином, а на столе… кое-что появилось и на столе. Через час или полтора мы поехали дальше, и пить нам уже не хотелось.
* * *
Во второй половине XIX века в России произошел невиданный всплеск национального самосознания, возрождения национального искусства. Эта вспышка захватила все области культуры и практически все слои населения, причем можно предполагать в явлениях тогдашней культурной и даже политической жизни взаимообратную связь. Например, Третьякова с его собирательством живописи подняла эта волна, но и он и его галерея способствовали подъему этой волны. Допускаем, что именно подъем русского духа способствовал тому, что Россия вступила в войну с Турцией за освобождение Болгарии, но освобождение этого родственного нам православного народа, в свою очередь, усилило всплеск национального сознания, о котором мы говорили.
Дополнительным условием надо считать и то, что к этому времени в России окрепло и расцвело купечество, а также, как мы теперь сказали бы, крупная промышленная буржуазия. Попросту говоря, появилось много людей, у которых оказалось много и даже очень много денег. Россия оказалась богатейшей страной.
Сергей Константинович Маковский, сын известного художника («Дети, бегущие от грозы»), основатель и издатель литературно-художественного журнала «Аполлон», основатель и издатель журнала «Старые годы», проявивший себя как охранитель и ценитель старины (Сент-Женевьев-де-Буа, могила № 2487), так писал об этом русском ренессансе:
«От времени до времени в жизни каждой страны сотворяются эпохи, овеянные призраками столетий. В эти эпохи художественное творчество наций как будто вспоминает: нарождающиеся мелодии будят эхо далеких песен, новые формы выявляют красоту бесследно минувшего. В эти эпохи воскресшая национальная старина делается близкой и любимой. Она манит к себе, как прекрасное марево. Ее скрытые силы, исходя точно магнетические волны из смутных глубин народного духа, начинают действовать на творческое сознание современности, и поколения художников, завороженные ими, приобретают дар ясновидения».
Да, искусство мало того что как бы вспомнило детство народа, давние исторические времена, но и обратилось к сегодняшней (тогдашней) народной жизни, а вернее сказать – обратилось к душе народа, которая, конечно, едина во все времена, пока жив народ, но может быть либо загромождена историческими наслоениями, либо очищена от них, выявлена и ярко выражена. Она может либо ярко пылать, либо чадить, дымить, она либо до болезненности чутка, либо заторможена, анестезирована.
Это была эпоха открытия древнерусской живописи (из-под позднейших наслоений), эпоха утверждения русской оперы и симфонической музыки, эпоха Мусоргского («Хованщина» и «Борис Годунов»), Бородина («Князь Игорь» и «Богатырская симфония»), Римского-Корсакова («Снегурочка»), Чайковского, Стасова, Островского, Достоевского, Толстого, Тургенева, Чехова, Блока, Бунина, Васнецова, Рериха, Врубеля, Крамского, Перова, Сурикова, Нестерова… Эпоха Станиславского и Шаляпина, Малого и Художественного театров, частной оперы Саввы Ивановича Мамонтова и Третьяковской галереи. Это была эпоха Тенишевой и ее Талашкинских мастерских…
Впрочем, помимо объективных причин, о которых мы тут рассуждали, может быть, и у целого народа, как и у отдельного человека, бывает предчувствие событий, опасности, гибели. Ведь именно перед гибелью Россия озарилась ярким сиянием своей красоты.
Мы написали имя Тенишевой. Каждое явление культурной жизни возникает при соединении нескольких предпосылок, причем как объективных, так и субъективных, включая личные качества человека. Впрочем, личность тоже ведь явление культурной и общественной жизни и тоже формируется, а потом и действует под влиянием многих внешних причин.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.